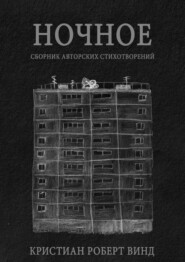По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воронья хижина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда же юный почтальон разнес по округе невиданную новость, что к тому в скором времени перебирается осиротевший внук, то следует ли говорить, какие диковинные истории сразу же начал травить деревенский молодняк со всех окрестных поселений? Старики же в Черешневом только молча молились перед сном за несчастного ребенка, стоя под иконами и не понимая, отчего Господь уготовил ему такую печальную, полную лишений судьбу…
Черешневое, июль 1988 г.
Старик, скрипя не меньше своих проржавевших ворот, вышел за порог и остановился перед машиной. Вдалеке все еще витал пыльный туман, будто сама земля была встревожена таким внезапным вторжением и хотела предупредить местных жителей об опасности, давая условный сигнал.
Сухая пожилая женщина выгружала из багажника чемоданы, складывая их возле ворот. Водитель дряхлой машины сидел за рулем, всем своим видом демонстрируя, что он не собирается кому-либо помогать или покидать свое место, что он очень спешит и собирается вдавить педаль газа, едва последние пожитки окажутся на земле.
На пассажирском сидении сгорбилась маленькая худая фигурка, как будто она хотела еще больше вжаться в саму себя, сделаться полупрозрачной и незаметной, раствориться и растаять в раскаленном деревенском воздухе. Женщина закончила выгружать содержимое багажника, со вздохом отряхнула руки, вернулась к машине и открыла заднюю дверцу, приглашая маленького пассажира покинуть свое насиженное место.
Все это время старик молча стоял у ворот, в тени лохматого высокого ореха, облокотившись спиной о его ветвь, угрюмо наблюдая за всем происходящим. Ему не нравились ни чемоданы, которые аккуратной горкой сгрудились у его дома, ни водитель, который нервно выстукивал мелодию пальцами о руль, с раздражением поглядывая на свои наручные часы. Но больше всего ему не нравился мерзкий человечек, который вот-вот должен был показаться из машины, ступить ногами на его землю, переступить порог его дома и принести с собой массу тягостных и неприятных хлопот, насущных забот и Бог знает каких еще бесчисленных проблем.
Когда из машины показались блестящие лаковые туфельки, а вслед за ними – худые девичьи ножки, старик закашлялся больше обычного, с отвращением сплюнув на землю горькую зеленоватую слизь.
– Вы там совсем спятили, как я погляжу, – откашлявшись, грубо гаркнул он пожилой женщине. – Я думал, ко мне привезут внука. В письме было указано, что ребенка зовут Мишей. С каких пор… этих… – он с раздражением махнул рукой в сторону сконфуженной девочки, – называют мужскими именами?
Женщина, по-видимому, работница сиротского приюта, попыталась приветливо улыбнуться, подтолкнула смущенную девочку к старику, всунула ей в руки круглую коробку с тортом:
– Ну же, Микаэлла, не нужно переживать. Подойди к дедушке, отдай ему торт, пока он совсем не растаял на этом солнцепеке, – с некоторой опаской она покосилась на старика, когда тот без малейшего желания взял в руки протянутую ему коробку, пристально уставившись на девочку, как будто хотел пригвоздить ее к месту одним своим взглядом. – Извините, Захар Петрович, видимо, произошло недоразумение – мы не указали, что у вас внучка, нам было совсем не до этого… Понимаете, так много хлопот со всевозможными бумагами…
Но старик ее даже не слушал. Все его внимание было приковано к внучке. Она замерла, потупив голову с длинными волосами, убранными на затылке в хвост, судорожно сжимая небольшую плюшевую сумочку в форме мишки. Все ему казалось в ней отвратительным и раздражающе-неуместным: и ее нелепая, яркая одежда, и эта прическа, и даже белая кожа, которая раскраснеется и покроется ожогами после первого же дня под палящим деревенским солнцем. Девочка, казалось, прекрасно все понимала, она ни разу не подняла головы и не посмотрела старику в глаза.
– … И я очень сожалею о трагической кончине Вашего сына, я…
Женщине не удалось закончить свой монолог, старик нетерпеливо крякнул, оборвав ее на полуслове:
– Да-да, хватит уже тратить мое время. У меня много забот, так что поезжайте туда, откуда прибыли. Я не могу торчать здесь весь день, выслушивая эту ахинею. А тебе бы следовало привести себя в нормальный вид, ты не на пляски приехала. Сомневаюсь, что в свинарнике кто-то оценит твои наряды, – добавил он, все так же пристально сверля девочку взглядом. Затем он резко повернулся и молча пошел в дом, оставив внучку стоять за воротами в окружении своих чемоданов и растерянной работницы приюта.
– … Ничего, не плачь, дорогая… Просто ему нужно время, он обязательно тебя полюбит, посмотри, какая ты милая… Ну не расстраивайся… Ты привыкнешь, здесь так хорошо – свежий воздух… – донеслись до его уха обрывки сдавленных фраз, когда он поднимался на порог, но громкий стук захлопнутой двери оборвал все звуки со двора, как будто поставив жирную точку на его привычной, обыденной жизни.
Он немного растерянно окинул взглядом свою прихожую, стены, мебель и картины на стенах, словно прощаясь со всем этим перед дальней дорогой. Затем устало опустился в протертое кресло, сгорбившись под тяжестью своих невеселых мыслей. Дешевые отечественные часы на столе показывали половину второго. Вот и настало это время. Время перемен, которые он так ненавидел и которых он старался избегать всю свою жизнь… Нелепые, ненужные перемены, которые неизбежно повлечет за собою эта нелепая, ненужная девочка…
Первая ночь прошла, словно в бреду. Захар никак не мог уснуть, мешала и предгрозовая удушливая жара за окном, и его тяжелые мысли. Он кряхтел и ворочался в кровати, то укрываясь тонким пледом, то вновь раскрываясь, несколько раз вставал попить воды и выкурить сигарету, снова укладывался в постель. Потом ему стало мешать и тихое, едва различимое тиканье часов на стене. Сквозь их мерный и приглушенный стук постоянно просачивался сдавленный детский плач за стеной, который раздражал старика больше всего остального.
Не в силах его более выносить, он вскочил на ноги и выбежал в темную прихожую, громко стал колотить в дверь комнаты, где поселилась внучка:
– Коли тебе так нравится реветь белугой и сопли на кулак наматывать, то и делай это молча! Мой скот сам себя завтра не накормит и огород сам себя не прополет, а ежели я по твоей вине встать рано не смогу, то ничего не успею сделать по хозяйству, и сама ты будешь сидеть без завтрака-обеда, больно я сомневаюсь, что городские вроде тебя у плиты стоять умеют! – прокричал старик в закрытую дверь, гневно потрясая сжатым кулаком.
Он ожидал, что девчонка разразится еще более громкими рыданиями после его брани, но та внезапно умолкла и в доме вдруг стало совсем тихо.
Захар вернулся в постель, еще какое-то время чутко прислушивался к тому, что происходит за стеной в соседней комнате, но больше ни одного звука оттуда так и не донеслось.
«Хоть бы не померла там со страху… А ежели и помрет – что мне с того?» – думал он, засыпая. Его веки, наконец, сомкнулись, из груди вырвался сиплый старческий храп. Захар погрузился в безмятежный сон.
Глава 2
Никому на долю не выпадает тех бед, что он пережить не в состоянии. Каждому дается лишь то, что способно укрепить его душу, но не сломить ее!
Черешневое, август 1988 г.
– Я просил тебя покормить свиней, а не измазаться самой с ног до головы, как свинья, – ворчал старик, отбирая у внучки из рук большую грязную кастрюлю, – у тебя как будто задница вместо рук, и она же вместо головы.
– Простите, дедушка, кастрюля была тяжелая, я не смогла ее поднять над оградой. Она наклонилась и все вылилось на меня. Если бы ограда была немного пониже, я бы смогла все сделать правильно.
Девочка брезгливо пыталась оттереть с платья бурые брызги, но только еще больше пачкала одежду, равномерно растирая по ней помои.
– Если бы ограда была пониже, то свиньи бы затащили тебя внутрь и сожрали. И мне пришлось бы доказывать этой тощей старухе, что это не я тебя прикончил… И не называй меня дедушкой, если не хочешь заночевать в собачьей будке вместе с Колтуном!
Он отправил девочку отмываться в летний душ, который представлял собой убогую конструкцию из четырех жестяных листов с дырой посередине вместо двери, а сверху крепилась большая бочка с лейкой, заменявшая кран. Чтобы открыть воду, нужно было подпрыгнуть и нажать переключатель, тогда вода мощной струей начинала литься из лейки, и остановить ее можно было только снова подпрыгнув и нажав на рычаг.
Дедушка не разрешал лить понапрасну воду, поэтому Мише приходилось сперва прыгать и жать, чтоб смочить мочалку и намылиться, затем она прыгала, чтоб выключить воду, и уже потом – чтоб смыть пену и вновь выключить воду. Несколько раз она поскальзывалась на мыльном дощатом настиле и разбивала колени, чем вызывала новые ворчания у старика, который искренне не понимал, отчего внучка такая «несуразная и неуклюжая».
Пока Миша отмывалась от помоев, старик накрыл во дворе под навесом небогатый обед. Рано утром он испек в огромной печи хлеб, теперь он лежал на столе, нарезанный грубыми широкими ломтями, распространяя аппетитный аромат. Какое-то время он задумчиво разглядывал краюху с корочкой: девочка очень любила ее и всегда выпрашивала, едва он доставал горячую буханку из печи. Он взял краюху в ладонь, смял ее, рассыпав по столу золотистые крошки, откусил большой кусок и принялся за обед.
Когда Миша села за стол, Захар уже прихлебывал чай, выпуская изо рта облако едкого дыма и размышляя о чем-то своем. Небо над двором сияло бирюзовою чистотою, суетливо летали по нему молодые ласточки, гнезда которых Миша заметила под потолком у деда в сарае.
Долго разглядывала она их, пыталась даже взобраться на жестяные бочки с зерном, чтобы заглянуть внутрь и увидеть птенцов. Любопытство настолько разобрало девочку, что однажды ей все же это удалось – неловко ухватившись за висящую на стене лопату одной рукой и повиснув на полке под потолком на другой, она с неимоверным усилием подтянулась и смогла добраться до самого низкого гнезда, что нависало сбоку у стены, между деревянными балками.
На дне его, заботливо устланном птичьим пухом, сидели три крошечных птенца. Они громко пищали и немощно махали голыми черными крылышками, хватали желтыми клювами торчащие из гнезда соломинки и травинки. Миша собиралась было дотронуться до одного из них, как вдруг полка, не выдержав веса девочки, с грохотом обрушилась вниз на жестяные бочки, все ее содержимое разлетелось по сараю, а сама девочка больно приложилась о пол ребрами. На невообразимый шум тут же примчался Захар и его пес. Долго тем днем Миша слушала наставления и раздраженное брюзжание старика, а после отправилась наводить в сарае порядок и все расставлять по местам.
– Скажи еще спасибо, что отделалась испугом и ссадиной на боку. Дурная голова ногам покоя не дает! – ворчал Захар, сурово зыркая на внучку. – Если бы ты случайно гнездо сорвала – не миновали бы мы беды. Неужто не знаешь, что гнезда ласточкины трогать нельзя? Кто гнездо разорит – тот на свою голову несчастий и горя потом не оберется, а бывало даже, что ласточки и дом поджигали тем, кто их гнезда срывал. Уж не знаю как, но сам о таком слыхал. Чтобы больше в сарае не околачивалась, нечего там тебе делать!..
Сейчас же Миша спешно уплетала обед, украдкой поглядывая на деда. Тот все так же равнодушно смотрел куда-то вдаль и курил, покручивая самокрутку загорелыми худыми пальцами.
– Дедушка, а это правда, что ты на войне был? – вдруг выпалила девочка. Глаза ее тут же загорелись любопытством: – Перед отъездом в деревню мне говорили, что у тебя много медалей, что ты можешь много чего рассказать об этом!
Захар смерил снисходительным взглядом свою внучку, поджег новую сигарету и снова закурил. Девочка, нетерпеливо ожидавшая красочного и подробного рассказа, даже забыла о еде: она отодвинулась от тарелки, оставила вилку и пытливо таращилась старику прямо в глаза.
– Что там рассказывать? Мы немцев убивали, а они – нас. Когда я попал на фронт, мне было немногим больше двадцати. Забросили нас на передовую, сперва все еще чинно было, а потом уж и не разобрать – где верх, где низ, кто и откуда стреляет, кто жив, а кто уже помер.
Сдружился я там с земляком своим, мы долго с ним воевали, хорошо узнать друг друга успели. Он рассказал про семью свою, что дома его невеста ждет, про то, чем он после войны заняться собирается. Я ему и пообещал, что если он погибнет, то я с весточкой нагряну к его ненаглядной, расскажу ей, как он ее любил.
Ночевали мы обычно прямо под голым небом, и хоть даже лето было, а мерзли в окопах, зуб на зуб по ночам не попадал. Чтобы хоть немного согреться, мы уже стали в землю зарываться, как кроты. Накануне был тяжелый бой – много солдат потеряли, ждали, когда к нам новые силы перебросят. Повелели нам залечь на сутки, схорониться до прихода войск. И как ведется, именно эта ночь и выдалась самой холодной.
Нам и костра не развести – повсюду враг, порежет нас и перестреляет, как зайцев. А на земле повсюду – иней, хоть как ни укрывайся – а зубы так цокали, что за версту было слышно. Я сперва со всеми ютился, все умоститься старался, часа два промаялся. А потом еще и боль в животе меня разобрала, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Побежал я за пригорок, с час там промучался, от боли в животе в жар бросало, я даже грешным делом подумал, что зато согреться сумел.
Стало мне полегче, вернулся к отряду, подошел я к земляку своему, а он сидит в окопе, спиной ко мне. Тогда ночь темная была, за облаками и звезд не видно, повсюду какие-то поля да пустыри, обожженные деревья да рытвины от танков. Я другу по плечу стучу, хочу закурить с ним, а у него возьми голова да и отвались с плеч. Я давай к другим бежать – а они все мертвые лежат, я один только живой. Пока я с животом мучился, немцы на нас каким-то бесом вышли, тихо всех порешили и убрались восвояси.
Утром отряд пришел – а мне им стыдно в глаза смотреть, пока я за кустами нужду справлял, моих товарищей как овец порезали. Оно-то, конечно, меня спасло, но стыда моего не убавило. А самое-то противное – это даже не мой слабый желудок, а что после войны сдержал я свое слово и нашел дом невесты земляка.
Только она и не думала его ждать, рассказали мне, что она давно ушла с немцем каким-то, когда те в деревню нагрянули. Укатила с врагом и думать забыла о своем женихе. А тот ее снимок с собой повсюду таскал, каждый день мне о ней говорил, любил ее больно. Иногда и не знаешь даже, что гаже да омерзительнее – нелепая смерть да дерьмо, или человеческое предательство… А теперь и за работу пора! Нечего уши здесь развешивать, ступай.
– Неужто это правда, дедушка?
Девочка вытаращила глаза и с недоверием покосилась на старика.
– Может и нет. Сто лет назад это было, почем мне уже знать? – рявкнул он в ответ.
На этом Захар умолк, еще немного покурил, а затем отправился по своим делам. Миша прибрала со стола, отнесла посуду на кухню и принялась ее мыть в тазу.