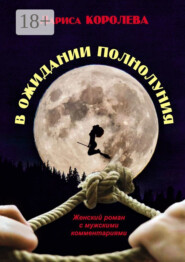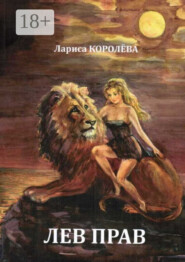По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Виновные назначены
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Училась она плохо, часто пропускала занятия, а её предки никогда не посещали родительские собрания, которые мы называли «Али Баба и сорок разбойников», так как Михаил Захарович считал необходимым приглашать и пап, и мам сразу. Не у всех получалось придти, и общее количество родителей обоих полов обычно равнялось сорока. Ленка отсутствие своих родичей объясняла тем, что «мама болеет, а папа в командировке». Маму она, видно, очень любила, потому что многие фразы начинала со слов «мы с мамой»…
Как-то Михаил Захарович после уроков попросил меня задержаться и, как самой ярой активистке, дал поручение навестить Лену Савченко: утром она позвонила ему и предупредила, что заболела. Я добросовестно отправилась по данному адресу. То, что я там узнала и увидела, потрясло меня, девочку из благополучной семьи, настолько, что как угорелая побежала назад в школу, разыскала в учительской Михаила Захаровича и скороговоркой выпалила ужасающие новости.
Во-первых, самой больной дома я не застала. Во-вторых, никакой матери у неё нет, живёт с отцом и бабушкой. А в-третьих, отец у Ленки сильно пьёт, а его пенсионерка-матушка явно сумасшедшая. По крайней мере, разговаривала она со мной весьма странно и при этом отстранённо вязала нескончаемый шарф, который явно превысил три метра в длину. О том, что Ленка «шляется», мать её сбежала с другим мужчиной, а отец каждый день возвращается с работы «на рогах», бабушка сообщила невозмутимым тоном в одном ряду с сетованием на дорогое мясо и сбежавшее молоко.
Михаил Захарович печально посмотрел на меня своими дымчатыми глазами и тихо попросил:
– Ты, девочка, никому об этом, пожалуйста, не рассказывай. Не надо.
И так убедительно он это сказал, что я вдруг всё поняла и действительно никому не выдала Ленкиных тайн, даже своим девчонкам. В тот день я простила Ленку за мой дневник, за её вечную ложь, сплетни и сопли…
Но тогда, сразу после истории с пропажей и возвращением «Писем», совершенно растерялась: что мне делать с тобой? В смысле, как теперь себя вести, когда – я была уверена – моя тайна раскрыта? Признаться в любви откровенно, как Татьяна Ларина: «Я к вам пишу, чего же боле?», или делать вид, что ничего не случилось, дескать «я – не я, тетрадка не моя»? Ты сам подсказал мне выход. Тридцатого мая мы отмечали последний звонок, который прозвучал для нас по случаю окончания девятого класса. После чего мы собрались у Ирины на вечеринку, ты пригласил меня на танец и сказал:
– Если я задам тебе вопрос, ты ответишь честно?
– Да.
– Я тебе нравлюсь?
– Да.
– Ты действительно писала мне письма?
– Это уже третий вопрос. Но всё равно «да».
Ты сиял, как надраенный самовар, словно получил заслуженную награду, и мне стало страшно обидно, что вслед за моими тремя «да», ответных признаний не последовало. Ты всего лишь сказал, что «подумаешь, как с этим быть». Задумчивый!
Меж тем наступили летние каникулы, в течение которых мы не встречались, поскольку уезжали из города, ты – в лагерь, я – в станицу к тётке. Начала нового учебного года я ожидала с лихорадочным нетерпением, а первого сентября увидела тебя в школьном дворе, поняла: по-прежнему люблю – и тут же вступила в необъявленную войну. Ты смотрел на меня, и я зло спрашивала:
– Что?
– Ничего, – терялся ты.
– Ну, раз ничего – так и нечего!
Ты подходил с идеей, я нетерпеливо отмахивалась или откровенно грубила в ответ. Как-то смотрелась в зеркальце, ты подкрался сзади и заглянул, я тут же поднесла пудреницу к твоему лицу.
– Ну, и кого ты там видишь? Кучерявого барана? – И тут же устыдилась собственного хамства, пошла на попятный. – Обиделся?
– Да нет, – по-философски грустно ответил ты. – Я же понимаю, когда маленькие дети хотят выказать кому-либо интерес, но не могут себе этого позволить, они начинают всячески изводить нравящийся объект.
Я смутилась, возразить-то было нечем, а ты продолжил:
– Слушай, давай заключим пакт о ненападении.
– Давай, – вздохнула я и терроризировать тебя перестала, старалась быть при нашем общении естественной и «однотонной», как и со всеми другими мальчишками, но получалось не очень. Меня раздирали на части обида, боль и ревность. Как-то в школьном коридоре ты разговаривал с Маринкой Старчак, и она вдруг провела рукой по твоим волосам. Дома я записала: «А ты как кот: кто хочет – пусть и гладит!».
Да тут ещё в твоих речах стала часто проскальзывать тема женитьбы. То скажешь, что жена должна «как кошечка лежать на диване для красоты и ничего не делать». То заявишь, что «надо гулять, пока гуляется, а жениться после двадцати семи лет на «светленькой и фигуристой». Под последнее определение я подходила и готова была лежать на твоём диване круглыми сутками, изображая хоть кошечку, хоть собачку, но ведь после двадцати семи я превращусь в древнюю старуху, и ты найдёшь какую-нибудь помоложе! Стало быть, мне не светит…
И тогда в моей жизни появился Андрей Журавлёв. В общем-то, он давно уже нарисовался, но тут эффектно вышел на сцену во всей своей красе. Это был симпатичный спортивный и всестороннее развитый парень, на год старше меня, уже студент, и из очень обеспеченной семьи. Я познакомилась с ним случайно в художественной галерее, он носил меня на руках, писал стихи, дарил цветы, и с нами постоянно происходили удивительные приключения. То мы в два часа ночи спасаем котёнка, залезшего на дерево, то сами спасаемся от бандитов, то тайком уезжаем вдвоём на всё воскресенье на его машине в Джубгу и прыгаем с крутых скал в открытое море. Песню, которую он для меня сочинил, мы с девчонками спели на школьном вечере, посвящённом теме «Любовью дорожить умейте».
И всё здорово, если бы этот невообразимый парень существовал не только в моём богатом воображении! Ощущая мучительную потребность являться для кого-то необыкновенной, любимой, желанной, (рохля Тюляев не в счёт), я оправлялась на концерт не с папой, а с Андреем, а наутро с восторгом рассказывала девчонкам, как чудно провела время. И настолько я была небрежно убедительна, что они охотно мне верили, да и я себе – тоже. Иногда я подстраивала ситуации, при которых обрывки этих разговоров долетали до твоих навострённых в нашу сторону ушей. Я старалась придерживаться самопровозглашённого стихотворного принципа:
А меня не терзает грусть,
Я теперь весела постоянно.
Ты не любишь меня – и пусть!
Ты не любишь меня – и ладно!
Но случались дни, когда от тоски по тебе не спасал даже мифический поклонник. Однажды на перемене я сидела за партой одна, ко мне подсел Сашка Тюляев и спросил:
– Почему такая грустная? Это Сизарёв тебя опять обидел?
– Придурок он, – зачем-то процедила я сквозь зубы.
В этот момент ты вошёл в класс, Тюляев подошёл к тебе и демонстративно ударил по щеке. Ты опешил только на мгновенье, но тут же внутренне собрался, ловко заломил Сашке руки за спину и, красуясь, склонил его передо мной в поясном поклоне. Я была поражена вовсе не твоей убедительной победой над неспортивным тёзкой, а бешеной, животной яростью, что пылала в его глазах. Они даже стали казаться не синими, как твои, а чёрными, словно непокорный дух диких предков – то ли казаков, то ли черкесов – проснулся в этом добродушном на вид парне, который накануне написал мне бездарные стишки в стиле: «Но я тебе не люб, не мне твоих касаться губ».
– Отпусти ты его, – в сердцах сказала я тебе, а вечером записала:
«Люба где-то вычитала, что когда тебя домогается нелюбимый человек, муки испытываешь не меньшие, чем когда отвергает любимый. По-моему и то, и другое одинаково. Правда, Тюленев, который с меня глаз не сводит, становится с каждым днём всё противнее, и всё меньше его жалко. А боль от собственного неразделённого чувства к Сизарёву всё острее…».
В декабре состоялась предновогодняя вечеринка, на которой ты часто приглашал меня танцевать, впервые пошёл провожать, и у двери моего подъезда случился наш первый поцелуй. Я замерла от твоей самоуверенности и неожиданности момента и почему-то мысленно стала считать: «Раз, два, три»… Как на свадьбах после крика «горько» кричат гости новобрачных. На цифре «восемь» я вырвалась и убежала вверх по лестнице, и полночи потом не могла заснуть под впечатлением от свершившегося чуда. Ощущение было таким, будто кто-то прикоснулся рукой к обнажённому сердцу.
На этот раз Любе не пришлось встречать свой день рождения с коротко обрезанными волосами и в одиночку. Она перенесла празднование на новогоднюю ночь и, выпроводив родителей, пригласила в маленькую двухкомнатную квартиру весь класс. Пришли, как обычно, человек двадцать. Некоторые ребята на вечеринках никогда не появлялись, например, Юля Белова, которая считала посещение наших сборищ пустой тратой времени. Анжелу Кочарян по вечерам не выпускали из дома родители, а рыжий и вечно потный тихушник Олег Верников никак не мог взять в толк: а что там делать?
Любину бабушку спровадить из дома не удалось, и она как швейцар открывала всем двери. После распития первой бутылки у мальчишек пошёл такой прикол: выпрыгивать с балкона второго этажа, возвращаться и звонить в дверь. В конце концов, бедная старушка замаялась встречать, как ей казалось, бесконечных гостей и возопила:
– Любка, да сколько же ты наприглашала?! Куда их всех девать-то?
Ты напился очень быстро, почувствовал себя плохо и вышел во двор (на этот раз по лестнице) «охладиться» на лавочку. Я заварила крепкого чая и спустилась к тебе. Едва отхлебнув пару глотков, ты отставил чашку и дёрнул меня за руку так резко, что я полетела вниз и приземлилась на лавочке рядом с тобой. Не дав опомниться, принялся меня целовать. Выскочившую в одной открытой кофточке, меня трясло от декабрьского холода и внутреннего жара, вызванного твоей неожиданной пылкостью. Потом мы поднялись в квартиру, и часа три безостановочно танцевали и целовались…
Первого января я проснулась одна дома после недолгого, мучительно-тревожного сна и принялась истерически реветь. Горькими слезами и громкими причитаниями довела себя до полного изнеможения и поняла, что немедленно умру от одиночества. Шатаясь от внутренней боли, с распухшими от слёз глазами, пошла за Любой, приволокла её к себе и только тут объявила:
– Я с Сизарёвым целовалась!
– Когда это ты успела?
– Что значит, когда? Всю ночь напролёт!
Люба, которая сама целовалась с Серёжкой Топорковым, конечно же, ничего не заметила и недоумённо спросила:
– Ну? И чего так реветь-то?
– Да как ты не понимаешь? Он же меня не любит, а теперь ещё и уважать перестанет. Я для него всего лишь «девочка на вечер». Не могу так, не хочу!
Как позже выяснилось, Ирка Калинюк в ту ночь, как золотая рыбка, безнадёжно трепыхалась в цепких объятиях своего соседа по лестничной клетке Коли Прокудина и также потеряла статус нецелованной. В моём дневнике появилась такая запись: «Таким образом, три девицы из нашей четвёрки согрешили, и лишь Наташку Переверзеву черти в аду будут поджаривать за двойки».