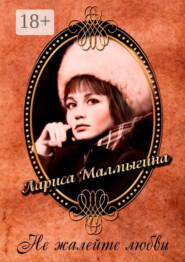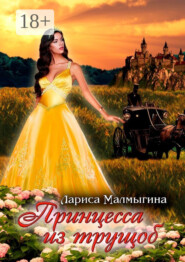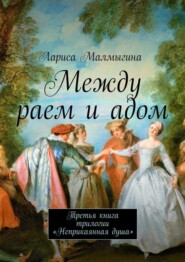По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лилия Белая. Эпический роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Четверрг, гррезы прретворяются, – взмахнув крылами, важно изрек носатый собеседник и тяжко-тяжко вздохнул. – Умерр, умерр Назарров. Послезавтрра похорроны.
– Я должна идти в Сорокино, – стараясь унять подступающие к горлу рыдания, сжала кулачки сиротка.
– Сгоррел, пррах, – уронил клюв Кирк, и одинокая слезинка скатилась из беспросветного, все понимающего его зрачка.
– Ты никуда не пойдешь, – распорядилась неожиданно пробудившаяся Марфа и, спустившись с печи, подала всхлипывающей гостье глиняную кружку с темно-коричневым содержимым.
– Почему? – покорно принимая неизвестный настой, задыхаясь, прохрипела несчастная.
– Его предадут земле и без тебя. А ты, ты погибнешь, если отправишься в Сорокино.
Колдунья была непреклонна.
– Где Филя? – ощущая нарастающее онемение в ногах, кротко проговорила Натальюшка. – Неужели и он….
– В горроде, – опередил хозяйку мудрый ворон.
– Скоро исцелится твой Филя, – метнула рассерженный взгляд на невоспитанную личность Марфа, – но это исцеление его и погубит. Горе какое!
– Горе? Отчего горе? – погружаясь в блаженное безмолвие, чуть слышно прошептала беглянка и, зачарованно наблюдая за разноцветными воздушными шарами, медленно наполняющими безразмерное пространство жилища, погрузилась в спасительную темноту.
Очнулась она ночью. Одинокая сгорбленная фигура жутким привидением висела в дальнем, не освещенным полной луной, углу. Она, нашептывая что-то зловещее, круговыми движениями водила отбрасывающими страшные тени руками по тщательно выбеленной стене.
– Что вы делаете? – хотела спросить Натальюшка, но предательские слезы с готовностью захлестнули все ее невостребованное в мире заурядных людей существо, и, орошая пересохшую от переизбытка тепла кожу, побежали по ней щекочущими ручейками, словно собираясь сгруппироваться и превратиться в тот бурлящий от неистовой силы океан, который она, простая деревенщина, никогда в жизни не видела и, наверняка, не увидит.
Пытаясь сбросить ненавистное оцепенение во всем теле, девушка захрипела, но ведьма не обратила внимания на ту, которую приготовила на заклание.
Словно призрак из ночного кошмара, колдунья грозовой тучкой подплыла к своей безвольной распластанной жертве и, возложив сжигающие руки на холодный лоб Натальюшки, стала читать заговор:
– Вечерняя заря Ульяна! – тонко крикнула Марфа и торжественно подняла маленькие натруженные ладошки к переставшему существовать потолку.
– Обеленная заря Маремьяна, – минуя небольшую паузу, продолжила она свой непонятный и переворачивающий зачарованную душу монолог, – стряхните, сполохните все семьдесят семь предметов тоски-кручинушки с божьей рабы Натальи. Отряхните, смахните и унесите за семьдесят семь гор, за семьдесят семь морей, за семьдесят семь полей, за семьдесят семь дорог, за семьдесят семь ворот…
«Тиша», – превращаясь в свободную быстрокрылую ласточку, вяло подумала сиротинушка и, наливаясь недюжинными силами, вспорхнула с притягивающего к сырой земле изготовленного обреченными смертными созданиями топчана, чтобы полететь туда, где давно уже ждала ее безмятежная и взаимная любовь.
Очнулась она внезапно, когда несмелое зимнее солнышко робко заглядывало в ее горницу.
Думать о плохом не хотелось. Лишь мгновенное воспоминание о трагической смерти отца невольно обожгло ее беспечную душеньку, но, отмахнувшись от этой дотошной мысли, воскресшая натянула на себя сарафан и, подбежав к остывшей печи, вонзила крепкие зубы в неимоверно вкусный душистый каравай.
– Хорроша! – подлетел к гостье любопытный Кирк.
– Господи, – всплеснула руками девушка, – кажись, проспала я утреннюю молитву и не помогла Марфуше подоить кормилицу козу Ночку! Осерчает на меня хозяюшка!
– Осеррчает, – согласилась с приживалкой черная птица. – Хорроша!
«Такой хлебушек не получался даже у Уленьки», – решила Наташка и нечаянно, будто кто-то настойчиво звал ее, обернулась на зеркало, висевшее на противоположной стене.
Сизая дымка, наполнявшая все его таинственное пространство, внезапно резко растворилась и явила очарованному взору Натальюшки нежную, прелестную, будто сошедшую с небес девушку, достойную любви самого прекрасного в мире юноши, такого, как богатырь русский Тиша.
– Очарровательная! Обворрожительная! – уселся на плечо пленительного явления ворон.
Крепко зажмурившись и резко распахнув глаза, Наталья хотела что-то ответить, но обрушившаяся с небес пронзительная до слез радость не дала ей сказать ни единого слова.
– Если ты когда-нибудь покинешь меня, – словно из потустороннего мира прозвучал голос Марфы-колдуньи, нежданно-негаданно проявившейся из белесого облака, безразлично висевшего за печью, снова превратишься в ту, которую презирали недостойные признания высших сил люди.
– Никогда, – прощаясь с Тишей Барановым, быстро заверила ведьму Натальюшка и, мгновенно потеряв интерес к своей новой непривычной оболочке, заторопилась в сени, чтобы, вдохнув свежего, опьяняющего воздуха на безмолвном и пустынном дворе, спешно наколоть дров, запасенных радетельной хозяйкой пригожим ясным летом. Тем летом, когда живы были папенька и сестрица Улюшка, когда не было этой проклятой и непонятной крестьянам революции, дающей будто бы свободу неограниченную, но отбирающей самое сокровенное – жизнь.
Уля смотрела на спящего Германа и силилась вспомнить то, что говаривал вчера ночной гость. Кажется, убила у любимого новая власть родителей, умчался в дальние страны родной брат. Выходит, не поедут они в неведомую и загадочную Беларусь, не увидит она заветной родины суженого. Да и в Сорокино Улюшка являться не хочет. Там живет и здравствует ненавистный до колик Тришка и он, словно паук, терпеливо ждет свою слабую, беззащитную жертву, чтобы вновь затащить в сети и отдать на поругание старому бесстыднику Дементию Евсеичу.
– Поставь самовар, родная, – сквозь сон прошептал Мороз, и одинокая слезинка показалась из полуопущенных его век. Показалась и тотчас спряталась.
Огонь в печи ярко полыхал, видимо, лег Герман почивать под утро, а она, бессовестная, беспечно проспала всю долгую зимнюю ночь.
Наскоро накромсав хлеба, Уля заглянула в шкафчик и обнаружила там настоящие фабричные конфеты в ярких, разноцветных, хрустящих обертках. Такие выпускали еще при несчастном сверженном царе Николае.
– После завтрака едем в Сорокино, – тяжело поднимаясь с полати, распорядился ее нареченный. – Надо серьезно поговорить с Трифоном да испросить благословения у батюшки.
«У какого батюшки? – с тоскою вспоминая неприятного сельского священника, невольно всхлипнула девушка. – Впрочем, у любого, лишь бы скорее»….
Она быстро накрыла на стол, и, пока Мороз отфыркивался под ледяным рукомойником, тайно от возлюбленного вытерла рукавом глаза.
Ехали они долго. Нанятые на этот случай лошади оказались не кормленными и, судя по съеденным наполовину зубам, очень старыми. Невыспавшийся извозчик нехотя натягивал стертые неумолимым временем поводья и, испуская из себя зловонный перегар, хрипло понукал несчастных спотыкающихся животных.
«Господи, – молилась про себя Уленька, – господи, не дай мне увидеть Макаровых. Не выдержу я этого испытания»!
То, что вопреки страстным мольбам, придется встретиться с ненавистными новоиспеченными родственничками, ужасало бедняжку настолько, что бросало в пот, и она, не чувствуя холода, утирала варежкой взмокший лоб и по-детски хлюпала покрасневшим от ветра носом.
– Наверное, не доедут, бедняги, – подытожил Герман и еще сильнее прижал к себе свою ненаглядную.
– Самим жрать нечего, – отозвался ямщик и передернул обернутыми в рванье костлявыми плечами. – Давеча сыночка схоронил, Царствие ему Небесное! Всего двенадцать годочков было.
– И от чего он помер? – очнулась от дум Ульяна.
– От какой-то ребячьей болячки, грят, коклюш какой-то, а, по-моему, от этой треклятой революции. Черт бы ее побрал! – мужик отвернулся и как-то особенно озлобленно выкрикнул – Эх, наедимся мы мясца конского до отвала, чтобы пузо раздуло! А там и в могилке растянуться можно!
Стало страшно. Где-то завыл ветер и, словно фокусник, обрушил на землю внезапные грузные сумерки.
– А еще полдень, – взглянул на часы Мороз и натянул на Уленькины ноги старый тулуп, без дела валявшийся на дне выложенной сеном телеги.
– Волки, – вдруг вздрогнул кучер, а лошади, вскинув к небу истощенные морды, заржали так, что застыла кровь в жилах.
– Волки? – откликнулся эхом Герман и привстал, чтобы получше разглядеть надвигающуюся на них опасность.
– Не боись, паря, прорвемся!! – весело крикнул некто, пробирающийся сквозь дремучую чащу оскорбленного непогодой леса.
Невысокий мужичок, показавшийся Уле знакомым, вынырнул из зарослей переплетающихся друг с другом деревьев и, проваливаясь по колени в сугробы, пошел прямиком на обескураженных ездоков.
– Свят, свят, – неистово накладывая на себя скорые кресты, забормотал путник и, мужественно справившись с испугом, радостно заорал. – Улька, ты что ли?