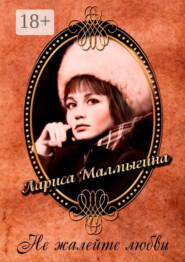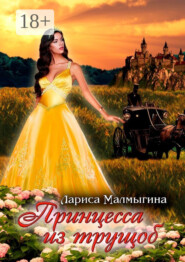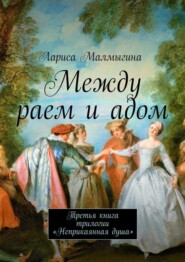По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лилия Белая. Эпический роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ужинать, – пригласил к столу девушку ее напророченный нареченный и торжественно поставил на выскобленные добела доски чугунок с дымящимися картошками в мундире.
Вздохнув, Ульяна опустилась на лавку подле новоявленного жениха и, обжигаясь, взяла в руки остатки былого провианта.
Неожиданно в окно постучали.
– Хозяин! – крикнул кто-то, находившийся по ту сторону избы.
Мороз вздрогнул, и мертвенная бледность молниеносно растеклась по его встревоженному лицу. Опрокинув табуретку, он бросился навстречу этому голосу, рывком распахнул дверь, и поток ледяного воздуха с торжеством ворвался в прогретую до состояния бани горницу.
– Мстислав, – прошептал Герман, вцепился обеими ручищами в пришедшего и крепко обнял окоченевшего от стужи мужчину.
– Еле нашел тебя, – снимая настоящую господскую шапку, молвил незваный гость и только тут заметил обеспокоенную произошедшим Уленьку, которая разглядывала незнакомца с явным недоверием и раздражением.
Посмевший порушить их мирное уединение был невысоким хрупким брюнетом с раскосыми татарскими очами, точеным прямым носом и тонкими, ниточкой, губами под залихватскими завитыми усиками.
– Как батя, матушка, брат? – помогая страннику стащить дорогущую шубу, взволновано осведомился хозяин дома. – Совсем скоро я представлю им суженую, которую премудрый Господь подарил мне полтора месяца назад.
Черноволосый передернулся, будто бы от озноба, залез в нагрудный карман странного, чудного кафтана и выложил на стол небольшой, сложенный в несколько раз, сероватый от дорожной пыли листочек.
Трясущимися руками схватил Герман кусок грязной бумаги и, развернув его, впился жадными глазами в написанные на нем строчки.
Горестный стон вырвался из необъятных недр богатырской груди любимого и, благословляя церковно-приходскую школу, обучившую ее грамоте, Уля подняла с пола страшный документ, который, наверное, разбил ее только что нарождающееся счастье.
«Дорогой брат, – крупным неровным почерком писалось в нем, – на Покров отца и мать за веру в Создателя расстреляла советская власть, а я, как член семьи „врага народа“, вынужден был бежать из родной Беларуси, дабы сохранить на плечах голову. Куда подамся, не знаю. Наверное, уеду в Америку, ибо там находят приют все отверженные. Прощай. Артем».
– Я как раз собирался в Москву, – будто оправдываясь, пробормотал незваный гость. – Там встретил Остапа, который и поведал мне о твоем местонахождении.
Осиротевший молчал, и лишь округлые желваки беспрерывно ходили по его высоким бледным скулам.
– Все там будем, – непроизвольно прошептала Ульяна и тотчас замолчала, так как немедленно осознала, что сморозила глупость, и нет на свете таких слов, которые сейчас бы могли помочь несчастному.
– Поешь и иди отдохни, Лилия, ты еще не совсем поправилась, – очнулся от ступора хозяин дома. – А мы с Мстиславом приготовим ужин. Нам надо о многом поговорить с другом.
Убедившись, что Герман взял себя в руки, не снимая с себя платья, девушка кулем повалилась в постель.
Синие глаза почившей матери неожиданно предстали ее изумленному взору и, чувствуя сильнейшую слабость, недавняя умирающая моментально погрузилась в спасительный, без сновидений, сон.
Вечер пришел быстро. Маленькая серенькая птичка настойчиво постучала в обледеневшее окошко и, удостоверившись, что Уля распахнула глаза, беззаботно вспорхнула к жестокосердным небесам.
Герман сидел у печи и о чем-то тихо переговаривался с пришельцем.
Мгновенно вспомнилась принесенная гостем весть, и стало невыносимо тяжко.
– Встала? – скучно поинтересовался ее суженый и уронил лицо в сильные мозолистые ладони.
– Добрый вечер, – вздрогнул при ее появлении хрупкий брюнет, – разрешите представиться – Мстислав Запольский, школьный друг вашего жениха. Кстати, через час мой поезд, свидимся или нет более, не знаю, но если будете в Москве….
«В Москве»! – ахнула Уленька и вспомнила гордячку Матрену. Вот кто завсегда мечтал побывать там!
– Прощайте, – встал с лавки земляк ее возлюбленного и чудно так головой воздух боднул, – Простите, но мы занялись не тем, чем надо и не приготовили достойный ужин, сударыня. Жаль расставаться, но мне пора. Прощайте.
Запольский крепко обнял школьного друга, а затем поцеловал руку растерявшейся девушке.
Накинув на плечи дорогущую шубу, не оглядываясь, он быстро распахнул перед собой дверь.
После похорон стало оглушающе тихо, и Фекла Устиновна каждый день молилась о загубленной душе своего единственного сыночка. Она не ела, не пила, не спала, а лишь сидела на коленях подле равнодушных, обряженных в золоченые рамки, образов и тоненько выла, как старая бездомная собака. Темнело рано, и когда приходила ночь, женщина валилась на пестрый городской коврик, чтобы погрузиться в жуткое безмолвие. Дементий Евсеич ходил мимо обезумевшей от горя жены и неизменно хранил молчание. Время остановилось. Но однажды в него бесцеремонно ворвались люди в длинных серых шинелях. Они держали наготове винтовки и что-то кричали непонимающим ничего хозяевам.
– Нас выселяют, – заботливо поднял несчастную с колен неожиданно поседевший Макаров. – Грят, едем на жительство в Сибирь. Добро, что еще в каталажку не засадили. И на том благодарствуем.
Он кривил посиневший по причине больного сердца рот и силился изобразить перекошенную улыбку, которая неизменно соскакивала с дрожащих от ненависти губ, чтобы дать им возможность шепотом без устали проклинать советскую, беспощадную к трудолюбцам, власть, лукаво обещавшую в ходе революции укрепить всем справным мужикам свое частное хозяйство. Ужели смогут голодранцы и лодыри так ходить за его кровью и потом политой землицей, дабы получить с нее богатый, изобильный урожай? Ужели сумеют они держать в руках его здоровущее хозяйство, дабы не подох от плохого ухода бесчисленный скот? Нет, нет и еще раз нет! И кто бы мог подумать, что главным бунтарем окажется невозмутимый на вид Тишка Баранов. Недаром в народе бают: в тихом озере черти водятся. Эх, был бы жив его единственный сын! Может, и он бы смог подластиться к комбеду и спасти этим своих родителей! Спас же зажиточных крестьян Барановых их хитрый старший отпрыск!
– Батюшка! – бросилась к руке новоявленного кулака Пульхерия Матвеевна. – Благослови, батюшка!
– Благословляю, – перекрестил бывшую прислугу сгорающий от ненависти Макаров.
Кухарка всхлипнула и быстро-быстро засеменила к группке вооруженных людей, с суровостью наблюдающей за поверженными.
– Да здравствуют сельские Советы! – тонко выкрикнул Еремей Кузьмич и, по-лошадиному заржав, похлопал прокуренной заскорузлой ладонью по аппетитному заду хихикающей Прасковьи Прохоровой.
Тяжело вздохнув, Дементий Евсеич отвернулся от группки победителей-голодранцев и, шатаясь на подгибающихся от унижения ногах, медленно и обреченно побрел в дом, дабы проститься навсегда с прошлой трудовой и сытой жизнью да взять с собою самое что ни на есть необходимое.
Высунув от усердия язык, Матрена стирала пропахшее одеколоном белье своего любезного.
«Правильно решил Гришенька, – вытирая взмокший от радения лоб, размышляла старшая дочь Назаровых, – наконец-то, прислушался к добрым советам всезнающей женушки, вступил в партячейку. И теперь они, гордые и непримиримые пролетарии, покажут кузькину мать всем, кто когда-то гоголем ходил по Михайловску. А главное, укоротить бы язык шустрому кухаркиному сосунку. Да ладно, и до него очередь со временем дойдет».
За стенами дома, в связи со скоропостижной смертью старухи-процентщицы, принадлежащего теперь уже семье Ивановых, слышалось нестройное пение Интернационала и повизгивание обомлевших от вседозволенности городских девок. Вот жизнь-то пришла какая: любого красноармейчика выбирай, все как подбор – молодые да горячие! А может, и ей, Мотеньке, свежатинки попробовать?
Женщина вздохнула и вспомнила глаза незабвенного Гришеньки. Скоро, ой, как скоро преобразится он в настоящего комиссара и будет наводить порядок во всей губернии! А может, и в республике! А она, его верная жена, как Крупская, станет за супружника делами заправлять.
Запахло горелым. Хозяйка повела носом, скинула с рук прилипчивую мыльную пену и бросилась на чистую кухоньку, чтобы помешать в котелке ядристую гречневую кашу. В окно постучали. Поставив на стол дозревший ужин, Матрена метнулась к входной двери, которая внезапно распахнулась и явила взору растерявшейся мечтательницы желторотого безусого красноармейца.
Он был красив, он был необычайно красив той порочной цыганской красотой, которая толкает на безумства благополучных мужниных жен, грезящих о страстной любви и не менее страстной постели.
– Хочу есть, – совсем по-будничному сказал пригожий пришелец и потянул хищно вырезанными ноздрями воздух, пробивающийся из кухни в сенцы.
Мотя передернула плечиками, облаченными в домашнюю ситцевую кофту, и вновь подумала о вечно голодном супруге.
– Слышишь? – грозно поинтересовался младой гость и сурово сдвинул сросшиеся на переносице брови. – Гони жратву, буржуйка, а то…
В намерениях пришельца сомневаться не приходилось, а потому, зябко поежившись, женщина с неохотой притащила революционеру аппетитно дымящийся котелок.
Красавчик потребовал ложку и вырвал из рук «классового врага» долгожданный харч, чтобы, не ощущая ожогов, с жадностью проглотить его, не оставив на донышке даже маленькой коричневой горстки.
– Приятного аппетита, – провожая сожалеющим взглядом каждую порцию заветного кушанья, подобострастно пробормотала Матрена. – И как же вас зовут-величают, молодой человек?
– Андреем Ивановичем Брылем, – вытирая грязными пальцами розовые младенческие губы, важно просипел пришелец и заинтересованно посмотрел на радушную хозяйку.
Он прошелся жадным взглядом по ее полуоткрывшемуся от неизвестных чувств рту, по пухлой шее, тщательно запакованной в тугой стоячий воротничок, по груди, выпирающей из цветастой ярко-красной блузки. Он облизнулся и невольно потянулся к пышущему здоровьем женскому телу, в мгновение ока забывая про старуху-смерть, сторожащую его в гнилом окопе, вшей, бесцеремонно поселившихся в курчавой голове и красный террор, выбранный им, как единственный метод, благодаря которому можно стать, наконец-то, независимым и, в конечном счете, счастливым.