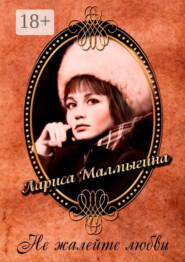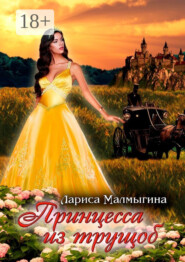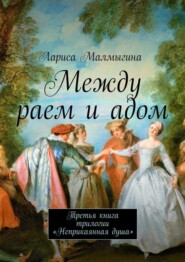По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лилия Белая. Эпический роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я научился печь блины, хотя в Белоруссии большей частью почитают драники, то есть, оладьи из сырого картофеля, – оповестил воскресшую хозяин дома и отошел к печи, чтобы помешать в огромном чугуне что-то непрерывно булькающее. – Не зря нас называют бульбашами. Бульба по-белорусски – картошечка.
– Ты варишь что-то на всю деревню? – улыбнулась выздоравливающая.
– Это постельные принадлежности, – пояснил подопечной неприличные звуки Герман. – Много пришлось перекипятить мне всяческого белья, прежде чем я извел этих гадких вшей. Зато теперь в нашем доме чисто.
«В нашем»? – вздрогнула Уля и почувствовала, как робкая искорка счастья, стыдливо пробравшись за пазуху, защекотала ее обвыкшую уже к бесконечным напастям грудь.
Прошло две недели. Мороз заботливо поил и кормил девушку, менял на ней промокшее насквозь белье, мыл почти обнаженное тело сгоравшей от стыда пациентки и говорил, говорил ей ласковые, ободряющие слова. Изредка он мимоходом касался чисто выбритой головы Уленьки, а потом, словно обжегшись, отдергивал трепещущие от неизвестных ей чувств пальцы и немедленно покрывался полыхающим румянцем, словно малое, нашалившее исподтишка дитя.
А однажды Ульяна почувствовала, что совсем здорова. Слабость, охватывающая до сих пор ее юное тело, отодвинулась на приличное расстояние, уступив место неожиданному приливу сил.
Герман сидел рядом и что-то писал. Уля взглянула на старый, пожелтевший от времени, листок бумаги, на котором красовались отчетливые ровные буквы, и неожиданно вспомнила церковно-приходскую школу, в которой ее так кстати обучили грамоте.
– Проснулась? – встрепенулся юноша и отложил обломок растрескавшегося карандаша в сторону. – Я вот строчу сейчас письмецо батюшке, что скоро мы приедем к нему в гости. Родители обязательно полюбят тебя, Лилия.
– Лилия? – удивилась Уленька и тотчас с радостью осознала, что теперь-то уж никогда не будет одна.
– Лилия Белая, – пристально вглядываясь в ее счастливые голубые очи, повторил чудные слова Герман. – Я теперь, душа- девица, на тебе готов жениться. Видела ли ты когда-нибудь себя со стороны, милая? Свое белое, как снег, тело, драгоценные платиновые волосы, похожий на волшебный аленький цветочек рот?
– Платиновые? А были пшеничные, – погружаясь с головой в его приводящие в смятение речи, изумилась Уля, и что-то горячее поднялось из руин надорванной души, чтобы поглотить ее, сиротинушку, без остатка. И это что-то не было той самой ужасной болезнью, которая, как ни странно, стала причиной ее приближающегося неспешно счастья.
– Платина – белый драгоценный металл, он гораздо дороже золота, – пояснил между тем парень и нежно поцеловал тонкие, дрожащие от волнения, пальчики подаренной фривольной фортуной возлюбленной.
Время остановилось. Только пылающий от страсти рот с жадностью впивался в трепещущее тело девушки, стараясь напоить его силой, присущей внезапно свалившейся с непредсказуемых небес чистой, но безрассудной любви.
– Хочешь молока? – вскакивая с кровати, невнятно пробормотал Мороз и, пряча от Уленьки пристыженный взгляд, метнулся к печи, чтобы принести оттуда крынку с топленым желтым содержимым.
– Хочу, – пламенея от необъяснимого поступка юноши, прошептала девушка и с удивлением осознала, что страстно и страшно хотела того, что могло между ними произойти. Но почему-то не произошло. И кто тому виной? Она, Уля, ее неумение, стыдливость или….
– Пей, – по-прежнему отворачиваясь в сторону, будто недовольно, пробурчал парень. – Мука пришлась очень к месту, так как я ее меняю на продукты животного происхождения, необходимые выздоравливающему человеку. Кстати, – он замялся и долго-долго вздохнул. – Кстати, прости негодяя, если сможешь. Никогда я не поступлю с тобой подобным образом. Веришь?
Уленька верила, но совершенно не понимала, почему Герман отказался от нее после созидающих поцелуев, воскресивших ее почти умершее тело и год назад почившую душу.
– Ты выйдешь за меня замуж? – вновь приближая к нареченной пылающее лицо, тихо спросил хозяин дома. – Ты будешь моей женой, Лилия?
– Буду, – невольно обхватывая руками мощную шею суженого, жалобно простонала беглянка. – Только даст ли мне развод ирод окаянный?
– Расскажи о себе, – решительно убирая осмелевшие ладошки большого ребенка со своего взбунтовавшегося не на шутку стана, сухо приказал юноша. – Расскажи о себе, родная.
– У меня был муж, – поморщилась Уленька и сразу же заметила судорогу, пробежавшую по настороженному лицу возлюбленного. – Меня за него выдали силком, и…, – Уля помедлила, – я страшно ненавидела Тришку Макарова.
– Значит, твоя фамилия Макарова, – невесело подытожил слова подопечной Мороз. – И что произошло дальше?
– А после свекор стал приставать ко мне, и я убежала, – Улюшка волновалась. Она вновь почувствовала приближение тошнотворной жаркой волны, которая, не спрашиваясь, налетела на нее из темного, завешенного тряпицей, угла, где, наверняка, таились животворные иконки. Почему-то стало нестерпимо стыдно, и, пытаясь спрятать от чужого, по всей вероятности, непорочного мужчины настырные едучие слезинки, Уля устало прикрыла обезображенными болезнью веками выцветшие от болезни глаза.
– Муж, супруг, спутник жизни, благоверный, – будто не слушая Уленьку, со скучающим видом проговорил спаситель и поднялся, чтобы брезгливо вымыть руки под повидавшим виды железным рукомойником.
Время остановилось. Где-то надоедливо капала вода, но это был не дождь, так как Ульяна отлично помнила, что во дворе хозяйствовала зима.
«Он отказался от меня, – прислушиваясь к ровному стуку совсем не весенней капели, невесело думала беглянка, – ошиблась Марфа. Видно, и ведьмы порой ошибаются. Что ж, вылечусь и уйду от Мороза куда-нибудь, а возможно, к Коновалову на завод подамся».
– Таков, видимо, мой удел, – скучно молвил неожиданный в ее жизни мужчина, – и ничего с этим не поделаешь.
«Он никогда не простит мне моего позора, – вздрогнула от его реплики Уленька и с замиранием сердца стала следить за тем, в кого, наконец-то, по-настоящему влюбилась, только и на сей раз злодейка-судьбина отшатнулась от горемычной, чтобы вдоволь посмеяться над ней, рабой божьей. Впрочем, верила ли Уля в Господа, она не знала, только не выходил из ее головы ослепительный образ наикрасивейшего и наилучшего в мире мужчины – Иисуса Христа. Еще в отрочестве младшая дщерь Назаровых, спрятавшись за согнувшимися в благоговейных позах спинами взрослых, восторженно любовалась сверкающими в полутьме ленивых свечей иконами, среди которых именно прекрасный Христос прочно занял свое почетное место в целомудренном сердечке простой крестьянской девушки-полуребенка с трепетной и полыхающей от неизведанного и необъяснимого чувства душой.
– А теперь мы съедим эту восхитительную кашку, – насмешливо произнес кормилец и протянул к пересохшим губам хворой ложку аппетитно пахнущей рассыпчатой гречки.
Уля послушно открыла рот.
Глава 8 Сестры
Добротный пятистенник Назаровых по-хозяйски расположился подле промерзшего чуть ли не до донышка небольшого пруда, в котором с весны по позднюю осень весело плескались рядышком с дикими сородичами многочисленные сорокинские утки и гуси. Вместительная горница в избе Василия Ивановича, служащая гостиной, справа и слева занавешенная цветастыми ситцевыми шторками, разделяющими друг от друга махонькие, в одну кровать, спаленки, была разобщена с кухней тщательно выбеленной огромной русской печью. Угрюмая чистота жарко протопленного помещения освещалась парой-тройкой свечей, гордо восседающих на бронзовых городских канделябрах.
В своей крохотной светелке Наталья тихо плакала в подушку, вспоминая любимую младшую сестренку. С Матреной никогда не были они так близки, как с Улей. Да и близки ли они были со старшей сестрой когда-нибудь? Держала себя Мотя высоко, чуждалась сельчан, с достоинством несла надменную голову и будто не примечала низкорослую Натальюшку, да и всех парней в округе, вместе взятых. Только Гришку гордячка к себе подпустила, да и потому только, что он городской да пригожий больно. Уехала Матрена в Михайловск, и будто не было в ее жизни родимого Сорокина. А Уля, Улюшка бы этого не сделала. Не отрешилась бы она от хромоногого брата и уродки сестры. Видимо, Господь забирает к себе, на небо, самых наилучших. А поганые ему и там не нужны.
– Груня, – послышался недалече быстрый хриплый шепоток Филимона. – Грунечка, ясынька моя ненаглядная, поди ко мне.
Наталья затихла. Догадывалась она и раньше о безответной страсти Фильки к злой мачехе, догадывалась, да свиданий их бесстыжих не видела. А тут….
– Окстись, окаянный, – умиротворенно фыркнула за занавеской Аграфена Петровна. – Небось, безмозглый батяня твой прослышал про наши сношения. Прибьет он тебя, паря, прибьет, не пожалеет.
– Ну и пусть порешит, – между тяжелыми вздохами, будто запыхавшись, противно прогундосил Филька. – Не мил мне свет без тебя, любезная. А то я и сам прикончу супостата, а без него поженимся. Хошь?
Долгий женский стон прорезал настороженное безмолвие родной избы, и Наталья, почувствовав необъяснимое волнующее напряжение внизу живота, обессилено откинулась на край кровати, хватая обескровленными губами пропахший травами воздух дорогого сердцу жилища. Вспомнился Тиша Баранов, его пронизывающие насквозь фиалковые очи, косая сажень в плечах.
– Баба! – внезапно ворвался в грезы девушки зычный голос Василия Ивановича. – Грунька, куды ты запропастилась, проклятущая?
Недолгая тишина взорвалась множеством мельчайших взбудораженных черных точек, которые тут же осели на крепкую немудреную мебель примолкшей от изумления горенки.
«Мне показалось, – ощущая всем своим естеством отчаяние тех двоих, притаившихся за ситцевой завесой, удивленно подумала Натальюшка. – Или Господь посылает знак, чтобы я, ненужная никому, пошла бы навстречу его могущественным желаниям. Каким»?
Грохнув табуреткой, вылетел во двор хозяин дома.
– Грушка! – стараясь перекричать ветер, заорал он, стоя под окнами. – Грушка!
Уткнувшись в подушку, чтобы вдоволь выплакаться, тотчас почувствовала средняя дочь назаровская, как вынырнула из спаленки пасынка наглая Аграфена Платоновна, отряхнулась, будто снесшая яйцо курица, и гоголем пошла туда, навстречу зову нелюбимого старого мужа.
Девушка притаилась. И тогда внезапно поняла она, что не может больше жить на этом несправедливом свете, который заносчиво отвернулся от нее, сиротинушки, чтобы, непрерывно награждая колкими тумаками, злобно посмеиваться за ее согбенной спиной. Приняв единственное правильное решение в своей короткой и смурной жизни, Наталья решительно встала и, столкнувшись нос к носу с куда-то спешившим братцем, накинула на себя старую шубейку, чтобы под прикрытием ночи навсегда покинуть опостылевшее без матушки жилище.
Матрена смеялась. Она никогда еще так долго не хохотала, ибо исполнилась ее давнишняя мечта. Исчезла Мотина соперница Улька, утопла в болоте Ведьмином. Так ей и надо, шалаве востроглазой. Чуяло Матренино сердце, чуяло, что и Гришенька ненаглядный иной раз искоса поглядывает на худосочную младшую сестрицу. И в кого она такая тощая да белокожая уродилась? Не иначе как маменька с благородным переспала. Не иначе. Только где сейчас благородные те? Кто без подштанников заграницу подался, а кто и в землицу, сложимши ручки, лег. Пристрелили буржуев недорезанных комиссары народные. Вот и ихней Ульке, словно буржуйке, каюк вышел. Не будет бесстыжими зенками зыркать, чужих мужиков приваживать.
– Какая же ты бессердечная, – с удивлением наблюдая за противоестественным весельем жены, осуждающе покачал головой Григорий.
– Влюбился? – впервые закричала на мужа старшая дочь Василия. – Чего молчишь, кобель михайловский?
То ли померещилась Матрене, то ли нет, но сверкнула в зрачках супруга лютая звериная злоба, сверкнула да за ресницами утаилась.
Как-то странно хмыкнул Гриша, резво вспрыгнул на ноги да, ни слова не говоря, из дому удалился.