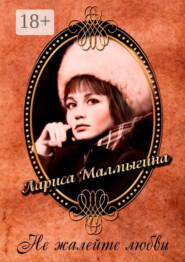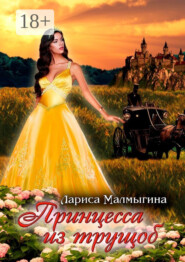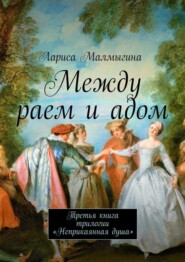По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лилия Белая. Эпический роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Андрюха! – неожиданно закричал кто-то, ветром ворвавшийся в горенку. – Андрюха, ну и бабу ты тута нашел! Хороша кобылка!
Веснушчатый низкорослый малый, обутый в прохудившиеся кирзовые сапоги, топтался в холодных сенцах и с жадностью взирал на опустошенный без его участия котелок.
– А не найдется ли у тебя еще чаво-нибудь? – опрокидывая полегчавшую по вине цыгана посудину, грозно поинтересовался незваный гость и, оттолкнув разомлевшего после еды приятеля, бросился на их с Григорием кухоньку.
Послышались чертыхание, звук разбиваемой посуды, и через несколько минут разъяренный от неоправдавшихся надежд красноармеец предстал перед терпеливо ожидающими его соотечественниками.
Про то, что в тщательно замаскированном подполе у Ивановых хранились про запас крупы, мука да картошечка, Мотенька докладывать мужикам не стала. Она торжествующе улыбнулась и тотчас почувствовала на своей талии нетерпеливые руки черноглазого брюнета. Он резко развернул оторопевшую от неожиданности женщину, бросил ее грудью на стол и, зарычав, начал лихорадочно задирать на жертве юбки.
– Ату ее, эту недорезанную буржуйку! – возликовал веснушчатый оборванец и, мигом подскочив к одуревшему от вседозволенности другу, разорвал на безропотном трофее кофточку, обнажив полные восхитительные груди.
«Надо терпеть», – отдаваясь в их полное распоряжение, решила Мотя и блаженно вскрикнула, когда молодое копье красавца пронзило ее мягкое белое тело.
Уже две пары рук хозяйничали над ее покорной плотью, заставляя делать непристойные движения, которые возбуждали женщину настолько, что она чуть ли не теряла сознание.
Наконец, красноармейцы притомились. Почувствовав нежданное освобождение, Мотенька стыдливо опустила ресницы и, кокетливо одергивая исподнее, искоса взглянула на молодых ухажеров.
Они, не обращая на любовницу ни малейшего внимания, деловито оправляли застиранные армейские одежки и удовлетворенно вздыхали.
– Погодь укрываться, краля, дай еще разок, – внезапно хихикнул рыжий и снова потянулся к вмиг сомлевшей полюбовнице.
– Ждут ведь, – рыкнул на приятеля Брыль и, стрельнув недовольными глазами в распутную женщину, злобно пнул ногой непредусмотрительно незапертую добротную дубовую дверь.
Они удалились, даже не поблагодарив Мотеньку за добросовестно оказанные услуги, а она, быстро стащив разорванную кофточку, с блаженством натянула на себя новую праздничную блузку, подаренную Гришенькой на день рождения.
«Надо бы поскорее сварить новый харч да маслица туда добавить поболее, – внезапно осознала хозяюшка, лихорадочно застегивая на груди многочисленные перламутровые круглые пуговки, – пока не пришел мой дорогой мужинек. А рванье необходимо срочно починить, благо научилась она этой премудрости у родной мамани».
Сердце Матрены пело и ликовало, ибо цыганистый красавец теперь навечно вошел в ее страстную непорочную душу. В том, что душа у будущей комиссарши Ивановой безгрешная, Мотя уверена была на все сто. Ужели не она отваживала от себя всех голожопых сорокинских хахалей? Ужели не она блюла себя долгими бессонными ночами в течение многих месяцев, ворочаясь в постели, пока уставший от работы Григорий виртуозно выводил носом разнообразные неритмичные мелодии? То-то и оно…
Матрена забросила повидавшую страстные объятия кофточку в старую плетеную корзину и решительно направилась к печи, дабы вновь подтопить ее, чтобы вновь сварить в котелке рассыпчатую гречневую кашу.
Глава 10 Грушкина тайна
В Сорокине было шумно. Еще бы, не каждый день гонят из села попивших кровушки проклятых богатеев, дабы могли свободно вздохнуть нищие и обездоленные.
Фома Евстигнеич Еремин вертел головой по сторонам и, лаская глазами каменную крепость Макаровых, втайне мечтал о том, что вскорости он и его детишки будут обитать в неприступных стенах этаковского дворца, ибо только неимущая многодетная семья должна по справедливости населить пустующий без хозяев дом.
– Не хочу! Не поеду! – где-то тонко закричала какая-то баба и бросилась на колени перед грозными красными комиссарами.
– Пшла вон! – заорал цыганистый парень и пнул носком кирзового сапога пожилую простоволосую Пелагею, валяющуюся в чавкающем от сырости снегу.
Погода не радовала. То мороз скует оттаявшую было землю, то оттепель вновь нагрянет. Говорят, у докторов в Михайловске полны коридоры поломанных. Да мало ли что говорят!
Еремин махнул рукой и вспомнил почему-то исчезнувшую Натальюшку. Уж как покорна была средняя дочь назаровская, как приветлива и мила со всеми. И дети его ластились к девице. А она, чуть что, бежит к Егорке, младшенькому и гостинец какой в подоле тащит. Не смог Евстигнеич отгадать в теле ее квелом душу участливую. Не смог! А теперя….
– Утопла Наталья, как и раскрасавица Ульяна, – будто подслушав мысли односельчанина, произнес чубатый Еремей Красулин, внезапно оказавшийся за спиной мыслителя. – Не фартит Иванычу, хоть тресни! А кому сейчас фартит? Палашке и ее мужику, которые вкалывали с утра до ночи?
– Чаво? – вздрогнул от неожиданности многодетный папаша и уставился на рыдающую крестьянку.
– Чаво-чаво, – отворачиваясь от раскулаченной землячки, буркнул незлобиво Еремей. – Правильно, братан, Наташка славной девкой была, хоть и росточком не вышла. Да что краса девичья, она скоротечна, а с лица воду не пить.
Вой Пелагеи начал цыгана злить. Подозвав на помощь беспрерывно скалящего желтые зубы веснушчатого красноармейца, насильник схватил за руки женщину и потащил к подводе, закиданной кучкой скромных деревенских пожитков, к которым жалась группка разновозрастных ребятишек.
– Вот и все, – мысленно прощаясь с середняками Калашниковыми, вздохнул Красулин. – Всех выгнали, только не тронули избу Назаровых. К чему бы это?
– Аграфену фиг прогонишь, – тяжело усмехнулся Фома Еремин. – Грят, дала она цыгану энтому, пока Иваныч спал. Пройдоха-баба!
– Пройдоха, – немедленно согласился с товарищем Еремей и, сплюнув на дорогу пенистую слюну, не прощаясь, поплелся вон.
Грунька сидела перед зеркалом и строила себе глазки. Она научилась этому премудрому искусству у маменьки, бывшей полюбовницы миллионщика Коновалова, у которого в молодости была в прислугах. Грят, похожа больно Грушенька на энтого миллионщика, ровно дочь родная. А почему бы и нет, разве не могет быть писаная красавица Аграфена благородных кровей? Недаром два года назад благородный Алексей Антонов ее заприметил.
«Ах, как хорош был Алешенька в постели, как ласков, – прищелкнула языком женщина, – как пригож! Да только внезапно исчез любый из села Сорокина. Исчез, будто его никогда и не было».
А тут и понесла Аграфена, да чтобы скрыть провинность свою, спешно вышла замуж за внезапно овдовевшего Назарова, у которого и без нее двор полон ртов. Работящ, конечно, Васька, да стар. А молодые Грунюшку сторонятся.
Живот не рос, хотя тошнило грешницу сильно и слабость дикую она чувствовала. Только радовало одно – не замечал лопоухий муж ее состояния, да и сорокинцы ничего не примечали.
«Не желаю молодость свою губить», – по утрам нередко думала женщина и тайком от семьи, будто ненароком, про Марфу-колдунью сельчанок расспрашивала. Сказывают, справно умеет она от никчемного плода избавлять.
Как-то летом, наконец, решилась женщина и, выбрав время, когда никого поблизости не было, пошла она в лесную чащобу, да заблудилась. Бродила новая жена Иваныча по лесным не топтаным тропинкам, бродила, да вышла на маленькую избушку. Возле избы той сидела востроглазая сухая старуха и теребила скорыми костлявыми руками лен.
«Не это ли та самая ведьма? – подивилась Грунюшка и без приглашения присела на завалинку, чтобы попытать у бабки про знахарку именитую.
Присела и забыла, с чем пришла.
– Возьми это зеркальце, – неожиданно заговорила несловоохотливая бабуся. – Оно и выведет тебя к Сорокину.
– Как? – растерялась Груня, но зеркальце схватила и к лицу поднесла.
И сейчас не удержалась женщина, чтобы не полюбоваться собой.
– А так, – сразу сникла полоумная и от гостьи незваной отвернулась. – Сказано, смотрись в него: пока красивой будешь себе казаться, правильную дорогу держишь. А как меняться на глазах начнешь – не туда свернула.
Подивилась бредням мегеры Платоновна, подивилась да тяжело на ноги поднялась.
– Подожди, – остановила заплутавшую лесная жительница, – молвить хочу вот что. Появится у тебя через четыре месяца девочка красоты неописуемой. Только ведаю по глазам, не нужен ребенок этот матери. Так вот, оставлю я у себя детку, а ты приходи рожать сюда, в эту избушку. Приму я у тебя роды да домой с миром отпущу. И живот твой небольшим до конца будет, не опозорит тебя перед сельчанам. Наденешь сарафан пышный, тот и не выдаст беременности ближним и дальним.
– А как я дорогу найду? – ощущая приступ неописуемой радости, вскричала Аграфена Платоновна. – Да и лютой зимой это будет!
– А гостинец на что? – пробурчала чернокнижница и от пришелицы отшатнулась. – Если бы не дитятко, век бы тебя не видала!
Прочитала баба в глазах фурии угрозу, прочитала, да отмахнулась от нее, угрозы этой. Главное, не будет новорожденная девка ее молодые лета губить. А с дурнем Иванычем Грушенька и без колдовства разберется. И дом его крепкий приберет к рукам. Поможет ей в этом хитрость да ловкость, а на бога надежи нету, да и есть ли на свете бог этот!
Пока размышляла бабонька, исчезла ведьма проклятая, будто ее и не было.
Взглянула на себя в зеркальце женщина да ноги к селу у нее сами побежали. Вернулась, а Улька со своей красотой ненавистной за столом сидит. Нечего ей, видите ли, делать! Поставила на место падчерицу мачеха и за занавеской спряталась. Смотрит на подарок, а в нем темно стало. Знать, неправильно сделала старшая Назарова. Проглотила обиду от глупого предмета женщина, да забросила его в дальний угол, чтобы при приближении родов вновь вынуть оттуда и за освобождением в лес уйти.
Время прошло быстро, будто кто-то невидимый дергал за веревочку прирученные деньки и ночи, торопя их и понукивая. Все казалось странным беременной женщине. И то, что как-то незаметно прошли все ее немочи, что Василий внимания не обращает на округлившуюся талию женушки, что девчонки глаза отворачивают, а пацан единственный слюнявые губы облизывает. Калека, а поди ты, вымахал в богатыря русского.