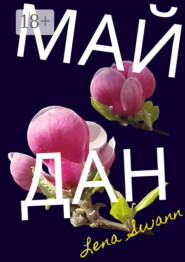По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искушение Флориана. Маленькие романы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иногда все-таки удавалось дотерпеть, пока ей приготовят, по ее же рецептам, вегетарианское балти или джалфрези, или дупияза, или саг-алу в ближайшем индийском ресторанчике: шеф-повар индус был свиреп – и весь насквозь пропах карри – как будто у него блюдами с карри разило уже изо всех пор; с косыми зубами, из-под губы вырывающимися вперед под воинственным углом; с лицом, будто, посыпанным пеплом; с крайне маленькими, круглыми, крайне близкопосаженными глазками – и с черной конской челкой, выпирающей из-под белого колпака и закрывающей и без того туповатые зрачки. Но не без таланта, подлец. Завернув жаркую снедь вместе с шафрановым шампиньонным рисом в пластиковых коробочках покрепче в бумажный пакет и вкушая всё равно вырывавшееся оттуда благоухание гвоздики и фисташкового кардамона, неслась тогда обратно домой уже чуть не бегом – предвкушая синергию работы за компьютером во время еды. «Между градациями остроты блюд в индийской кухне – mild, hot, very hot – ведь точно такая же разница, как в иврите разница крепости харканья в буквах хэй, хэт, и хаф!» – нежно улыбалась себе под чувствительный нос Агнес – и тут же бывала в темноте, между двух заросших, запертых на ночь черной решеткой из крашеных пик, скверов, схватываема под руку непутевым арабским смазливым подростком, который явно катастрофически неверно трактовал блаженную нежность ее улыбки (которая, некстати, совершенно случайно во внешней реальности, пришлась на волне призрачное его, прохожее, даже не замеченное ею до этого, насквозь пройденное лицо). Уйди, мальчик, я улыбалась рифме еды и букв. Вот так вот расправишь крылья – а тут вы все, никчемные призраки, толкаетесь локтями – назойливый эламский, блудливый вавилонский, докучливый древнеперсидский.
Мать Агнес, несколько лет назад счастливо схоронив четвертого мужа, взяла да и частью распродала, а частью сдала в наем, немалое, серийно накапливавшееся (как будто специально – по соседству) и свое, и всехошнее их недвижимое имущество в Surrey; и, вдруг заявив, что ей-де на-до-ело жить в холодной скучной стране со скучными мужчинами, – рванула в Рим, купила себе всю насквозь солнцем пронизанную мансарду в Трастэвере, с видом на две пружинчатые надхолмные пинии с кронами как кулаки сырых крепких брокколи на пригорке в Пассэджата дэль Джаниколо, на некотором отдалении, – и с куда более близкими, ручными, на собственной террасе на крыше – четырьмя ярко-оранженосными апельсиновыми деревьями, в каждом из углов. А в довершение безумств, теперь еще и с каким-то изумленным бесстыдством и умилением себе же самой содержала кудлатого юного римского любовника, больше чем в два раза моложе нее самой, – который, скорее, уж Агнес в младшие братья годился. Дочери же мать посылала хоть и нещедрую, но регулярную ренту. И раз в месяц чудом, сопоставимым с высечением ключевой воды в пустыне из скалы жезлом, казалось Агнес высечение банковской карточкой денег из банкомата. Частенько манну, чудом, в магазинах приходилось высекать и с карточки совершенно пустой! Не умея ни считать деньги, ни «экономить» (еще более тяжкая болезнь мозга, чем Ванессино желание убираться дома!), Агнес днями сидела без денег вообще, – и волшебством было, когда карточка срабатывала в кредит. Как она ходила по магазинчикам! В те редкие дни, когда, не дожидаясь смертельного голода, решалась, как нормальная, закупить себе еды домой! Надо было видеть! Только некие специально, видимо, заботливо нанятые на небесах ангелы – секретные агенты умудрялись подбирать за ней забытые банковские карточки, оставленную еду (которую она, купив, заплатив за нее – и тут же про нее забыв, радостно бросала на прилавке, как лишний груз, и уходила), купюры сдачи – вываливавшиеся из пасти машинки саморасчётной кассы и не замеченные Агнес, потому что в этот момент она, божественно-презрительно улыбаясь, веселилась над загадочным зюзюкающим, шепелявым смещением согласных в разных арамейских диалектах в слове «золото», – ангелы догоняли ее, возвращали ей – что-то земное, уже совсем потерявшее к этому времени всякий для нее семантический смысл, высечя ассоциативную золотую искру.
Когда сквозь крепостную стену (выключенного почти всегда мобильного Агнес) прорывалась иная университетская подруга и, тараторя, интересовалась, почему же Агнес отказалась ехать на такой престижный симпозиум в Милан, где, поверь, была безумно возбуждающая атмосфера, и где уж твое выступление бы оценили, и где Эндрю, кстати, блистал, блистал! – Агнес лениво спрашивала себя: «а почему, действительно?» В свои тридцать три года Агнес, великолепием образования могшая посоперничать уже даже с Эндрю, давно превзошедшая его, блестяще получившая очень раннюю докторскую степень, опубликовавшая два десятка ярчайших, нашедших отклик, научных статей, – ничуть не трудилась сделать ни серьезной «карьеры» в обывательском этого слова понимании, ни подгрести доходной и престижной должности, не имела ни собственного дохода, не обзавелась семьей, не имела даже любовника, ненавидела даже вот эти вот ярмарки тщеславия – международные симпозиумы и семинары. Пять – нет, чуть больше уже… – лет назад, когда Эндрю, женатый на тихой женщине (к науке отношения не имеющей) и в течение чудовищно длинных и эмоционально изнуряющих восьми лет с удобством регулярно приходивший к Агнес раз в неделю, по субботам, на весь день (врал жене, что идет в отдел редких книг в Британскую Библиотеку), а также с шиком ездивший вместе с Агнес на все международные семинары, так вот когда этот самый возлюбленный души-не-чаемый Эндрю, гений лингвистики, узнав, что Агнес беременна, вдруг превратился в трусливого жалкого блеющего кролика, начал бемекать, что Агнес обязана делать аборт, что жена развода не даст, и вообще что жена его разорит и в суды затаскает, если узнает… и что его карьера, его карьера! международный его имидж! будут безнадежно испорчены!.. – Агнес вдруг со счастливейшим облегчением почувствовала, что этот трусливый кролик ей физически в одночасье стал отвратителен, все чары, державшие ее до этого восемь лет рядом с ним на привязи, испарились. Нервный срыв, болезнь, выкидыш, чудовищно трудный уход от Эндрю, цеплявшегося за нее, устраивавшего бабьи отвратительные скандалы, вдруг – задним умом – уже после того, как увидел, что Агнес порвала с ним всерьез – начавшего настырничать с предложением ненужной ей уже больше нечестной и неблагородной, жалкой его руки и подлого его дырявого сердца, – и в конце концов бегство от него на другую квартиру, чтоб не знал даже адреса, – всё это теперь вспоминать Агнес себе давно уже запретила – как чудовищные мифы и легенды злобного, жестокого вымершего, на земле больше не существующего, аморального народа.
Гениальность как выбор, – да, всегда. Но не у всех находятся на выбор этот силы. А если горе – это метод судьбы заставить тебя принять гениальность – что ж, мы рады таким гостям. Я чеканю монету, которая будет иметь хожденье на небесах. Вот уже третий год чеканки. Мучительной – но такой божественной. Боже, мне иногда кажется, что я не доживу до конца монографии. Будет чудом, если доживу.
Птичье остренькое лицо с узким тонким загнутым клювом (фарфоровые ноздри просвечивают) и какой-то птичий же набор предметов на овалом вытянутой голове – симбиоз яйца и гнезда: яйцо – лысый белый кумпол, и гнездо – кудрявая каштановая живейшая поросль, вкруг птичьего яйца остатками завивающаяся. Именно таким, комичным перестарком с вечным наигранным восторженным юношеским огнем во взоре, бегающим с указкой перед доской, испещренной мелованными формулами, взбегающим по амфитеатру студенческих скамей, вампирски выклянчивающим из юных слушателей реакцию, – таким виделся Эндрю ей теперь, когда (иногда), в интернете, шастая за языковедческими континентами, она натыкалась на видео-записи его выступлений, международных лекций. А эта его передняя левая прядь волос из видео, из интервью на парижской конференции! – прядь косая, сальная, рваная, даже не каштановая, а почти черная (крашеная?! Эндрю?! Ты начал краситься?!), которую он отращивал специально подлиннее, ниже носа, и по-юношески лихо перекидывал ее направо и назад, прикрывая лысое яйцо и гнездо как сеточкой! Эндрю слыл среди лингвистов не просто авторитетом – нет! Ни «авторитетом», ни «уважаемым» среди коллег по всему миру он никогда не был: он слыл просто «гением». Безумным, устраивающим скандалы и местечковые перевороты в семитологии, гением. Но по мере научного возмужания Агнес – вернее, по мере ее независимого творческого раскрепощения, по мере избавления ее от любовного дурмана и от восторга сверкающими профессиональными спецэффектами Эндрю (шутка ли сказать – ей было двадцать – ему уже сорок четыре; богатства – не его! – награбленные им и им носимые в профессиональном багаже – к тому времени были несметными, и вся семитология перевернулась в одночасье, как звенящий золотой поднос на наглой голове богатого заносчивого продавца пахлавы у Яффских ворот, грохнувшийся о брусчатку, так, что разлетевшиеся по мостовой липкие сладости вдруг достались нищим голодным беспризорным детям и симпатичным бездомным собакам – вот такое у нее, дрожащее, звенящее чувство было, когда она в юности впервые услышала его лекцию), Агнес вдруг как-то ясно увидела, что Эндрю, любитель выстраивания акцентуированных парадигм и уравнений с иксами, любитель достраивать «недостающие в найденном археологами корпусе языка звенья», предсказывать заполнение пустующих ячеек, а по мере опровержения его прогнозов – изящно выворачивать свои же ошибки как доказательства справедливости подпункта «А» второго раздела его же двадцать пятой теории, опровергающей его же двадцать восьмую (но в обновленной версии свежего года), изложенной в Веронском докладе в позапрошлом году, – короче говоря, Агнес вдруг почувствовала, что Эндрю не просто педант (все слова всегда в столбиках, по пунктикам, по формулам) – а еще и шарлатан, любящий наводить в мозгу своем такой же порядок, как Ванесса в доме Ричарда – а затем распродавать гряды парадоксально скомпонованных феноменов диалектных вариативностей (зачастую – просто случайных! обмолвок, описок, региональных безграмотностей пользователей языка!) как новейшую личную теорию, как переворот в языкознании. Шарлатан, эксцентрик – поражающий неофитов и стародумов парадоксальным – а потом эту же парадоксальность парадоксально развенчивающий. Эндрю скользил по поверхности – и никогда не заглядывал дальше грамматической и словоформной и историко-лингвистической шелухи. Фигляр – хоть и фиглярствующий на высотах интеллекта. Впрочем – один единственный урок, запомнившийся от Эндрю, ей оказался ко двору: держаться особняком, никогда не подстраиваться под посредственность, крепко сбивающуюся в стаи и провозглашающую себя законодателями мод – в науке ли, в искусстве ли, в любом творчестве – да и в жизни тоже. Да и вообще ни на кого никогда не равняться. Едва ли в жизни своей он этому правилу честно следовал. Вот и перестала она равняться даже и на Эндрю, пять лет назад.
Апрельские утра, тем временем, делались все более теплыми: курортными, томными, дымными, банными. Солнце, когда появлялось за цапельно-пепельной взбитой мутью, – виделось как на перевернутом донышке телескопа: настолько крошечное! – можно было его (когда утром заваливалась спать до полудня после ночи работы) прикрыть кончиком мизинца. Крошечный, неправильной, посекундно меняющейся формы кругловатый кусочек расплавленной золотой платины.
За компьютером, уже после каких-нибудь пяти часов неотрывной работы, спина болела невероятно! Работа, трехлетняя упорная работа-борьба, которую Агнес вытащила, дотащила на своем хребту уже почти до финиша, до вершины, – давала теперь этому хребту знать о всей тяжести пройденного, в крутую гору, пути. И дело было даже не в неудобной позе за компьютером – а в том, что позу неудобную эту (сгорбившись, перекрутившись – и нога на ногу, избоченясь – чтоб можно было одновременно дотянуться и до горы нужных материалов слева от лэптопа, и делать собственные заметки гелиевой ручкой справа от лэптопа – и, совершенно одновременно – впечатывать собственную быструю дактилоскопию в компьютер, по центру), неудобную позу эту Агнес не замечала – в течение нескольких часов – до той самой секунды, когда боль становилась уже просто неимоверной, – и, очнувшись, Агнес ощущала, что все тело занемело, – и, глядя на печатные материалы с текстом от профессора Цолина (из академии маленького города с фонетически интересным и сложным, зубным названием Ostrozhskaya), Агнес вдруг явственно видела, как листок бумаги начинает подмигивать, выключаться, перезагружаться – и загружать антивирусы.
В воздухе рассыпа?ли мелочь, серебряные монеты – мелочь, мелочь, такую мелочь, что не разобрать было год чеканки! А иногда, сразу после полудня, начинались вместо этого наоборот биржевые махинации, спекуляции – цену дню нагло завышали как могли – и из серебра день делался вдруг золотым. И Агнес, расправив хрустящие исхудавшие плечи, шла на улицу – ловить и считывать в солнечных (игривых быстрых веснушек через край наполненных) просохших переулках кашляющие звуки, ушами и подошвами: шумные, смычные, лабиальные, фрикативные, латеральные, велярные, увулярные, фарингальные, ларингальные – все, конечно же, консонантные.
Дойдя до реки, Агнес заходила в маленькое плавучее кафе с прозрачными стенами (тоже насквозь лучами солнечных отражений наполненное). Сидя в удивительном этом кафе на волнах – как будто без стен – как будто стены из солнца и воздуха! – воображала Агнес (милостиво трансформируя реальность, как бы преломляя реальность на коэффициент будущего – глядя на простых выпивох и обжор за столиками рядом), что сидит уже в каком-то здании на небесах (как будет, будет же однажды ведь сидеть!) в компании удивительных, чутких, тонких (и безгрешных!) знатоков арамита – и беседует с ними (как будет, будет же ведь однажды непременно беседовать!). И вдруг становилось безумно жалко тратить земное время хоть на что-то, кроме подготовки к небесным этим разговорам и встречам, – перед небесными знатоками арамита ох как не хотелось ударить в грязь лицом! – и Агнес, расслабившись было, вплыв было в укачливую житейскую прелесть парадоксально золотого плёса зелёно-грязной Темзы, веселых сытных голосов вокруг и прелестных же тройных пинг-понговых отражений солнца, волн, невидимых стекол и (увы!) – пива на соседском столике, – вскакивала и бежала домой, доделывать главу.
А однажды даже увидела сон, удивительный, солнечный сон – нет, сном, пожалуй, видение это кощунственно было бы назвать! Откровение, дар. Заснув вдруг как-то на полчасика в полдень, после двух дней непрерывной работы, оказалась Агнес перенесена в удивительное, неизвестное, незнакомое, невиданное (но всегда так чутко предчувствуемое!) запредельное пространство: конечно же – за рабочий стол! Но вот где находился письменный этот стол! Вокруг, вокруг – было… Агнес начала с нежным улыбчивым любопытством осматриваться (чёткая, ни на секунду не оставлявшая ее наблюдательная и аналитичная трезвость сознания – были залогом реальности происходящего!) – вокруг были стены – но какие-то легкие, незамурованные стены – и даже не достроенные до конца – низенькие, и в восьмушку, максимум, ширины, с красиво и ассиметрично скругленными краями – ни одного угла – выгородки, как будто театральный намек на стены, скорей, чем защита. И, то, как прекрасно себя Агнес там, в удивительном, личном этом помещении чувствовала, свидетельствовало о том, что защищаться там и вправду не от кого. А вокруг, вокруг – о, это было самое прекрасное и неописуемое земными словами, земными понятиями. Дело в том, что комната эта, вместе с письменным столом, вместе с самой Агнес – легчайше висела в воздухе ни на чём. А вокруг, вокруг! Вокруг, сколько хватало глаз (а хватало их, вдруг, в секунду отдохнувших, избавившихся вдруг внезапно от всякой компьютерной усталости, – до горизонта), – вокруг был… воздух? свет? светящийся чистый свежий воздух – и впереди, и внизу (под комнатой). Эфир – сказала бы она – если бы слово не казалось ей чересчур выспренным. Нет, коврик в комнате был – и даже покоился на полу – но пол сам с удивительной уверенностью и прочностью покоился на воздухе! И внизу – внизу было то же самое – голубоватый, свежайший, чистейший, светящийся дневной воздух! И сколько хватало глаз – назад – и вправо, и влево – было то же самое. Вверху, над ней – разумеется, тоже! – никакого потолка! Солнца нигде видно не было – но мягкий дневной радостный свет как бы был растворен во всём воздухе равномерно. Агнес села за рабочий стол – и выдвинула (справа) второй сверху ящичек – и вынула оттуда бумаги. Встала, положила кипу бумаг на стол, стала их перебирать – и поняла, что здесь, в этом ящичке – всё, что относится к ее периоду жизни с Эндрю. Среди бумаг она увидела ту, что относилась к злосчастному дню, только в начале знакомства с Эндрю, когда она была опоена влюбленностью и, по молодости лет, не в состоянии даже была всерьез понять, какую боль причиняет этим его жене (заочно? незнаемо? тайком? прекрасно… нож в спину в темноте – незнакомой ей женщине, быть может задыхающейся там, где-то, от телепатических приступов прозрения!). В тот день Агнес казалось, что ее жизнь погибнет, если она не будет вместе с Эндрю. Теперь, повертев в руках листок, Агнес вдруг как-то внутренним наитием увидела, что адюльтер с Эндрю, наоборот, едва не убил ее, едва не убил ее душу, ее научный дар. Всё поняв – вздохнула – и убрала всю кипу бумаг обратно в ящик. А уж, задвинув ящик, и сев опять за работу (всё никак не надивясь – то и дело разглядывая с улыбкой красивый светлый воздух вокруг, эту светящуюся радостную воздушно-солнечную чуть-чуть голубоватую взвесь, во всех направлениях, – на которой было так надежно!), Агнес и вовсе почувствовала удивительную легкость: «вот, проблема, которая меня мучила – исчезла. Так же и все новые сегодняшние проблемы, – кто знает, что там еще лежит в ящиках! – всё это ерунда, по сравнению с вот этим чудом вокруг!» – и немедленно проснулась – свежая, бодрая, хотя «проспала» всего несколько минут, – и с удивленной благодарностью счастливо рассмеялась: «Так вот, значит, как будет выглядеть моё рабочее место в Вечности!»
Но бывали и другие дни: мерзкая серятина! – которых, казалось, не переплыть, не перебороть: на небе никакого солнца вообще – ни золотого, ни платинного, ни даже серебряного, ни большого, ни даже крошечного, – одна ртуть, муть. И небо ввинчивает тебя как будто в землю – как будто на голову тебе бросает гигантский серебряный поднос и оттаптывается на нем, с малоприятным звуком. И все никак не разродится дождем – а когда, наконец, дождь начинается – то не настоящий дождь – а так, издёвка, гнусная шутка: как-то подплёвывается – просто чтобы еще больше изгадить настроение! Звонили в дверь из газовой компании и грозили вывезти имущество (флэш-карту хотя бы, мне, надеюсь, оставят, недоумки), если она немедленно же не заплатит квартальный счет.
Впрочем, просматривая готовую уже часть монографии в компьютере, Агнес ярко видела, что бриллианты, истинные сокровища, в тексте, как на вспаханном поле, ею зарытые, и бриллиантовыми деревьями уже взошедшие, и бриллиантовые начавшие приносить плоды, – выработаны, родились именно в такие вот страшные дни депрессии, боли, отчаяния, мнимого бессилия – именно на противостоянии: как будто мир атаковал именно тогда, когда чувствовал, что она в двух секундах от создания этих сокровищ. Поняв это, Агнес прочно запомнила: чем больше сопротивление среды – тем, значит, больше масштаб того, что задумала сделать – и именно это среду пугает, заставляет огрызаться. Значит – надо просто идти дальше, работать в вечность мощнее и аскетичнее – и не ждать награды в виде милого настроения.
Агнес запрещала себе читать новости – но, вот, в воздухе зародились военные слухи и навязчиво запахло эсхатологией – и хотя бы раз в месяц (не яд, гомеопатия!) Агнес, корчась от отвращения, всё же, мировые сводки предпочитала просматривать – чтобы не проспать ненароком конца света! Дикая держава (некогда славившаяся неплохими лингвистами и щедрыми закупщиками древних кодексов), увы, проработавшая весь век почти прошлый в подрядчиках у сил зла, теперь вдруг взглянула на себя в кривое зеркало и, ужаснувшись собственным оскалом в отражении, вновь озверела, и принялась за старое – крушить всех маленьких доверчивых соседей, которые имели простодушную глупость поверить в недавнее империи этой раскаяние. Не надо даже было обладать педантизмом Эндрю, чтобы простроить примитивнейшие два-три алгоритма – пинг-понгом через вечность назад отщепившиеся от интересов Агнес аравийские языковые подгруппы, – которые, с ядерной подачи державы этой, неминуемо должны были теперь, после того, как мировая чека была выдернута, привести к…
Успеть бы. Успеть бы. Монографию, всё же, как-то хотелось опубликовать до того, как дебилы взорвут планету. Впрочем – тоже не велика беда: мою-то уж книгу сразу тогда перенесут на вечные носители, в обход земной типографии. Кроме того – видали мы эти воинственные империи и бесславный их конец – всякие битвы при гавкающих городах, гетеры, поджигающие библиотеки, – и кто теперь вспомнит о них? Разве что, как антураж для параллельной (случайно пересекшей гнуснейшую внешнюю историю) истории языкознания – но уж это никогда и никак не связано было с торжествующим у власти зверьём.
Еще ее очень смешили, до хохота, фашисты – разных стран, разных национальностей – но до невероятности одинакового узколобого интеллекта! Знали бы, неучи, что даже языки свои унаследовали через так ненавистных им всем носителей-евреев, и прочих инородцев-финикийцев, – ведь любое малограмотное фашистское быдло даже не в курсе, что буквы родных их алфавитов, которыми они так кичатся, родились (все до одного!) от финикийского и иврита! Как прекрасен этот виртуальный танец букв – когда, проворачивая и вертя, хулигански, финикийские и древнееврейские значки в воздухе, в невесомости, как будто в компьютере (выворачивая их изнанкой или вертя кругом!), в объемной графике, – можно было разгадать в них будущие буквы греческие, латинские – а значит, и английские, и немецкие, и французские – и даже русские, и даже индийские!
А вот грянуло (как всегда поправ календари) лето – и какое! Книга была практически готова – и, как при прорытии подземного Силоамского тоннеля – из источника Гихон в Кедронской долине – внутрь окруженного городскими стенами Иерусалима, – ровно в ту точку, где заранее, с хорошим историческим запасом, нужно было создать чистый источник Силоам вместо застоявшегося пруда, – палеоеврейские каменоломы, сами не зная того, уже жаждавшие квадратного арамейского письма, еще ударяли киркой, каждый навстречу другу своему, – но оставалось пробить в камне всего-то-навсего три локтя – и слышен был уже возглас одного, обращающегося к другому. Собственно, оставалось написать яркий заключительный синтезирующий кусочек, с образом, пожалуй что, именно Силоамским, чтобы закольцевать книгу не только к началу – но и выпустить луч к будущему; и навести привередливую правку: проверить, не слишком ли в лоб, не слишком ли прямолинейно заявлены в книге иные идеи, – лучше ведь жесткой чередой фактов кое-где подвести читателей к выводам самих. Тех драгоценных двадцать пять – двадцать семь (ну или пятьдесят – если быстро сделают перевод) читателей на терпящей бедствие планете, которые книгу в состоянии будут понять. Но голос, полновесный голос живой, родившейся книги уже, из-за последней каменой стенки-преграды, безусловно, звучал. И ударили каменоломы каждый навстречу другу своему, кирка к кирке, – и пошли воды от источника к водоему Шилоах.
Звуки, жаркие летние звуки, летали в вечерней темноте между ее и Чарльзовым домом, как между анлаутом и ауслаутом слов. Итальянка из дома напротив (чуть поправее и повыше окна Чарльза), высунувшись зачем-то в раскрытое окно, и лишь ненадолго вдергиваясь внутрь кухни (со звоном разбиваемых бокалов), истерически кричала на любовника – а он – на нее; кричали, причем, не оба разом, а каждый давал другому выораться – а потом уже начинал орать сам – во время чего второй уважительно замолкал и ждал – как в опере. Какая-то злобная крыса из подвала (левее Чарльза) визжала на кротчайшую старушку (двумя этажами выше, над собой), что пожалуется в местный совет, если та не прекратит кормить на подоконнике голубей – ибо они гадят ей на голову. А не надо потому что быть крысой и залезать жить в подвал. Дынцдынцала танцевальная музыка с парти на террасе у кого-то из соседей, слева. Все будто вывернули, от жары, жизни начинкой наружу. Даже Чарльз, видимо, поддавшись гипнозу жары, сидя, как обычно, перед раскрытым окном и читая что-то у себя на экране компьютера, вдруг смачно захохотал, – а когда Агнес на него обернулась (легкий кивок головой вправо), Чарльз, легкое ее движение это увидев, – как бы в свое оправдание – комично вздернув мохнатые черные свои брови, экспрессивно указал ей обеими руками на экран собственного лэптопа: мол, смотрите сами – невозможно же удержаться от гогота! «Конечно же какая-нибудь лингвистическая шутка», – моментально догадалась Агнес – и углубилась обратно в свой текст.
И вот тоннель был прорыт. Незначительность остававшейся правки, шум в голове от счастья свернутой горы…
У самого подъезда Агнес вечно пасся чей-то дряхленький, худенький крайне старомодный припаркованный мотороллер – отбрасывая на сиреневатый асфальт тень темно-ослиного оттенка; и, по-ослиному же, избоченясь и на бок наклонив голову, прижимал от жары ослиные уши. Агнес выходила (не позже полудня) в жаркий палисадник (громадный ключ в кармане, расколдовывающий черную, густо крашенную чугунную калитку в изгороди из густо крашенных пик), любовалась мелкими фиолетовыми цветами буйного чайного дерева – и осторожно нюхала кисло-приторный белый шиповник.
– Я уже это сегодня тоже дела! – доверительным шепотком признавалась ей дряхлейшая старушка с рюшами жабо меж лацканами твида, в шляпке – и с дряхлейшим западно-высокогорным белым терьером на поводке, тяжко шаркающим, как и хозяйка, по мягкому изумруду. – Честно Вам сказать? Великолепно! Великолепно! – и белые меховые уши, белый меховой коротенький хвостик, и край ручки белоснежной тонкой изящной металлической тросточки старушки и белый шиповник в шляпке дергались при ходьбе в рифму.
Но вдруг случилась катастрофа. Агнес не враз поняла, что произошло, когда в понедельник оказалась разбужена чудовищным грохотом – как будто дом сейчас рухнет, как будто каменоломы вдруг сошли с ума и уничтожают ее дом, как будто им вдруг какой-то мерзкий шутник вдруг сменил задание, исказил дорожную карту. Едва высунув нос из пещеры – Агнес не увидела ни золотого светофора, ни сикомора: в окно заглядывали три наглых грязных рожи, мужики, и один из них с ист-эндовским фусюканьем горланил:
– Гивь ась сям во’а, гиизя!
Вскочив, замотавшись в одело, и в секунду, с ужасным подозрением, взлетев вверх по ступенькам в кухню – Агнес быстро осознала вселенский размах катастрофы: все окна (не только ее, но и Чарльзова дома) заросли с умопомрачительной быстротой сколачиваемыми лесами. Звонки менеджеру, мольбы, жалобы – ничего не помогало. Мы, мол, Вам звонили, хотели предупредить, косметический плановый ремонт задних фасадов, но у Вас был отключен телефон. Грохот кувалд не утихал ни на секунду.
Работать было невозможно. Агнес уехала на весь день к Каррингдонам. У Чарльза, когда она вернулась, окно выражало всё оскорбление происходящим как могло – были наглухо задернуты жалюзи, – и внутренне она этот возмущенный жест поприветствовала. Но зарисовка, замазка этой привычной буквицы Чарльзова окна сделала ситуацию во дворе еще неуютнее, еще невыносимее.
История заполонила двор – во всей своей неприглядности: по вавилонским многоэтажьям лесов громыхали, сновали вверх и вниз мужики, заглядывали в окна, разговаривали друг с другом криком – даже когда находились друг от друга в расстоянии рукопожатия. Агнес было видно, что торцы каждой доски, из горизонтально кинутых на схваченные болтовыми локтями металлические сваи, закрывавшие большую часть и без того задернутого окна Чарльза (конструкции снаружи своего-то окна ей было не разглядеть), были выкрашены в разные, почему-то, цвета: какой-то – в нежно-сиреневый, а какой-то в нестерпимо алый индийского толка – зловонный какой-то цвет, – и Агнес подумала, что рабочие экстравагантно заранее помечают подходящие по калибру доски, и потом собирают их по цвету, как дети кубики. Но потом решила, что все-таки их, несмотря на неприязнь, слегка романтизирует, – и доски наверняка просто испачкались о разные здания, которые шумные изверги красили перед этим.
В задернутых жалюзи в Чарльзовом окне, ночью, как в экране, метался его черный силуэт: Агнес видела, что он все время привставал из-за компьютера, оборачивался куда-то. И, как ей показалось сквозь все эти ширмы, – ужасно нервничал. И, за деревянными его желтовато-коричневатыми рёберными жалюзи, огромный желтый абажур лампы над ним выглядел как полная луна сквозь тростник. А на следующий день на ее собственных, подоконных лесах, на горизонтальных досках, скомканная кем-то из рабочих кульковая обертка от шаурмы лежала как крошечная мертвая птица, судорожно поджавшая ноги.
А когда ровно через неделю нашествие схлынуло и исчезло так же внезапно, как и заявилось (Агнес умудрилась даже проспать, привыкнув к шуму, тот момент, когда рабочие разбивали кувалдами крышки креп и разбирали вавилон), – Чарльз вдруг куда-то пропал. То есть квадрат окна его, теперь уже раздернутый, – не зажегся вечером, не наполнился привычным содержанием – Чарльзовым силуэтом и компьютером. Через десять дней его отсутствия Агнес, доделавшая уже почти всю правку, созвонившаяся уже с издателем и получившая положительный ответ, – запаниковала: досада, которую она испытывала, глядя по вечерам на пустое, черное окно Чарльза, сравнима была с тем, как если бы кто-нибудь вдруг стащил с привычного места любимую ее гелиевую ручку! Как они посмели?!
Испытывая непонятную, необъяснимую, все больше и больше с каждым днем нараставшую тревогу, Агнес, прекрасно осознавая и вслух говоря себе даже: что трюк этот древен как мир – тосковать по тому, чего тебя лишают, – все-таки не вестись на него не могла. А как мило Чарльз, прошлой зимой, когда был жуткий мороз минус один по Цельсию, вязаную, кругленькую, почти девичью пестренькую надевал шапочку – распахивая настежь окно и, так же, сидя за компьютером перед окном, работая (морозный свежий воздух, чтобы не заснуть, чтобы взбодриться? или ловил, пригоршней, экранируемый стенами сигнал мобильного интернета?). «Может быть… А может быть…» – сама себе не договаривая, что «может быть» (может быть, она зря прежде не обращала на Чарльза достаточного внимания, может быть, это был знак, может быть, это всё неслучайно, – может быть, она должна была бы с ним как минимум подружиться), Агнес сердито бросала работу и шла вышагивать квадратурной прогулкой вокруг квартала – своего и Чарльзового дома. И уж ни в какие приличия не вписывалась та живейшая радость, которую Агнес, когда еще через пару дней Чарльз объявился, почувствовала: когда Агнес проснулась и сердито, по ковровой лестнице, поднялась на кухню, Чарльз уже как ни в чем не бывало восседал – как обычно! – за компьютером! Чарльзово окно (нижняя створка его) была поднята – Чарльз был слегка развернут направо, а в глубине (комнаты? кухни?) еще кто-то был: да-да, какой-то друг его (разобрала Агнес, приглядевшись, – почти не таясь – так рада она была его возвращению – что стояла во весь рост прямо перед окном и разглядывала оконные новости) сидел на диванчике каком-то, слева, который целиком Агнес виден не был; Агнес слышала даже их голоса – но слов разобрать не могла. Чарльз, милый, бородатый, лохматый, чернокудрый Чарльз, где же ты пропадал? Давай поговорим о чем-нибудь прекрасном, Чарльз! Например, о вечных носителях: забавно – правда? – что прежде «вечными» носителями называли надписи, высеченные на камне, а теперь «вечными» мошеннически называют всякую вновьизобретенную цифровую кремниевую дребедень, которая расплавится в случае ядерного взрыва моментально. Или, Чарльз, ну не мило ли, что древние глиняные таблички, описав полный круг (замыкающей себя, исчерпывающей себя, похоже, цивилизации), превратились в цифровые tablets!
Вдруг Чарльз, как будто услышав ее радость, обернулся, от друга, лицом к окну, – и ровно в тот момент, когда Агнес распахивала вверх и свое, громадное, гораздо больше чем у Чарльза, сашевое окно, – ровно в тот момент, когда кистью она придерживала вверх створку, и даже отреагировать адекватно не могла, – Чарльз вдруг замахал ей приветственно рукой. Агнес кивнула – не будучи, впрочем, уверена, увидел ли он этот жест. И быстро отошла от окна. Выскочила на улицу. И долго не могла прийти в себя. Как мне теперь там работать?! Одно дело – когда Чарльз безобидная часть антуража, – и совсем другое, если… что за бред, просто разволновалась почему-то из-за его отсутствия – мало ли с ним могло что случиться… что за глупые суеверия: «знак», «не случайно он живет напротив меня» – да мало ли десятков соседей еще живет напротив… подумаешь – работает по ночам, как я!… эка невидаль!… «знак!»… тоже мне! «знак»! какой-то кучерявый волосатый сосед… обычный эффект разгерметизации после завершения большой работы… забыть немедленно… Фу, как я разволновалась…
Забыть, однако, никак не получалось. Агнес подолгу (чего отродясь не бывало) торчала перед высоким зеркалом в гардеробной комнате (завешанной какой-то вышедшей давно, лет пять назад, из моды одеждой): исхудавшая, с резко обтянутыми чересчур светлой кожей скулами – а большие черные глаза так сильно портит неприятный узор полопавшихся сосудиков. Надо больше гулять, Агнес, надо просто больше отдыхать. И этот удивительный подбородок виньеткой (под маленькими узкими губами) – крайне маленький, резко подкрученный – но все-таки как-то слегка чересчур горделиво выдвинут вперед. Чересчур волевой, пожалуй… – пожалуй что отпугнет любого мягкохарактерного слабака. Тьфу, о чем я, о чем я?! Зачем мне мягкохарактерный?! Зачем мне вообще кто-то… Тьфу, ну вот опять не вычитала ни страницы сегодня… Агнес бережно, как будто может спугнуть кого-то, распускала, из пучка, до пояса достававшие черные вьющиеся волосы – и выходила на улицу.
В маленьком веселом магазинчике у метро Агнес, не вполне отдавая себе отчет, зачем ей это все сдалось, злясь на себя, купила, в одну из прогулок, яркую летнюю блузу – всю в мелких фиолетовых цветах чайного дерева – на молнии и с капюшоном. Через год после разрыва с Эндрю, как вот она вспоминала теперь, идя по цветастой брусчатке, была у нее (скорее из какого-то чувства мести Эндрю) глупая и недолгая история с чернявым, барашко-головым, оливково-кожим красавцем, как из древних оживших хроник, рослым ровесником ее, аутентичным носителем небезынтересного ей языка, произносившим букву хэт так, что можно было упасть в обморок от восторга, – проводником, сопровождавшим ее во время научных шляний ее по Средиземноморью. Шли мне эсэмэс. Я очень скоро вернусь. Волновалась за него (дистанционно – уже из Лондона), когда узнала (из эсэмэса), что он ушел служить на милуим. Воображала: вот его убьют – а она будет плакать и, наконец, оторвавшись от научных занятий, оценит его по-настоящему. А когда он раз нагрянул без спросу к ней, в Лондон, – без жаркого родного архаичного ископаемого антуража как-то стало ясно, что говорить-то с ним, хоть и есть на чём, да не о чем. И Агнес вдруг как-то стыдно стало с ним быть – как стыдно было бы жить, например, с ослом. Каким бы красивым он ни был.
Был еще… – вернее, какой там «был»! – просто ухаживал за ней, пару лет назад, – рыженький нежно-веснущатый юный широкоплечий шотландец («горец», как в шутку Агнес его называла), с чересчур, правда, толстоватым, на взгляд Агнес, задом, – менеджер, проводивший ремонтные работы и присылавший ей (с феноменальной чуткостью и предусмотрительностью) рабочих, наладив, за несколько дней, все неработавшие краны, освежив безароматной краской магнолийные и лилейные стены в квартире. И Агнес было со смехом подумала: «зачем людям нужны мужья? нужен просто хороший набор слесарей, декораторов и карпентеров». Ухаживания этого самого горца, однако, на беду его, проявлялись архитектурно-интерьерным образом: зайдя к ней под уважительным предлогом (что-то нужно было проверить в кухне – в момент, как раз, когда Агнес работала), он заискивающее спросил, «можно ли ему прибраться на полочке в ее кухне», – и Агнес, с истеричным смешком, с ним распрощалась – и больше не захотела его видеть никогда в жизни.
Но Чарльз, Чарльз… Я не верю, что Чарльз может хоть на йоту в интеллектуальной поступи оступиться… Человек, высидевший за компьютером за последний год не многим меньше часов, чем я… Человек, работавший без устали, без сна! Не может всё это быть случайным… Я буду последней идиоткой, если не расслышу такого явного намека – этой странной симметрии наших квартир, жизней… Агнес проходила стеклянную стену бара в сквере у метро и видела две скандинавские пары – друг напротив друга – за одним столиком, нос в нос: белобрысых, крепко сбитых двух до кошмара одинаковых парней, коротко остриженных, со спиралевидным вьюнком волос на затылке, – и двух до ужаса одинаковых бесцветных, стройных, худых, спортивного склада девушек с соломой волос, сжатой в копну. И снова Агнес становилось вдруг отчего-то тошно: «Зоологическое, стыдное… Это всё равно как выбирать себе пару в зоопарке!»
Агнес, всеми этими странными размышлениями и нестроением чувств, выбита оказалась из настоящей своей жизни до такой крайней степени, что когда прозвонилась, встряв в случайную брешь на минуту включенную телефона, университетская подружка («Ну сколько можно, как тебе не стыдно, сколько мы все тебя не видели?!»), – Агнес, как зачарованная (всё равно уже всё делаю не так, как надо), безвольно согласилась встретиться. В японском ресторанчике в Сити ждали ее не одна университетская подружка, а аж две. Обе бойко, с энтузиазмом рассказывали, что за годы, которые Агнес сидела в научном затворничестве, каждая из них успела сделать по аборту – а недавно, вот в этом году – представляешь! – почти одновременно! – расстались со своими последними в очереди бойфрэндами – и за это надо выпить! – кричала вторая. Агнес вернулась со встречи как отравленная, чуть не слегла, назавтра затемпературила, да и вправду почувствовала симптомы отравления (прямо как Флобер, после того, как написал знаменитую мышьяковую сцену с мадам Бовари), – волевым, однако, усилием приказала себе об ужасе, об этом танце призраков, забыть, прочистила желудок и душу – и даже попыталась себя усадить за работу (может быть, задернуть мне теперь жалюзи? среди бела дня?) – и не смогла.
Агнес прекрасно осознавала, что происходит: время, ее личное, вечное, вневременное время, в котором она жила, вот уже так долго, отречась ради работы от всего, вечное время, которое было герметично ради нее закупорено, вольготно и привольно позволяя ей в нем путешествовать и творить, – вдруг, по ее вине, дало течь, – и в жизнь ее врывалось, клочьями, время внешнее, кошмарное, внешнеисторическое – ежедневным прибоем приносило вдруг, и швыряло в лицо, ненужных, страшных людей. В том числе – и людей из прошлого. В раздризганных чувствах, не зная, как залатать брешь, восстановить герметизацию… Вернее, зная, прекрасно зная, что дело в Чарльзе, в уловке израненных чувств, бывших не готовых к защите, в эйфории законченной работы, в этих дурацких строительных лесах, в этой мертвой птице, в идиотском его исчезновении, – примитивнейший событийный соблазн, и надо просто собрать всю волю и выкинуть это из жизни… Невозможно же уже не только работать, но и дышать!
Чарльз, Чарльз, мне нужно тебя увидеть, мне нужно поговорить с тобой – просто вместе кофе вот тут вот – у метро, в кафе. Всё прояснится по первым звукам. Бред, марево соблазна – или судьба. Но как, как подать тебе знак? Плакат, тушью – в окне – встречаемся через четверть часа?
Чувствуя, что на весах лежит слишком многое (цинично говоря – недовычитанная правка монографии), Агнес решилась намеренно (и поскорее!) искать с Чарльзом встречи. Двор… Нет, не двор – сад, двор, переулок – всё вместе (нарезка заборами разграниченных буйно заросших садов – узких и коротких, доступ в которые был только у жильцов наземного этажа ее дома; а в центре, параллельно домам – узкая, даже не заасфальтированная дорожка, переулочек, который соседи использовали как гараж под открытым небом; а дальше – такие же маленькие сады, с пальмами и горизонтальными кипарисами, принадлежащие Чарльзовым уже нижним соседям) – словом, пространство, разделявшее их дома, было домами этими замкнуто с фронтов наглухо – а с боков запечатано еще и другими домами, покороче, а также высокими, выше человеческого роста, каменными заборами (с запирающимися лазейками для машин по центру), – и в этом была главная проблема. Неназойливо пройтись под окном у Чарльза никакой возможности не было – поскольку физически отсутствовал для этого променад. Можно было, в конце концов, как бы невзначай прогуляться у его подъезда с фронтальной здания стороны (противоположной той, которую она видела из окна) – но здание его было настолько затейливо по форме надстраивающихся, друг за другом, как подъезды, частиц и сегментов, настолько длинно, – что рассчитать, где именно Чарльзов подъезд, – можно было бы, вероятно, только с какой-нибудь гигантской линейкой в руках. И вообще, что за чушь… Что я задумала?!… Как угадать, когда он выходит из дому? И главное – зачем? Зачем?!
Агнес испуганно и, одновременно, с взведенными нервами, обходила свой же собственный квартал – вдруг превратившийся в какой-то непреступный лабиринт: слева, после торца ее здания (в котором какие-то идиоты век назад заложили несколько окон кирпичной кладкой), цвел, как и в палисаднике, белый шиповник, но крайне мелкий, – но только здесь он не подстригался, а попирал все законы британского садового искусства – вымахал выше каменного забора, был метра три высотой. Дальше – вместо забора – перпендикулярный дом, в торце которого кто-то недавно, не выдержав глупой слепоты заложенного кирпичами окна, проделал стрельчатое окно – высокое, узкое, как бойница – и со вспрыгивающим сводом кверху. Затем – блаженная тень гигантской, высоченной, на панель и мостовую кроновой сенью раскидывающейся, хоть и не слишком крупнолистой, а зато густейшей липы – тоже противозаконной: как-то раз приехали рабочие, саранча-кокни, с приказом мэра, с альпинистским снаряжением, и хотели было залезть на липу с бензопилами «спилить все выступающие за забор ветви для безопасности прохожих и движения» – но местные эти самые прохожие, а также жители обоих домов живо пообещали самим этим рабочим поотпиливать всё что торчит – если они дотронуться хоть до веточки. И липу спасли. А после – шли сплошняком кубы жутко гладко подстриженных, с темно-зеленым лоском, очень высоких, и густых, почти взглядо-непроницаемых кустов бирючины – бррр, обдало веселыми ледяными брызгами поливалки! Агнес чуть приблизила глаза к кустарнику – и рассмотрела, сквозь зелень, женщину в зеленом, по ту сторону, – рядом с оранжевыми квадратными, неудобными на взгляд, летними стульями-шезлонгами, – со шлангом, увлажняющую свой садик, а заодно, через брешь в кустарнике, – еще и прохожих.
Изнанка Чарльзова дома отсюда, вот сейчас, когда солнце затянула пепельная куча, – выглядела и впрямь серой – и только в крынках окон – молоко (недавно подбавленное рабочими), да кариатидовы изгибающиеся тонкие белоснежные водосточные трубы. В Чарльзово окно заглянуть отсюда не было никаких шансов – видно окно было – но под тем далеким углом, который уж точно не позволял бы ему Агнес, здесь гуляющую, увидеть.
Ну что ж… Заходила с правого торца своего дома и гуляла по этой линии запертого квартала. Еще одно персидское окно стреляет сводом в еще одном перпендикулярном домике. Затем – запертая пещера въезда для машин. Затем – высоченный крашеный блестящий розовый деревянный забор выше человеческого роста; за ним – обкорнанный в ноль платан – не уберегли! – без листьев и без веток – только с одними стволами в военном защитном камуфляже! – тыкающий в небо единственным уцелевшим, прозревшим пальцем, как John the Baptist, на знаменитой картине, – а мнимая розовизна непреступного забора утыкается уже в дом Чарльза. Окно его, хотя и было к этой стороне двора ближе – однако оказалось напрочь закрыто в видимости какими-то бесформенными наростами террас и пристроек в первых сегментах здания. И, наконец, фасад – сливочные колонки; завитые по диагонали в спираль туи в кадках на крошечных, декоративных балкончиках первых этажей. Днем, сейчас, было такое впечатление, что дом нежилой: за десять минут, пока Агнес, с мутящимся от стыда взглядом, с колотящимся сердцем, мимо него прогуливалась, никто, ни один человек, из него не вышел, и никто в него не вошел. Я не понимаю – где все эти итальянки, итальянцы, где крысы из бэйзмента, где старухи, любящие голубей? Неужели ни у кого нельзя невзначай спросить: простите, а в котором номере живет… Кто? «Чарльз»? Как объяснить?! Ну эдакий заросший лохматый белолицый черноволосый дурень с бородой и усами и крайне веселыми бровями – вы, наверное, знаете, он всегда сиднем сидит ночами напролет работает за компьютером? Ах, не знаете? Как странно! Знакомы ли мы? Да мы, видите ли, практически родные! Ну, он один раз махнул мне из окна рукой. А зачем мне он? Ну, как бы вам сказать – нет, нет, совсем не то, что вы подумали – просто нужно поговорить с ним и всё выяснить! Выяснить, можно ли вместе с ним, например, сгонять в Маалулу, – а то одной туда стрёмно! Видите ли, мне нужно работать – а пока я не переговорю с ним, мне не работается. Достаточно внятное объяснение? Ах так?!
Агнес как-то не задавала себе вопрос, что сказать Чарльзу, когда вдруг действительно увидит его. Улыбнуться? Ну, и, наверное, легче будет подобрать слова – чем вот так вот уже сколько дней подряд слушать варварскую тарабарщину собственного сердца, вдруг сошедшего с ума, вдруг позабывшего умную и тонкую речь. А вдруг… А вдруг – в том ящичке, в соседнем ящичке, справа, моего небесного письменного стола, в соседнем с тем, где были бумажки про Эндрю, – вдруг, вдруг там и про Чарльза было?! О, ужас, вдруг я втягиваюсь в очередную страшную ошибку… А вдруг, вдруг… Вдруг он меня просто не узнает – без обрамления окна?! Вдруг он близорук?!
Бунт себя же против себя. Как знакомо было это состояние для Агнес. Лэптоп был перетащен в спальню. А в кухню же (читай – к окну с видом на Чарльза) Агнес поклялась себе не заходить даже за водой, даже если будет умирать от жажды. Корчась, за маленьким столиком, заказанным из Икеи по интернету (с названием то ли вейнемейнен, то ли гитлерюгенд), на краю кровати сидя (сикомор в окне – вот здоровый вид! хотя и здесь сейчас тяжелые шторы задерну. Скит. Пока не вычитаю всё до последнего цадика. Обещано ведь, что будем как ангелы на небесах, – не будем ни замуж выходить, ни жениться. Так зачем же медлить?!), Агнес, каждую секунду в десять раз сильнее плывя против течения, – пока не почувствовала, что сопротивление исчезло, – победоносно отпраздновала, наконец, чистовую выбелку, завершение работы – и отвезла флэшку с рукописью издателю, домашнему, тихому, бесконечно далекому от языкознания – но зато влюбленному в древность, бравшемуся делать бестселлеры даже из академичных узкопрофильных книг, – жившему на другом конце города – в Хампстэде.
– Мама, я… ты слышишь меня? Нет, подожди, про Роберто потом – ты слышишь меня? У меня есть для тебя кое-какие новости… – тихо, захлебываясь счастьем, говорила, идя по переулку с резким холмистым рельефом, где жил издатель, едва выйдя от него, с подписанным контрактом в нижнем боковом карманчике блузы на молнии с капюшоном, ярко испещренной мелкими фиолетовыми чайными цветами, Агнес. Мрачные на вид, тяжелые, неказистые, безвкусные виллы, всегда ее неповоротливостью раздражавшие, даже непонятно почему так ценимые ловцами земных недвижимых гирь, – даже они сейчас казались какими-то любезными, улыбчивыми. – Мама… Не перебивай же меня! Я только что доделала…
И тут она увидела Чарльза. Не может этого бы… Агнес даже не поняла в начальную долю секунды, что случилось! Как будто масштаб схлопнулся! Как будто Чарльза уменьшили соответственно коэффициенту того отдаления, на котором Агнес обычно, в далеком квадратном окне, его видела – Чарльз был малышом, почти карликом! Всё еще держа мобильный телефон в руке, но только, от ужаса и неожиданности, как-то перенеся его от уха к носу, словно желая за ним спрятаться, Агнес, не отрывая глаза, рассматривала чудовище, шедшее ей навстречу. Чарльз – несомненно, это был он! ее сосед! – ростом был ей примерно по пояс, шел, колченогой походкой, катил на уродливых ногах-колесе, вверх на горку переулка, прибивая рельеф, как будто пытался выделать в нем ступеньки; черные, чуть кучерявые длинные волосы и борода были немытыми, и как будто собрали в себя какой-то мелкий мусор, встречавшийся на его пути за последний месяц. За спиной его был рюкзак. И, в приближении, в белом его лице, Агнес тоже увидела следы какого-то страшного болезненного искажения, уродства – чуть расплывающиеся, чуть опухшие, с едва заметным намеком на карликовую обесформленность, контуры. Шок был слишком неожиданен, чтобы Агнес могла что-то предпринять, успеть куда-то спрятаться, пока он не дошел до нее.
Но Чарльз ее не только не узнал – но и не заметил. Чарльз просто прошел мимо, разглядывая то асфальт, то дома.
– Я потом тебе перезвоню, – прошептала Агнес в мобильный, как только прошедший мимо нее человек оказался уже на безопасном от нее расстоянии, – и, от ужаса, опустилась на бордюр клумбы, в бессилии даже доехать до дома, делая какие-то невнятные жесты (кивки, вялые взмахи ладонью, которой, на всякий случай, придерживалась и за бордюр) водителю проезжающего кэба.
Вечером (какая-то странная интуитивная рефлексия повлекла-таки ее к окну) в окне Чарльза наблюдался кавардак. Чарльза самого было не видно, а какие-то рабочие выносили мебель (прежде ею, из-за габаритов окна, не виданную). Блистало зеркало (которое она прежде, мельком его замечая, принимала за дверь в ванную). Чуть не разваливался на горбах рабочих шкаф-гардероб. И что-то во всем этом было душераздирающее – как будто выносили гроб. Комнатка, которую они очень быстро освободили, была бедная, обклеенная безвкусными коричневыми обоями. Когда вынесли его письменный стол, оказалось, что прямо позади него был рукомойник – и газовая плита. И Агнес давно уже не помнила, чтобы так рыдала, как рыдала в тот вечер – сама не в силах объяснить, от чего.
А на следующий день в квартиру Чарльза вселилась китайская проститутка, которая, перед приходом клиентов, выставляла на окно букет рыжих тюльпанов.
Майдан
И дернуло же их приехать именно в эти дни… Когда консьержка-француженка, крупноглазая начитанная брюнетка с рваной стрижкой под тинэйджера и кончиком носа под артишок, завидев, как она заходит в подъезд, быстро-быстро выбралась к ней из-за своей округлой конторки и, раскланиваясь, каким-то особенным звонким тоном с блестящими глазами начала приговаривать, экзальтированно вертя личиком: «Хорошего дня! Прекрасного денька Вам!», – в сердце, с сумасшедшим радостным стуком, уже ворвалось подозрение, что они – здесь, наверху, уже в квартире, что консьержка без нее тайком впустила их, отперев своим ключом, – но долгожданное счастье спугнуть было так страшно, что впрямую спросить консьержку она суеверно не решилась, – и из-за этого, пока шла вверх по ступенькам, сердце наоборот как будто срывалось с каждой ступеньки вниз, – и к тому моменту, как она вступила на площадку четвертого этажа, в голове и перед глазами уже вилось цветное марево, а сердце уже вело себя как напуганный ёж, – ёжилось, а потом вдруг быстро расправлялось и куда-то норовило убежать, пронзая, словно иглами, всё тело, так что и страшно было шевельнуться, – и, раньше чем шагнуть к двери своей квартиры, она ненадолго вросла боком в стенку (дряхлая кариатида-сибаритка), чтобы отдышаться и прогнать жаркий туман из висков.