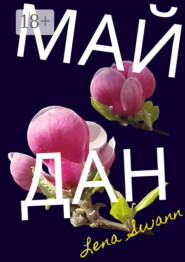По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искушение Флориана. Маленькие романы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не знаю, что ты в нем нашла, – фыркнула Майка, забывшись и опять в возбуждении шагнув на территорию глазастого сенсора: золотое ведёрце вновь с громким охом подняло крышку в протесте. – Вахабит какой-то, по-моему! Террорист какой-то!
– Да что ж ты несёшь такое?! – вскочила Елизавета Марковна. – Майка! Что ж ты за деревяшка бесчувственная?! Или каменная! Майка! Что с тобой?! Он армянин, христианин, наш брат во Христе! Что ты несешь такое?! Человека убили всего несколько недель назад – ни за что ни про что – просто за то, что он украинский патриот и хочет своей стране свободы, а ты… Ему было двадцать лет, Майка! Он был моложе тебя!
– Не надо было лезть туда потому что на Майдан – вот и не убили бы, – с каким-то остервенением выговорила Майка, не двигаясь с места, мстительно и опасливо косясь в угол на ведро.
Елизавета Марковна, всё еще продолжая надеяться, что все эти жуткие фразы Майки – это какая-то ошибка, галлюцинация в воздухе, что, вот, сейчас она покажет Майке достоверную информацию – и Майка очнется от кем-то втемяшенного в ее голову бреда, – вновь быстро нагнулась над компьютером:
– Вот, вот смотри: Юрий Вербицкий… Убит… Зверски убит… Майка, ты просто не знаешь, что там происходит! Ты… Вот, вот, смотри какой красивый благородный человек! Читай, читай – вот! Он кандидат физико-математических наук, работал в институте геофизики Субботина, полтора месяца назад специально взял отпуск, чтобы поехать на Майдан, чтобы защищать свободу. Зверски убит в лесу: спецслужбы его выкрали прямо из госпиталя, где ему оказывали первую помощь из-за травмы глаза – полученной на Майдане же, когда «Беркут» начала палить по протестующим… Местные гэбэшники, нелюди, звери, ворвались в больницу, Вербицкого, уже и так раненного, избили, засунули его в микроавтобус, завезли в лес, пытали, избивали насмерть, потом бросили связанного умирать в лесу на морозе.
– А кем доказано, кто конкретно его убил в этом лесу? – крикливенько, с азартом, куражилась Майка, быстро разгуливая, теперь уже концентрическими кругами, по кухне, вызывая всё новые ахи и стоны высокого золотого вёдерка, которое безостановочно уже то приподнимало крышку в протесте и пыталось встрять в разговор и против чего-то проголосовать, то вновь словно в отчаянии ее роняло, лишь мигая живым оранжевым глазом. – Может, свои и убили?
– Майка… Как ты можешь… Как ты можешь?… – не зная, как на это откровенное циничное безнравственное издевательство реагировать, проронила Елизавета Марковна, уже чувствуя, как близкие слёзы горчат в глазах, и трудно сглатывать комок всё больше и больше осознаваемой беды, – и хотела было выйти из кухни и разорвать на этом с Майкой всякое общение, – уже сделала по направлению к двери шаг, но всё-таки заставила себя вернуться. И тут же, решив быть максимально терпеливой, решив, что если уж какие-то подонки, с помощью лживых хитрых вывернутых слов, взломали в Майке какой-то важнейший код распознавания добра и зла, – то именно и только любовь, терпение и слова правды, звучащие из ее, Елизаветы Марковны, уст, – это последнее, что может все-таки Майку спасти, – принялась объяснять те подробности, которые, как ей казалось, любой вменяемый человек уж точно знает, узнал за последние недели, и которые даже в условиях государственной цензуры на телевидении, при наличии добросовестного желания, в век интернета мог бы без труда найти. – …Майка, родная, но есть же свидетель… Которого пытали и избивали вместе с Вербицким, и бросили потом с мешком на голове, думая, что он мертв, но он выполз живым из леса. Вот, читай! Майка, родная, увы, таких преступлений за последние пару месяцев было совершено спецслужбами и милицией по всей Украине сотни! Ты просто не знаешь этого, потому что отрезана в России от правдивой информации! Милая моя, Майка, ты просто не представляешь себе, что за ужас там происходит! Вот так же расправились когда-то, тридцать лет назад, нелюди гэбэшники в Польше с молоденьким священником Ежи Попелушко, который благословлял и поддерживал «Солидарность», – похитили его, завезли в лес, пытали, избили до полусмерти и потом, связанного, утопили в реке… Майка, ты просто слишком юная, ты не понимаешь, что никакие методы у гэбэшников не изменились, никакого покаяния увы не произошло, – то, что сейчас происходит – настоящий полномасштабный реванш преступных советских спецслужб, они маниакально одержимы идеей воссоздать советский концлагерь вместо свободных стран – бывших советских рабов. А эти страшные орды титушек, бандитов-качков в спортивных костюмах с битами и огнестрельным оружием, которых наняли спецслужбы и милиция для внесудебных расправ над майдановцами, – орды титушек, бегающие по всей Украине, как какая-то чума! Нападающие на мирных безоружных людей, забивающие их до смерти! Стаи убийц! А если уж говорить о термине, который ты, полагаю, с чьих-то чужих слов, несколько минут назад так пренебрежительно использовала: «люмпены», – то давай определимся в понятиях – что ты имеешь в виду? Если ты имеешь в виду самых простых рабочих, то уж извини, я тебе вынуждена напомнить, что в Польше в конце семидесятых – начале восьмидесятых именно рабочий класс – шахтеры – дали импульс антикоммунистическому протестному движению «Солидарность», – благодаря которому, извини меня, Майка, ты сейчас не живешь при каком-нибудь очередном дебиле престарелом Брежневе, грозящем всему миру ядерными ракетами, – именно благодаря изначальному импульсу протестов «Солидарности» в результате, по цепочному эффекту, вся Восточная Европа, и Россия – самой последней! – освободились от коммунистического антихристова режима! Майки, ты просто отрезана там в России от достоверных источников информации, я понимаю, тебе ежедневно врут и дурят мозги пропагандой по телевизору, но надо же как-то всё-таки самой думать… Совершенно же очевидно, что за всё это кровопролитие на Майдане и за все эти страшные кровавые события и убийства несет личную ответственность один-единственный человек, сидящий в Кремле, одержимый маниакальной гордыней и мечтающий стать восставшим из ада гэбэшным вождем воссоздаваемого им с помощью лжи и насилия Советского Союза, – все ведь прекрасно знают, что он просто прошантажировал чем-то и очень сильно напугал свою марионетку – украинского президента, и тот внезапно, практически накануне запланированного подписания соглашения с Европой, всё сорвал, – внезапно заявил, что отказывается подписывать соглашение о сотрудничестве с Европой, которого ждал весь украинский народ, – а он вдруг объявил, что ни в какую Европу Украина больше не идет, а превращается вновь в раба России, – именно из-за этого же в Киеве изначально начались протесты студентов, сразу кроваво подавленные, которые потом переросли в Майдан! А ты послушай, что кричат украинскому президенту сейчас из Кремля и из российского правительства, – они его откровенно науськивают на большую кровь! Они откровенно кричат ему, что коль он не решается разом уничтожить весь Майдан и позволяет народу протестовать на улицах – значит он «тряпка», и что он никаких денег больше от Кремля не получит, если не решится немедленно же жесткими силовыми методами покончить с Майданом! Им сотни убитых мало!
– Маркуша! – заорала вдруг Майка, размахивая руками в воздухе как ножницами, на разных уровнях, пытаясь понять, где же то сверхчувствительное место в воздухе, на которое реагирует оранжевое сенсорное солнце. – Да заткни же ты, наконец, пасть! Этому ведру! Это тебе врут здесь все твои средства массовой информации! А у меня вот другая информация: что там на Майдане сброд, безработные, нанятые Госдепом США, чтобы устроить цветную революцию, устроить переворот и посадить там своё правительство, чтобы угрожать России! Я тоже читала сегодня новости, не ты одна, между прочим!… – Майка тут же с проворством вытащила из сумочки айфон: – Вот тебе: черным на белом… – тыкала она пальцем в какой-то сайт официального государственного российского новостного агентства, – …там на Майдане преступники, уголовники, видишь, написано, они расстреливают милиционеров и омоновцев! Это что – хорошо разве – милиционеров расстреливать?!
– Что за чушь! Майка! С каких это пор ты стала доверять кремлевской пропаганде?! Тебе врут на все сто процентов! Майдановцы обороняются, причем без оружия, от вооруженных до зубов отрядов бронированной сволочи, выполняющей преступные приказы. Не нужно лукавить и делать вид, что ты не понимаешь, где агрессор – а где жертвы, где – нападение – а где самооборона! В Международной декларации прав человека, между прочим, если ты забыла, записано право народов на восстание – если их правительства узурпируют власть, лишают их права волеизъявления и совершают преступления против людей. И каждый милиционер и омоновец обязан в таких ситуациях делать моральный выбор: выполнять ли преступные приказы, подчиняться ли власти, когда власть превращается в банду преступников, отдающую команду уничтожать собственный народ! Майка, ты, что, не понимаешь, что российские официальные пропагандистские СМИ тебе врут даже не «чуть-чуть», и даже не на половину, а на все сто процентов?! Именно потому, что в Кремле – главные кукловоды того насилия, которое применяется к протестующим на Майдане! В Кремле – главные подельники украинского диктатора, и они на сто процентов контролируют все СМИ в России, – какие у тебя основания их пропаганде верить?!
– А ты, что, думаешь – что здесь у тебя, на западе, «свободные, независимые» СМИ?! – заорала Майка. – Здесь все СМИ тоже от кого-то зависят и тоже выполняют чей-то политический заказ! Нет независимых СМИ в природе! Все на кого-то работают! У одних одна правда, у других – другая.
– Майка! Что за цинизм! Откуда ты этого набралась?! Что за амбивалентность к правде и лжи?! Что за релятивизм?! Нет, это неправда, что нет правды! Есть правда, а есть ложь! А во-вторых: Майка, ты, видимо, недопонимаешь, что такое демократия и конкуренция в демократическом государстве – и как это работает! В демократических странах существуют сотни конкурирующих между собой телеканалов и газет, принадлежащих совершенно разным владельцам, с совершенно противоположными политическими взглядами! И если даже один какой-нибудь телеканал в демократических странах что-нибудь соврет или запустит дезинформацию – то десятки других, с ним конкурирующих, его моментально на этой лжи поймают и расскажут гражданам правду! Майка, ты, что, действительно, веришь, что в настоящий момент все СМИ всех свободных демократических стран врут о событиях на Майдане – и только одни доблестные чекистские телеканалы, на сто процентов контролируемые Кремлем, говорят правду?! Но я-то вижу все события своими собственными глазами все последние недели – идет прямая трансляция, выкладываются в интернет десятки видео-записей событий, сделанные свидетелями, вот, вот посмотри! Мне-то ты хотя бы веришь?
– Не хочу я ничего смотреть! – орала Майка. – Это всё сфальсифицировано! Ясно же, что это всё с самого начала организовал американский Госдеп! Я так считаю! Это мое личное мнение! Это заговор Госдепа США против России, это же очевидно!
– Маечка! – с ужасом и одновременно с жалостью и состраданием (как будто только в этот момент разглядев, что Майка поражена какой-то тяжкой опаснейшей смертельной инфекционной болезнью, передающейся по воздуху, как черная оспа) еле выговорила Елизавета Марковна, без сил опускаясь на стул. – Бедная моя, где ты это подхватила… Эту заразу… Милая… Что они с тобой сделали за эти два года… Как… Как они умудрились сделать это с тобой?
Резко вошел в кухню Борис, расплываясь в улыбке, адресованной Елизавете Марковне, выгибая брови и изображая, что скандала не слышал, – хотя, как Елизавета Марковна краем глаза видела, все последние десять минут он прятался за дверью в холле возле кухни и слушал, – прокатил с левой стороны за спиной у Майки, делая бровями жесты Елизавете Марковне, якобы намекая: «Я на Вашей стороне!» – вызвав еще один отчаянный протестный жест ведра, – обошел Майку дугой, прошел к окну, и уселся за стол справа, подальше от Елизаветы Марковны.
– Маркуша… – в тех же крикливых тонах, но чуть тише, и косясь теперь на Бориса, застыв опять в центре кухни и зло на Елизавету Марковну поглядывая, заявила Майка. – Я просто повзрослела! Это ты, Маркуша, всё у нас никак не повзрослеешь! Ты здесь совсем отстала от реальности! Да, я изменила свои взгляды на многое: я поняла, что главное – это обустраивать свою жизнь, семью, нормально зарабатывать деньги… А не бегать жопу драть на всякие митинги протеста!
– Майка… – не нашлась сначала от шока Елизавета Марковна. – …Но ведь есть же важнейшие ценности за пределом кружка мещанских интересов – разве не этим как раз отличается интеллигентный думающий человек от раба и быдла, – тем, что заботится не только о материальных вещах? – Елизавета Марковна выговаривала букварные истины чуть ли не по слогам, с неким странным чувством жуткого сна, не в силах поверить, что у Майки в душе кто-то взломал и подменил самые главные какие-то аксиомы жизни, что Майка их именно не просто ставит под сомнение, а ожесточенно бросается оспаривать, борется против них, что дело не просто в недостаче у Майки информации, а в чем-то гораздо более страшном. – Неужели ты забываешь, что есть люди, для кого свобода, честь, человеческое достоинство, защита прав человека, защита тех, кто обижаем, – важнее обеспеченной жизни? Неужели ты забываешь, что именно обыватели, ни против чего не протестовавшие, составили основу гитлеровского режима, когда тот начинал репрессии?!
– Я, между прочим, знаешь, налогов сколько стране плачу! Я реальную пользу стране и людям приношу! Я, между прочим, матери помогаю! – закричала в ярости, не понятно от чего защищаясь, Майка каким-то не своим, сплющенным, тонким и с бабьими деревенскими изводами на донце голоском, став вдруг на секунду внешне поразительно похожей на Ирину, несмотря на болтающиеся по бокам личика черные детские почти косички: миниатюрная крикливенькая хабалистая бесстыдная скандальная советская бухгалтерша, только затесавшаяся случайно по ошибке в другую профессию. Разглядывая искаженное раздражением спора лицо Майки, Елизавета Марковна только сейчас заметила, что Майка, и вправду, не просто даже «повзрослела», а как-то постарела – не лицом, а неким жестким выражением, в подтексте всего лица застывшим, и жестким, даже жестоким спазмом, искажающим все лицо, – сковавшим подбородок и очерк низа лица, прежде нежный и детский. («Нет, нет, Майка! Не может быть, чтобы это было твоим настоящим лицом… Не может быть!», – внутренне как будто кричала Елизавета Марковна, молча в ужасе как будто впервые в жизни рассматривая Майкины озлобленные черты). – …А все эти борцы за правду… – словно не в силах уже остановиться, в ярости бабисто орала Майка, – …на самом деле жируют на западных грантах! – (и Елизавете Марковне вспомнились, почему-то, сразу знаменитые телевизионные кадры из Москвы с первого «съезда депутатов», времен конца советской власти – доярки, знаменоносные, орденоносные, бесстыдные большегрудые тупые заказные крикуньи с золотыми фиксами во рту – и партийные передовички – закрикивавшие Сахарова, душившие его арбузными грудями, и стыдившие его, что он коровьего молока никогда для родины не надоил, дармоед). – Они неплохо совсем живут, кстати! У нас была программа разоблачительная про них по телевизору! Ты не думай, они не бедствуют, все эти так называемы борцы и правозащитники! Получше тебя живут! – орала Майка. (И в этот момент у Елизаветы Марковны и вовсе уже возникла стойкая иллюзия, что слушает она не любимую свою Майку, а ненароком подключилась к каналу пропагандистского российского телевидения). – Ты, Маркуша, вообще единственная и последняя, кто во все эти так называемые ценности наивно бескорыстно верит! – примирительно, чуть сбавив тон, прокричала вдруг Майка. – А они все – нанятые! На-ня-тые! А у хохлов-то и культуры вообще своей никакой нету! Куда они рыпаются-то? Им всё Россия дала! Они ничто без России – тьфу! Безграмотная окраина! С ховорком! Куда они денутся без России!
– А можно еще но-ннеттов, госпожа Святоградская? – быстро перебил ее Борис. – Елизавета Марковна, Вы не обращайте внимания! Молодежь, она, знаете…! Ух! Несут что хотят! – хохоча прибавил он, шустро подскочив и ухватил Майку за бок, одновременно поглядывая на нее с явным восторгом учителя, смотрящего на талантливую ученицу.
Ночью, ворочаясь на кушетке, и то и дело медленно вставая и с трудом доходя до письменного стола, чтобы возжечь настольную лампу, принять чайную ложку измолотого перца кайен со стаканом холодной воды (еще одно зелье, спасавшее от сердечных приступов, завещанное хулиганкой Шаховской, альтернативное чесноку – чуть более слабое, но зато без обонятельных спец-эффектов), – а одновременно чтобы заглянуть в экран и, надевая на уши наушники, быстро перенестись на Майдан, – и через десять минут опять вернуться отлеживаться на узкое ложе, Елизавета Марковна думала почему-то совсем не о душераздирающем падении Майки, а о том, как уродлив угар гордыни «патриотизма» больших стран, когда он подкрепляется насилием и военной мощью, – и как трогателен патриотизм малых и слабых стран и беззащитных народов, – а так же уж в какой раз почему-то размышляла о том загадочном феномене перевоплощения русской диаспоры, русских эмигрантов в прошлом веке, из уродливой мощной огрызающейся страны изгнанных, – превратившихся как бы в духовного просветленного и искупленного двойника страны, – к счастью и спасению своему любых атрибутов насилия и прочих мерзостей земных государств лишенных – и, будучи в изгнании у этого материального мира, создававших как бы небесную страну, вроде бы номинально по названию совпадающую с земной, но на самом-то деле ничего общего с реальной земной страной не имеющую, совсем ей во всём противоположную, ни в чем, по сути, на нее не похожую, иноприродную ей, – не реализованную и нереализуемую в омерзительных земных «государственнических» воплощениях. И что вот эта вот двойственность – и ошибочное желание отождествить ни с чем земным никак не связанную духовную страну культурной, творческой, философской изгнанной диаспоры – с уродливой земной силовой одноименной территориальной подделкой – это и есть главный соблазн для тех, кто к духовной, небесной, стране чувствует родство. И что так, наверное, со всеми странами – и со всеми благословенными изгнанием диаспорами. И что бывают в земной истории лишь краткие миги, когда, по чуду, отблески небесной истории присутствуют в удивительных, всем земным законам противоречащих моментах взлома земной истории, – как это было в Москве в августе 1991-го… Краткий, крайне кратковременный, ни с чем не сравнимый феномен вторжения небесной истории в земную падшую дрянь – ради того, чтобы люди навсегда это чудо, это освобождение из рабства, запомнили и почувствовали разницу – со своей собственной мерзопакостной рукотворной историей.
И как невероятно было, глядя трансляцию в компьютере, внятно чувствовать, что изменился сам состав воздуха на миг над Майданом. Господи, неужели… И еще через пару часов – и через три ложки перца залпом – из-за какого-то настроения в воздухе даже скорее, чем из-за обрывков новостей, еще больше затрепетала надежда в сердце, что уцелевшие недострелянные майдановцы не просто выживут, но и чудом победят всю вооруженную машину, которая готова уже прокатить по ним катком.
А утром Майка снова ластилась, говорила, что глупо ссориться, когда приехали они всего-то на три дня, – и, видя улыбчивое милое Майкино лицо, даже жутко и неправдоподобно было вспомнить весь кошмар, слышанный от нее накануне, – и Елизавета Марковна малодушно согласилась закрыть внутренние глаза, согласилась сделать вид, что можно вести себя как ни в чем не бывало.
– Маркуша, покажи нам лучше какое-нибудь место в Париже, которые ты любишь, а? – подластивалась Майка. – Где ты гуляешь вот в обычные дни, когда нет гостей?
И Елизавета Марковна показала. Провела она их, собственно, той кривенькой тропкой, которой, когда бывало дождливо и в душе и на улице, любливала хаживать по утрам, надевая красный плащик и красные резиновые полусапожки: выворачивала, шепотом, из тихой томной оплющевевшей ротондовой Рю Рембрандт в рельефно скатывающийся под горку простенький исток Рю дэ Курсэль, вливавшийся поперек в громыхающий бульвар Осман, – и шла дальше уже по бульвару, избегая (из гигиенических резонов души) глазеть в витрины, а смотря себе под ноги – на выпукло выпиравшее из-под асфальта зримое время: колотую ребристую брусчатку, тут и там раздиравшую битумные заплаты, – и на выпрыгивающие из зеркала луж многоочитие жестяные крыши, изумленно таращащие глаза да кое-где осоловевшие даже до такой степени, что глаза превратившие в циферблат, – и все эти внешние маленькие зацепки, неровности и шероховатости (ничего общего ни с призрачным, внешним городом, ни с призрачной его кошмарной внешней историей, разумеется, не имевшие) были для нее всегда как записная книжка, как внешний носитель, на которые записывались стансы нового эссе – которое днем предстояло перелить из души в компьютер, – и до того внешняя, уличная запись эта была надежной, что, забудь она хоть фразу, – достаточно было пройти вновь той же дорогой, увидеть маленькие секретики рябящей трансляции цветных лужиц, – и оброненная фраза, как оброненная кружевная печатка, обнаруживалась найденной-целёхонькой, подбиралась с мостовой и неслась домой, – а уж в следующий день мостовая записная книжка стиралась начисто – для записи нового эссе; но всё-таки, доходя до сто второго дома на Османе, Елизавета Марковна неизменно со вздохом думала: «Бедный педик! Как же тяжко было жить без компьютеров! Невообразимо представить себе ту чудовищную вереницу крошечных бумажечек-поправок и поправок к поправкам, и поправок к поправкам поправок, которые он вклеивал в бесконечные рукописи!», – отворачивалась, вскоре промахивала, морщась, мимо дивных смуглых двухэтажных деревянных воротец здания, где был кабинет ее ревматолога, – а уж там рукой было подать до любимого вокзальчика Saint-Lazare! – куда, грешным делом, обожала Елизавета Марковна загуливать ненастными грустными утрами: брала, в первом же кафе, бумажный кофе, крепко несла дымящийся рифленый стаканчик в греющейся ладони, – возносилась на эскалаторе, – и вот вдруг утро воскресало – в полном соответствии с вокзальчика названием! – белая крыша верхнего этажа атриумного павильона при вокзале взламывалась галереей небесного искусства – гигантским оранжерейным окном, – и Елизавета Марковна входила уже в сам вокзал и шла на самый дальний перрон, и низенький длиннющий перрон был, собственно, тоже всегда лишь идеальной длинной книжной полкой для ума, – а в воздухе, под куполом, до сих пор, казалось, клубился фиолетовый паровозный пар Клода Моне, и открывался отсюда рваненький щемящий вид на Рю дэ Ром и Рю дэ Лондр, и город отсюда выглядел совсем по-другому, словно каждый раз видимый прощальным взглядом, и, когда вокзал выпускал из себя поезда, было всегда чуть-чуть страшно, что поезд не впишется в пути и въедет случайно в дом, и смешно было себе представлять, как экстравагантные люди, выбравшие жить на Рю дэ Ром и Рю дэ Лондр, трясутся от поездов на своих балконах, впопыхах допивая, как и она, утренний кофе, – и, дойдя до самого дальнего конца перрона, Елизавета Марковна, как правило, тайком от себя (и от оранжевых басурман – служек вокзала) выкуривала первую утреннюю сигаретку.
– А вот этот поезд идет в Гавр! – как будто сказку рассказывая, говорила сейчас вместо всего этого Елизавета Марковна Майке, указывая на поезд с фиолетовыми и красными креслами, в котором мятые светильники на столах, библиотечного фасона, были ополовиненными, как разрезанный напополам шампиньон (никак, разумеется, всего внутреннего содержания интерьеров прогулки Майке высказать не сумев, не найдясь со словами: не могла объяснить, что сегодня вот весь этот вокзал, и вот этот вот растрескавшийся перрон, и моросящий день и жалкий вид улиц, и отъезжающие поезда – это просто закодированная нежность и беззащитность, и прощание, и ее любовь к Майке, принявшая форму жалкого этого дня, – и боль, – самой-то Елизавете Марковне всё это казалось такой внятной буквой, что она просто изумлялась, что броня, глухо-немо-слепая броня, которой обросла за последние два года душа Майки, оказывалась настолько непробиваемой, что Майка этого не расслышала и не чувствовала, не вчувствовалась вообще ни во что вокруг, скользила взглядом и соскальзывала, а воспринимала всё с какой-то поверхностностью, будто инвентаризировала и подсчитывала мир).
– Спасибо тебе, конечно, Маркуш. Но в Гавре мокро сейчас, наверное, и грязь. И холодно. Что нам там делать? – бойко возразила Майка, будто Елизавета Марковна предлагала ей билет, а не манящий звук. – Пойдем-ка куда-нибудь, где повеселее!
Зажглись на улицах в светлом мокром тумане ранние фонари, с выражением глаз подвыпившего француза. Невыносимо громко скрипели воробьи, словно чинили какие-то трубы. Горькая выдалась прогулка.
И Елизавета Марковна даже и рада была, когда молодые отправились куда повеселее (в Лафайет за галстуками), ее отпустив восвояси.
Вот в такую вот мжицу и непогоду, как сейчас, Елизавете Марковне особенно нравилось, как полыхали большие высокие окна домов у нее вокруг парка, и мерещилась за окнами добрая уютная райская жизнь, – мираж, который, разумеется, рассеивался, как только подойти поближе и присмотреться, но который, на расстоянии, казался вдруг на миг каким-то залогом из неотсюда: что будет однажды так, и не будет боли, и не будет подмен и засад. А сейчас вот даже и Майка была, вроде, где-то рядом, – а душой чувствовалась подмена.
Елизавета Марковна с болью вынимала из сердца осколки вчерашних Майкиных слов и вновь, и вновь себя ранила вопросами: «Неужели всё то нежное и чувствительное, что было в Майке, так быстро схлопнулось, так быстро увяло, как цветок, заботливо политый бензином и нефтью? Или вся эта нежность и чувствительность, все эти Майкины духовные шансы – это тоже был мираж, и всё это я сама себе напридумывала, и ничего такого в Майке никогда и не было, – просто уж мне очень хотелось в шансы эти верить?!»
Отсутствие соблазна, который принято называть «семейным уютом», расставание с Майкой, изгнание из страны, где было надеялась обрести дом (а теперь еще и страшное ощущение, что душа страны-то этой, такой, какой Елизавета Марковна ее любила, по сути, вовсе перестала существовать – мутировала, превратилась вновь в клацающего зубами монстра, жаждущего чужой крови), недосягаемость в физическом измерении даже любимой собаки… Бездомность, какая-то в сущности земная бездомность, ощущавшаяся ею в этом февральском тумане еще резче, давно уже воспринималась Елизаветой Марковной как естественное, более того – как наиболее здоровое и наиболее трезвое души состояние: благословенное осознание реальной земной экзистенциальной бездомности, которая приучала душу квартироваться в духовном, а не в материи. А в награду – иногда группировавшаяся как-то по-особому вокруг ее духа внешняя материя – как вот эти расцветающие в тумане яркие окна – как бы служила внешним его (хотя и блёклым, усечённым, приблизительным) мгновенным выражением.
А поздно вечером Борис (где-то уже умудрившийся переодеться в гамму тукана) вновь ворвался в квартиру с дюжиной громадных коробок и галантерейных сумок и с цветами, потребовал, чтобы Елизавета Марковна сейчас же поехала с ними в ресторан:
– Ни-ни! – сюсюкал с ней, как с ребенком, лыбясь во всё губы, щурясь, гримасничая и сладко заглядывая ей в глаза Борис, схватив и тряся ее худые кисти в мокрых жарких своих маленьких кулачках из теста. – Никаких отговорок! Мы же должны будем в Москве всем друзьям похвастаться, что водили в парижскую ресторацию живого классика! – и громко хихикал сам же над своей шуткой. – А то Вы сейчас иначе опять к компьютеру – глазки портить! Мы же завтра уедем, и не будет наших с Вами больше милых посиделок – будете жалеть! Ни-ни! Такси на улице ждет! Вы что же, хотите, чтобы я перед Вами на колени встал, госпожа Святоградская?! Сейчас встану!
Внутри Le Grand Cafе Capucines, где их уже ждала Майка (вот уж никогда бы Елизавета Марковна не подумала, что когда либо в жизни зайдет в это странное место, с кичевой затхловатой бульварно-кладбищенской пышностью интерьеров и членовредительским меню!), было пустовато для парижской пятницы. Майка, забравшись с ногами, в шерстяных носках, сидела на диванчике за столиком в дальнем углу зала, раздраженно читала что-то в мобильном (Борис уже по дороге в такси проскороговорил Елизавете Марковне: промочила ноги, замерзла, закапризничала, оголодала – «знаете ли, эти дамские голодные бунты!» – посадил ее ужинать, а сам был отправлен забирать «драгоценнейшую Вас!») и без особого энтузиазма выковыривала улиток из какого-то зеленоватого соуса.
– Маркуша! Круто, что ты приехала! Эти французы нифига на моем французском не понимают! Можешь им объяснить? Я хочу просто бифшекс с кровью, вместо всех этих козявок! Я не хочу яйцо теленка, которое они мне предлагают! – и тут же, каким-то обиженным тоном, добавила, кивая на новостной сайт в мобильном: – вон, видишь, хохлы твои любимые что делают! Взрывают памятники и валят монументы по всей Украине! Вандалы! Я же тебе говорю: все эти революции – это очень опасно!
– Майка, так это скорее контрреволюция тогда уж! – возразила Елизавета Марковна, присаживаясь, бок о бок к Майке. – Ты как-то путаешь термины! Запоздавшая чуть меньше чем на век контрреволюция! Это очищение их страны от проклятья антихристова коммунистического режима – запоздалое, но лучше поздно, чем никогда. Они ж памятники упырю – массовому убийце антихристу Ленину сносят. Чего ты распереживалась-то? Хорошо было бы уж заодно украинцев попросить еще и в России все памятники коммунистов-убийц уничтожить, чтобы страна от антихристовой нечисти очистилась! Знаешь, если Господь каким-то чудом даст сейчас Майдану победить – то именно ради того, чтобы Украина очистились от сатанинского наследия Советского Союза: чтобы был наконец проведен какой-то символический Нюрнберг над преступлениями советских палачей, над преступлениями советских спецслужб, – чтобы хотя бы у них в стране произошло наконец глубинное покаяние и отречение от антихристова советского прошлого, – раз в России-то этого покаяния так и не произошло! Ведь в России-то та же самая антихристова гэбэшная гадюка, которая правила в прошлом веке больше семидесяти лет в Советском Союзе, – теперь просто сменила шкурку – и сейчас пытается не просто править страной, но еще и духовно уничтожить и дискредитировать православное христианство, его «возглавив», выев православие изнутри, подменить его суть, изгнав из православия Христа и все Христовы заповеди! Ведь в России все бывшие партийные и гэбэшные упыри теперь замаскировались в «православие», а гэбэшный, прости Господи, «патриарх» -богохульник теперь выдает ордена сталинисту – главе компартии! У вас же там в России, как я вижу в новостях, и вовсе уж дошли до крайнего богохульства и кощунства – маньяку-убийце Сталину памятники да почести восстанавливают – второй, после Ленина, антихристовой голове!
– Маркуш, ну опять ты за своё… – раздражено-скучающим голосом выдала Майка. – Фу, всё, нет, не могу больше этих мулей есть… Я ж не кореец в конце-то концов, что б всяких червяков и улиток есть! – ковыряла она тарелку с неприглядной начинкой вилкой. – Ну это не смешно уже даже… Еще скажи, что Сталин ел живьем младенцев! – резко с отвращением отпихнула она от себя неаппетитную тарелку и накрыла ее льняной белой салфеткой. – Это ведь всё тоже мифы демократической общественности! Наверное ведь, у Сталина тоже были свои положительные стороны: собиратель земель, твердо руководил страной…
– Маечка, прости, это я ослышалась, или ты десятки миллионов жертв сталинских репрессий только что назвала «мифами демократической общественности»!? – уже как-то почти ничему не удивляясь, переспросила Елизавета Марковна, чуть от Майки отодвигаясь, чтобы видеть ее лицо.
– Маркуш, ну какие десятки миллионов… Да брось ты! – с агрессивным энтузиазмом принялась вдруг опять набирать обороты Майка, с загоревшимися опять недобрым злорадным огоньком глазами. – Наверняка ведь, во-первых, цифры завышены для ажиотажу… А во-вторых… Когда вот некоторые кричат: «сталинские репрессии, сталинские репрессии…» – ну да, сажал каких-то там людей Сталин, и под расстрел отдавал, но ведь, наверное, не так уж невиновны они и были, если как следует покопаться! Не бывает ведь дыма без огня!
Елизавета Марковна, которая предыдущий вопрос Майке задавала тихо и терпеливо, общаясь с Майкой немножко как с буйно-помешанной, которую она со вчерашнего дня пыталась вернуть в здравый рассудок, в этот момент не выдержала, вскочила из-за стола и сорвалась на крик:
– Майка! Не смей! Ты не понимаешь, что ты произносишь проклятие сама на себя! Вот тем, что ты оправдываешь одержимого сатаной массового убийцу Сталина, ты сама берешь на себя кровь невинных жертв, которых он убил! Ты перед Богом берешь на себя проклятье! И вся страна берет на себя страшное проклятье тем, что вместо покаяния и отречения от сталинских сатанинских преступлений вновь начинает оправдывать или превозносить убийцу Сталина! Майка, не смей, умоляю! Ты не соображаешь, что ты городишь! Ты как будто под гипнозом! Майка, Майка, я верю, что душа твоя может прозреть еще когда-нибудь, у тебя ведь доброе сердце, но сейчас… умоляю, не произноси больше никогда такого страшного богохульства и святотатства! Майка, Майка… Что с тобой?!
– Госпожа Святоградская, взгляните лучше какой огонек сейчас будет красивый! Бах! – жеманно крикнул вдруг с противоположной стороны стола лыбящийся и весь как-то лоснящийся от счастья Борис, которому тем временем успели принести заказанное им любимое его блюдо – сладкое фламбэ, – и исполнительный гарсон как раз в этот момент, прямо рядом со столом, подпаливал для него синим пламенем поднос.
Сквозь этот жуткий синий огонь Елизавета Марковна их и запомнила; а на следующий день новость о том, что украинский диктатор бежал – и о том, что Майдан невероятным чудом победил, – появилась, по какому-то идиотскому совпадению, практически одновременно с отлётом Майки вместе с Борисом в Москву.
– А Вы возьмите перечитайте, Елизавета Марковна, воспоминания Альберта Шпеера, архитектора Гитлера! – баском говорила ей по телефону московская подруга, пожилая певица-шансонье, под гитару исполнявшая по всему миру песни на собственную лирику, – когда Елизавета Марковна, рыдая, спросила совета (не называя Майку, стыдясь о таком позоре рассказать, – а просто признавшись, что «одна ее добрая знакомая» заразилась вот такой вот страшной духовной проказой). – Вспомните, как Шпеер описывает свои ранние личные впечатления от Гитлера, о том, какое гипнотическое воздействие почему-то голос этого невзрачного закомплексованного одержимого бесами фанатика имел на толпу! И как гитлеровские пропагандисты потом сознательно этот голос мультиплицировали и принудительно пускали на полной громкости из всех динамиков на улицах и в домах по всей Германии – чтобы манипулировать сознанием масс, чтобы держать их в гипнотическом опьянении, чтобы влезать в их подкорку и изменять их сознание, чтобы держать их в подчинении, чтобы заставлять их совершать страшные преступления или оправдывать убийства! А уж здесь-то, у нас, в России сейчас все эти спец-методы отупления масс уж и вообще разгулялись – технологии-то со времен Гитлера далеко шагнули вперед! Вы просто представить себе не можете, Елизавета Марковна, насколько здесь тотальная обработка мозгов ведется! И по телевизору, и в интернете, и в школах, и во всех доступных для их щупалец институциях! Тем более, что спецслужбы неплохо уже натренировались в этих методах за три четверти века советской диктатуры, – а ведь теперь у них и мощностей побольше, и ресурсов побогаче! А ведь у бывших советских людей у многих и так уже и психика и мозги покалечены этим массовым зомбированием, которому их подвергали в СССР: прежним мозго… бам достаточно было только щелкнуть пальцами, произнести старые кодовые слова, сказать ключевые зомбируещие фразы, включить старую мелодию сталинского гимна, щелкнуть кнутом, крикнуть «ап» – и вот уже все дрессированные суслики опять на задних лапках ходят!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: