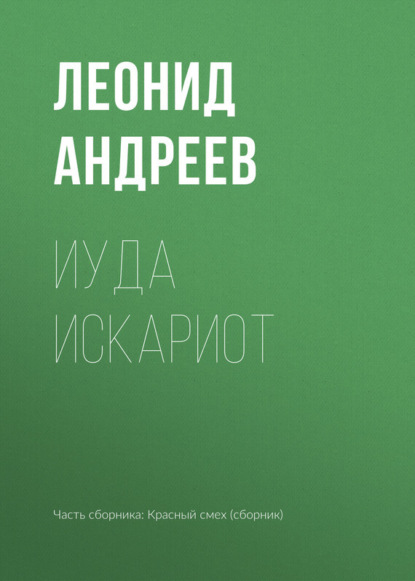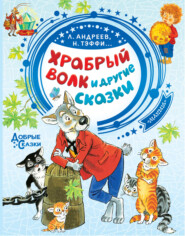По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иуда Искариот
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?
– А сколько вы дадите?
Анна с наслаждением оскорбительно сказал:
– Вы все шайка мошенников. Тридцать сребреников – вот сколько мы дадим.
И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда – проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него.
– За Иисуса? Тридцать сребреников? – закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. – За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать сребреников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать сребреников?
Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки:
– Ты слышишь? Тридцать сребреников! За Иисуса!
С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:
– Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле.
И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства того, кого он продает.
– А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!
– Если ты… – пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды, но тот беззастенчиво перебивал его:
– А то, что он красив и молод, – как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха? А?
– Если ты… – старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.
– Тридцать сребреников! Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? – вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.
– За все! За все! – задыхался Анна.
– А сами вы сколько наживете на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!
Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:
– Вон!.. Вон!..
Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками:
– Но если ты так… Зачем же ты сердишься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди…
– Мы другого… Мы другого… Вон!
– Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов? За два обола? За один?
И, кланяясь все ниже, извиваясь и льстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.
– Теперь так много фальшивых денег, – спокойно пояснил Иуда.
– Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм, – сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.
– Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.
Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку, – но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать сребреников.
Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся – и выполз бесшумно.
– Господи! – сказал он. – Господи!
И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба.
…Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она, – он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности – теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь, – и те приносили амбру, благовонное дорогое мирро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству, и в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках – первый раз в жизни – маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали, и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг всползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.
По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искариот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихою водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания, и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн; у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и он тихонько вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:
– Как он рассказывает! Ты слышишь?
– Слышу, конечно.
– Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать.
Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.
И без зависти, с снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней!
VI
Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:
– Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.
Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление – пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали:
– Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник?
– Но если они захотят умертвить его?
– Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним.
– А если посмеют? Тогда что?
Иоанн говорил пренебрежительно:
– Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя.
И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью:
– А сколько вы дадите?
Анна с наслаждением оскорбительно сказал:
– Вы все шайка мошенников. Тридцать сребреников – вот сколько мы дадим.
И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда – проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него.
– За Иисуса? Тридцать сребреников? – закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. – За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать сребреников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать сребреников?
Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки:
– Ты слышишь? Тридцать сребреников! За Иисуса!
С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:
– Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле.
И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства того, кого он продает.
– А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!
– Если ты… – пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды, но тот беззастенчиво перебивал его:
– А то, что он красив и молод, – как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха? А?
– Если ты… – старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.
– Тридцать сребреников! Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? – вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.
– За все! За все! – задыхался Анна.
– А сами вы сколько наживете на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!
Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:
– Вон!.. Вон!..
Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками:
– Но если ты так… Зачем же ты сердишься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди…
– Мы другого… Мы другого… Вон!
– Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов? За два обола? За один?
И, кланяясь все ниже, извиваясь и льстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.
– Теперь так много фальшивых денег, – спокойно пояснил Иуда.
– Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм, – сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.
– Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.
Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку, – но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать сребреников.
Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся – и выполз бесшумно.
– Господи! – сказал он. – Господи!
И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба.
…Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она, – он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности – теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь, – и те приносили амбру, благовонное дорогое мирро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству, и в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках – первый раз в жизни – маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали, и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг всползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.
По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искариот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихою водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания, и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн; у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и он тихонько вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:
– Как он рассказывает! Ты слышишь?
– Слышу, конечно.
– Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать.
Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.
И без зависти, с снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней!
VI
Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:
– Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.
Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление – пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали:
– Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник?
– Но если они захотят умертвить его?
– Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним.
– А если посмеют? Тогда что?
Иоанн говорил пренебрежительно:
– Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя.
И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью: