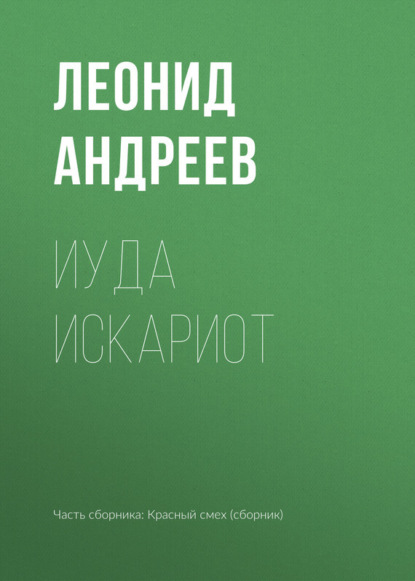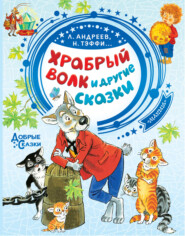По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иуда Искариот
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но вы его любите, да?
И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:
– А ты его любишь? Крепко любишь?
И все отвечали, что любят.
Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его:
– Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?
Фома рассудительно ответил:
– Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча, – что можно сделать двумя мечами?
– Можно еще достать. Их можно отнять у воинов, – нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые, нависшие усы:
– Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат.
– Эти я украл. Можно было еще украсть, но там закричали, – и я убежал.
Фома задумался и печально сказал:
– Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь?
– Но ведь нет же чужого!
– Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.
И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз прокляли ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.
А рассерженный Иуда, после каждого такого разговора, шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.
– Разве это люди? – горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. – Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!
– Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, – возражала Мария.
– Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? – удивлялся Иуда. – Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!
– Он так тяжел, я не подниму его, – улыбнулась Мария.
– Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтоб найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был он? Улыбнулся ли он?
– Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.
– И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?
– Ты же просил не говорить.
– Нет, не надо, конечно, не надо, – вздохнул Иуда. – Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее: быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь?
– Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?
– Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать сребреников – это большие деньги? Или нет, небольшие?
– Я думаю, что небольшие.
– Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять сребреников или десять? Ты была дорогая?
Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.
– Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.
– Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?
– Ведь это грех.
– Тому страшно, кто греха еще не совершал. А кто уже совершил его, – чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его.
Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам – он, уже старый, сухой, безобразный, со своею бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом, она – молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.
А время равнодушно протекало, и тридцать сребреников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляти, и, расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками:
– Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!
И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо:
– Не сын ли это Божий с нами?
И сами кричали торжествующе:
– Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!
В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые, большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивленно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искариот, задумывался и вновь слушал и смотрел, потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде:
– Фома! А что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою – песок только? Тогда что?
– Про кого ты говоришь? – осведомился Фома.
– Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?
– Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?
И, покачивая головою, Иуда повторил, как эхо:
– Кто обманывает Иуду? Кто прав?
И на другой еще день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос:
И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:
– А ты его любишь? Крепко любишь?
И все отвечали, что любят.
Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его:
– Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?
Фома рассудительно ответил:
– Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча, – что можно сделать двумя мечами?
– Можно еще достать. Их можно отнять у воинов, – нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые, нависшие усы:
– Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат.
– Эти я украл. Можно было еще украсть, но там закричали, – и я убежал.
Фома задумался и печально сказал:
– Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь?
– Но ведь нет же чужого!
– Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.
И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз прокляли ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.
А рассерженный Иуда, после каждого такого разговора, шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.
– Разве это люди? – горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. – Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!
– Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, – возражала Мария.
– Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? – удивлялся Иуда. – Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!
– Он так тяжел, я не подниму его, – улыбнулась Мария.
– Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтоб найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был он? Улыбнулся ли он?
– Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.
– И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?
– Ты же просил не говорить.
– Нет, не надо, конечно, не надо, – вздохнул Иуда. – Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее: быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь?
– Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?
– Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать сребреников – это большие деньги? Или нет, небольшие?
– Я думаю, что небольшие.
– Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять сребреников или десять? Ты была дорогая?
Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.
– Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.
– Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?
– Ведь это грех.
– Тому страшно, кто греха еще не совершал. А кто уже совершил его, – чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его.
Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам – он, уже старый, сухой, безобразный, со своею бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом, она – молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.
А время равнодушно протекало, и тридцать сребреников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляти, и, расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками:
– Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!
И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо:
– Не сын ли это Божий с нами?
И сами кричали торжествующе:
– Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!
В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые, большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивленно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искариот, задумывался и вновь слушал и смотрел, потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде:
– Фома! А что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою – песок только? Тогда что?
– Про кого ты говоришь? – осведомился Фома.
– Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?
– Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?
И, покачивая головою, Иуда повторил, как эхо:
– Кто обманывает Иуду? Кто прав?
И на другой еще день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос: