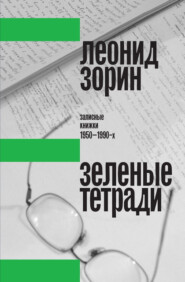По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царская охота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мартынов. Ее императорское величество просят пожаловать ваше сиятельство незамедлительно.
Алексей. Подожди.
Мартынов. Слушаюсь, ваше сиятельство.
Алексей. Ступай.
Офицерик уходит.
Видишь как? Легка на помине.
Григорий. Зовет тебя, а я ни при чем…
Алексей (озабоченно). К добру ли? (Смотрит на Григория.) А ты уже и не в себе.
Григорий. Брат, не до шуток. В тебе есть надобность, а я про то и ведать не ведаю.
Алексей. Эй, Ферапонт, умываться. Живо. Царская служба ждать не любит. (Брату.) С Богом!
Григорий. В добрый час, Алексей.
Алексей. Господин пиит пусть отоспится.
Кустов. Что плоти сон, коль дух еще бодрствует?
Алексей. Ну, бодрствуй, да в меру. Гляди! (Уходит.)
2
Кабинет Екатерины. Екатерина и Дашкова.
Екатерина. Слушаю, Екатерина Романовна. О чем твоя просьба?
Дашкова (подчеркнутая сдержанность). Ваше величество, сын мой окончил курс в Эдинбурге. Мне надобно провести с ним в Европе то время, которое потребно для завершения его воспитания. Прошу на то вашего дозволения.
Екатерина. Скучно тебе, княгиня, с нами? Три года пространствовала, два – здесь прожила и уж назад тебя потянуло.
Дашкова. Ваше величество, я живу для сына. С той поры, как князь Михаил Иваныч оставил меня в сем мире одну, жизнь моя навсегда кончена. Мне для себя ничего не надо. Но моя обязанность вложить в Павла все, что оправдает любовь матери и даст ему одобренье отечества.
Екатерина. Не рано ль ты стала для сына жить? Гляди, княгиня, не ошибись. Дети любви нашей редко стоят.
Дашкова. Я надеюсь, что сохраню доверенность моего ребенка. Он вовсе не способен на зло.
Екатерина. Рада за тебя, коли так. А все же на досуге подумай. Я ведь не с потолка беру. Мы с тобой обе – Екатерины, у тебя свой Павел, у меня – свой. Храни тебя Бог от моих забот.
Дашкова. Было время, ваше величество, я Бога просила, чтоб ваши заботы стали моими. Был и тот далекий и столь опасный июнь, когда я и вовсе была готова расстаться с земным существованием, лишь бы увидеть на вас корону. И делала то, что делать могла. Теперь обстоятельства переменились.
Екатерина. Что, милая, о былом вспоминать? Тогда мы обе молоды были. А на обстоятельства негодовать есть манера хорошенькой женщины. Уж если ты для сына живешь, учись смиренью. Вот мой совет.
Дашкова. Благодарю вас, ваше величество. Это совет бесценный.
Екатерина. Ой ли? Не идет тебе, Катя, схима. Старит. Я постарше тебя, а кто из нас моложе глядится, скажи по совести?
Дашкова (не без колкости). О, вы, бесспорно, ваше величество.
Екатерина. Спасибо, мой друг. А все оттого, что женщина должна быть женщиной и жить настоящим. Мне Дидерот еще пять лет назад писал: княгине Дашковой двадцать семь? Я полагал, ей уже сорок!
Дашкова. Делает честь его наблюдательности.
Екатерина. Чрезмерное умствование женщину сушит. Боюсь, что Никита Иванович Панин сыграл в твоей жизни дурную роль.
Дашкова. Он вам не по сердцу. Ах, ваше величество! Меня лишиться – утрата малая, но Панин – потеря невосполнимая. Вас хотят разлучить, это можно понять. Человек значительный возбуждает ненависть.
Екатерина. Так я о себе не худого мнения – значительных людей не страшусь. Посредственности, которых амбиции за счет способностей разрослись, мне тягостны. Большие умы делают большей и славу царствования. За дарованья графа Панина на многое я закрыла глаза, но кое-что и закрывши видно.
Дашкова. Вы его не любите, ваше величество.
Екатерина. Я его довольно ценю – любить же его не обещалась. В моем положении любить опасно – за любовь расплачиваются, и больно. Зато у тебя, моя смиренница, старая приязнь цела. И чем он тебя прельстил, не пойму. Бледен, болезнен, вял в порывах – таков ли настоящий мужчина?
Дашкова. Ах, этого не было.
Екатерина. Полно, мой друг. Не потеряй господин Панин, по милости твоей, головы, думаю, не был бы он со мною тому назад тринадцать лет. Слишком хитер да осторожен.
Дашкова. Молю вас, не поминать тех дней. Чем память дороже, тем мучительней. Чем прошлое человека прекрасней, тем настоящее безотрадней.
Екатерина. Нельзя давать памяти много воли. Она со смертными часто играет презлую шутку. Она точно зеркало, в котором он видит лишь себя и любуется на себя. От этого собственное значение кажется ему непомерным.
Дашкова. Ваше величество, эти слова сами по себе справедливы, но до меня они не касаются. В том, что вы вступили на трон, роль моя совершенно ничтожна.
Екатерина. Полно, княгиня, что за речи. Не забываю ничьих услуг, но помню и ваши с графом помыслы. (Резко.) И знаю, что давнее ваше мечтанье обузить царскую власть, как платье, не столь бескорыстно, как это кажется.
Дашкова хочет ее прервать.
Заботы о своем возвышенье тут боле, чем о благе страны, которая при слабом правленье погибнет.
Новая попытка Дашковой возразить.
Я хотела бы верить, что Пугачев вас просветил. Да, княгиня, Монтень и Локк, может быть, хороши в Европе, но не на этой странной почве. Право же, я начинаю думать: обстоятельства моего воцаренья дурманят не только слабые головы, побуждая их к самозванству, но и иных умнейших господ. Им, верно, мои права на престол кажутся не столь безусловными, чтоб их нельзя было ограничить.
Дашкова. И вы это говорите мне?
Екатерина. Вам, княгиня, и вашему другу. Признаюсь, я вижу некую связь между безумными поползновениями и обдуманными прожектами.
Дашкова. Ваше величество! Бога ради, вспомните наши с вами мечты! Пусть даже граф Никита Иваныч хотел обязательного для всех государственного устройства, достойного столь великой страны, – разве ж и мы не о том молились? И мне теперь слышать, что вы меня заподозрили в личных видах…
Екатерина. Честолюбие до добра не доводит.
Дашкова (вспыхнув). Честолюбие не всегда порок! Я встречала его и в царственных душах.