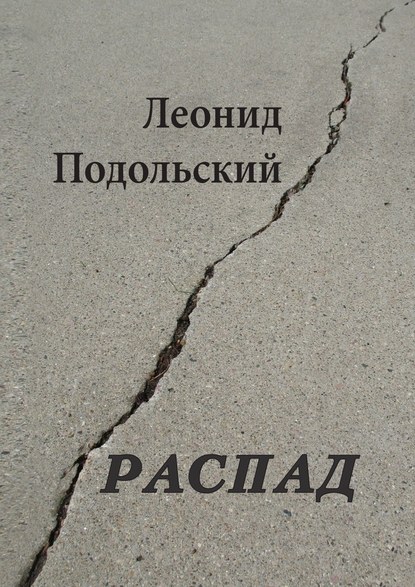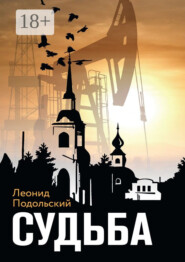По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Распад
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, сколько ни ищи в истории, все лжетеории рождаются одинаково. В разгорячённо-завистливых кабинетных умах, а'приори, из мёртвой схоластики, которую по ошибке иногда называют логикой… Да что логика… Логика в лучшем случае три варианта рассчитать позволит, а их у жизни – тысячи… Кто же это сказал? Достоевский? Воля… Вот что их рождает – воля, их навоз – честолюбие и зависть… Волюнтаризм, перемешанный с фанатизмом, а значит – непременно костры инквизиции… Наш – не наш, сторонник – враг… Диалектика кулака…
А дальше, как у всякой догмы. Сначала – сама уверовала, потом заразила других. Вера – вещь заразная… Впрочем, не заразила, не убедила, нет. Заставила делать вид… Не трагедия, только фарс…
Да, разница всегда в масштабе… Чем меньше догма, тем меньше жертв. Микромодель: её отдел – микромодель, заблуждения – тоже… И институт – микромодель…
Самое страшное – ошибиться в идее. А потом, как в шахматах, форсированный вариант… Цугцванг…[1 - Цугцванг – положение в шахматах, где каждый последующий ход только ухудшает позицию.]
Николай, правда, с самого начала морщился:
– Твой метод в корне порочен, Женя. У природы свой язык, и мы, собирая факт за фактом, должны его расшифровывать, как расшифровывают древние письмена, а ты, не считаясь с фактами, выхватив из общего их числа несколько удобных, строишь собственную теорию а’приори, без всякого эксперимента, словно можно закономерности природы подменить своей логикой, пусть даже блестящей. И новые факты ты будешь не осмысливать, а лишь вставлять в ячейки придуманной теории. Но это и есть чистой воды волюнтаризм и догматизм, если хочешь, вариант лысенковщины. Логично – не значит верно. У эволюции свои законы, неразумно через них перепрыгивать…
Но он, Николай, всегда был скептиком. Философом… и при том завистливым…
Но она-то верила… Свято, без сомнений, как верила когда-то в ученье классиков.
И другие верили… Нет, нет, что же я говорю. Они – не верили, вот в чём ужас! Они только исполняли мою волю. Иначе почему же они ушли? Лена Анисимова, например. Чуть ли не на следующий день, после защиты…
Дрожь, как в лихорадке, пробежала по телу Евгении Марковны, острые стрелы вонзились в мозг, но ей сейчас было не до боли. Взгляд её, пронзая пространство и время, устремляется назад, в прошлое, в полутёмную тесноту рабочего кабинета, натыкается на груды папок, на тяжёлые шторы на низеньком окне, на заваленный бумагами стол. В кабинете почти ничего с той поры не изменилось, только бумаг стало еще больше – и деталь за деталью, подробность за подробностью, вспоминает Евгения Марковна тот давний разговор. Пятнадцать лет прошло, но она по-прежнему слышит каждое слово, узнаёт интонации, будто это случилось вчера.
– Что же вы, Лена? – в голосе Евгении Марковны звучат удивление и упрёк. – Вы сделали прекрасную диссертацию. За вас единогласно проголосовали. И сразу после защиты… Мы ведь собирались взяться за монографию. Ещё никто до вас не связывал аритмии с потенциалами ионов. Никто. Вы – первая.
– Спасибо, Евгения Марковна, за всё. Но я устала от Сизифова труда. Мы сейчас еще дальше от завершения работы, чем в самом начале. Тогда хоть у нас была вера… и еще не было путаницы…
– А сейчас, значит, нет веры?
– Нет. Не знаю, как вы, а я даже не уверена, что записывала потенциалы ионов, а не артефакты.
– Очень странно, Лена, почему тогда в ваших артефактах прослеживается такая строгая и логичная закономерность.
– Та самая, которая была нужна вам, Евгения Марковна.
– Что же, если вы так считаете, Лена, может быть, вам и в самом деле лучше уйти.
Неужели уже тогда? Но ведь как мы работали, с каким энтузиазмом – и днем, и ночью… Нас так и называли – стахановцы… Неужели только из-за диссертаций?..
Евгения Марковна тяжело поднялась, медленно прошлась по спальне. Снова подошла к окну, словно от этого ей могло стать легче. Но туман стал еще гуще, непроницаемой грязноватой ватой укутав землю, и за окнами висела лишь холодная, сырая мгла, нескончаемая весна-осень, растворившая в себе блеклые пятна фонарей.
– Какая тоска. Будто конец света, – жуть одиночества в задушенном туманом, разъединённом, фантасмагорическом городе, охватила Евгению Марковну. Она снова закуталась в плед, опустилась в кресло и закрыла глаза, словно единственная спасшаяся в тоскливом ковчеге трёхкомнатной квартиры. Настоящего больше не существовало. Ковчег уносило в прошлое…
Когда же она впервые поняла, что поклоняется не истине, а идолу? В тот мрачный, дождливый день, или ещё раньше? Ливень, не переставая, хлестал по истерзанной, вспученной земле с полдня, швырялся в окна обломанными ветками, гремел гром, электрическими скатами исчерчивали чёрное небо молнии, а в лаборатории было непривычно тихо. Все давно разошлись, только у Евгении Марковны не оказалось с собой зонта, да и спешить ей было некуда, и она просматривала данные последних экспериментов. И чем больше она размышляла над ними, тем сильнее её охватывало отчаяние. Это были совсем не те результаты, которых она ждала. Они лишь окончательно всё запутывали, а иные даже прямо противоречили её теории. И вдруг, словно вспышка молнии высветила всё, на мгновение она прозрела, и очень ясно увидела, что теория её многое не объясняет и, сколько ни упорствуй, не объяснит. Тут должен присутствовать и другой механизм – re-entry[2 - re-entry (англ.) – круговое движение волны возбуждения; проявляется при различных нарушениях ритма сердца.], тот самый, который она предала анафеме, и что оба механизма, эктопии и re-entry, не только не исключают, но скорее дополняют друг друга… Значит, возможна конвергенция… Но эта мысль была выше её сил. Она испугалась и запретила себе об этом думать. Признать re-entry – означало публичное покаяние, но все мосты были давно сожжены…
А зачем, зачем сожжены? Зачем, спрашивается, было ей громить теорию Бессеменова, противопоставлять один механизм другому, обвинять его в оппортунизме. Нет, здравым смыслом это не объяснишь. Сознайся уж честно, Женечка, тут было своего рода сумасшествие, ослепление. Впрочем, и у сумасшествия – свои причины… Увы, правду говорил Ройтбак, что это – от тех времен. От их дикой, варварской нетерпимости…
Вот ведь как… Ты их всех ненавидела, этих черносотенцев-погромщиков, и генетикам сочувствовала, и кибернетикам, и твердо стояла за прогресс, за терпимость и демократию, о плюрализме рассуждала, и на МХАТовском «Суде чести»[3 - «Суд чести» – спектакль во МХАТе, где инсценировался суд над учеными, объявленными антипатриотами и космополитами. Спектакль этот, несомненно, самая мрачная страница в истории МХАТа, полный разрыв с традициями, заложенными его основателями. В основу спектакля положен реальный «Суд чести» над Н. Г. Клюевой и Г.И.Роскиным, состоявшийся в 1947 г. в театре Эстрады (см. подробное примечание к стр.118).] готова была провалиться сквозь землю, и не запятналась ни разу – мало кому это удалось тогда, ведь если не с нами, то против нас – а вот, заразилась тоже… Это у нас в крови, целые поколения отравлены… Да и как не отравиться, если в десять лет иголками глаза выкалывали, прежде чем замалевать чернилами. Целые учебники врагов народа… Вот и вошло в привычку клеймить и громить.
Знала же, всегда знала, что зло порождает только зло, несправедливость – только несправедливость. И все-таки громила… Ну да, потому и громила, что не хватало аргументов. И тогда, вместо аргументов, находились ярлыки…
А дальше, как со всякой лжетеорией: кризис веры, распад, а надо платить по векселям. Вот тут и начинается реакция, чтобы замедлить распад… Застой… Застой и распад всегда начинаются изнутри…
Оттого сейчас и торжествует Соковцев – ему осталось только подрубить насквозь прогнившее дерево…
Что же делать? Уже ничего не изменить. Ничего… Слишком поздно начинать сначала…
О, господи! Ведь не может же она уйти. Куда? Зачем? Для неё весь смысл в науке…
Нет, ни за что! – Евгения Марковна до боли сдавила дрожащими руками виски, и почувствовала, как слёзы катятся по щекам. Совсем как в детстве: тяжёлые, тёплые, солёные.
– Вот так и умру когда-нибудь, и никто не узнает. Надо расслабиться и забыться…
Она долго сидела в кресле, не шевелясь, с закрытыми глазами. Головная боль медленно отступала, уменьшаясь в размере, как шагреневая кожа, пока, наконец, осталась только в затылке. Но забвение по-прежнему не приходило. Профессор Маевская снова провалилась в прошлое…
ГЛАВА 2
Андрей Платонович Бессеменов – щуплый, седой, с архаичной бородкой и бакенбардами, выдававшими в нём чужака, человека из иного времени, иных принципов и иной культуры, – сидел за столом, на котором в аккуратные стопки были разложены оттиски статей на английском, французском и немецком, так, что Евгения Марковна, владевшая только английским, да и то кое-как, совсем не к месту почувствовала зависть, и что-то вроде тайного комплекса неполноценности. Подняв на лоб очки, Андрей Платонович внимательно смотрел на нее. Двадцать лет прошло с того дня, но по-прежнему всё так же ясно видит Евгения Марковна его по-детски ясные проницательные глаза, мешотчатые веки и руки Андрея Платоновича – маленькие, подвижные, со странно узкими кистями и тонкими пальцами, покрытые неожиданно густыми, светлыми волосами. Руки эти, пока говорила Евгения Марковна, все время находились в движении: мяли, скручивали, и раскручивали шарик из белой глянцевой бумаги. Ещё один такой же шарик лежал рядом, на столе, приковывая внимание Евгении Марковны и мешая ей сосредоточиться, и оттого, возможно, она говорила слегка сумбурно…
Андрей Платонович, известнейший специалист в области электрофизиологии и электрокардиографии, больше сорока лет занимался аритмиями. Когда-то, до войны еще, Евгения Марковна училась по учебнику, в котором он состоял одним из соавторов. Позднее, в аспирантуре, штудировала его атлас, статьи, и знаменитую монографию, принёсшую Андрею Платоновичу международное признание, и несколько раз, пока профессор Бессеменов преподавал в университете, бывала на его лекциях для аспирантов. Лекции эти представляли собой целое научное событие, школу, поважнее, чем иные симпозиумы и конференции – и их, наряду с аспирантами и студентами старших курсов, посещали научные сотрудники и преподаватели из многих московских институтов, и даже из других городов.
Андрей Платонович умел владеть аудиторией. Говоря, он словно парил в воздухе, становился выше ростом, увлекался, размахивал руками, иногда, забывшись, уходил в сторону. Но важно было не то, как он говорил и увлекался, не его странный, по-мальчишески высокий голос. Важны были его мысли, его эрудиция, аргументация, логика – он представал настоящим энциклопедистом, одинаково свободно владея физиологией, генетикой, биохимией, эволюционной биологией, и, только зарождавшейся в те годы биофизикой. И построение лекций Андрея Платоновича тоже было необычным. Он в совершенстве обладал искусством синтеза, излагая вначале отдельные, казалось бы, не связанные между собой факты, и вдруг, незаметно для глаза, с необыкновенным изяществом созидал из них гармоническое целое, некое светлое здание, в котором не существовало перегородок между науками. «Природа и организм всегда цельны, а расчленение и анализ – лишь способ исследования», – любил он повторять и как-то даже прочел блестящую лекцию о Вирхове[4 - Вирхов Рудольф (1821—1902) – немецкий учёный-патолог, автор учения о целюлярной патологии; согласно Вирхову материальным субстратом болезни является клетка – в противовес учению о целостном организме.]. Андрей Платонович вообще увлекался историей науки – в этом ему не было равных. К тому же, за его научной эрудицией стояла еще и огромная культура – она проявлялась не только в речи и в его интеллигентной мягкости, но и в редких, однако чрезвычайно точных и глубоких ассоциациях, и примерах из литературы, живописи, музыки, философии. К последней он имел особое пристрастие: Гегеля и Канта, особенно, же Бюхнера[5 - Бюхнер Людвиг (1824—1899) – немецкий естествоиспытатель, врач и философ, принадлежавший к «вульгарному» материализму, автор труда «Сила и материя». В течение жизни Бюхнер проделал некоторую эволюцию в направлении от «вульгарного» материализма к диалектическому.], цитировал наизусть целыми абзацами. Словом, это был гигантский ум, за которым угадывались блестящее образование, широта и глубина взглядов.
Но все это происходило ещё до войны и в первые послевоенные годы, до Павловской[6 - Павловская сессия – объединенная сессия Академии наук и Академии медицинских наук СССР (1950), посвященная наследию великого русского физиолога И.П.Павлова. На сессии ряд видных учёных; академики Л.А.Орбели, И.С.Бериташвили (Беритов), профессор П.К.Анохин и другие были объявлены противниками павловской физиологии, обвинялись в субъективизме и идеализме. После сессии проводилась широкая чистка кадров физиологов.] сессии. Потом же вскоре Андрей Платонович надолго исчез, и снова появился на научном горизонте лишь лет через пять. Но уже не в университете, а в скромном НИИ второй категории.
Неприятности Андрея Платоновича пришлись на тот период, говоря о котором потом всегда вспоминали генетиков и кибернетиков, но это, увы, была только часть правды. На самом деле разгрому подвергалась вся наука, даже шире – вся интеллектуальная жизнь страны: громили и физиологов, и химиков[7 - Достаточно упомянуть, что в 1947—1948 гг. была объявлена буржуазной лженаукой квантовая механика и вытекавшая из неё теория резонанса, развивавшаяся Л. Полингом, получившим за эти исследования Нобелевскую премию. В СССР аналогичные взгляды развивал профессор Я.К.Сыркин. Его научная школа была разгромлена, а сам Н.К.Сыркин и его ученики подвергнуты гонениям.], и врачей[8 - В первую очередь речь идёт о«деле врачей». По обвинению во вредительстве, то есть преднамеренном неправильном лечении, повлекшем за собой смерть А.А.Жданова и А.С.Щербакова, а также в попытках вывести из строя ряд военных руководителей Советского Союза, в январе 1953 года была арестована группа наиболее видных советских клиницистов. Согласно официальной версии, арестованные были связаны с международной еврейской организацией Джоинт (благотворительная организация, в частности оказывала помощь советским евреям в создании еврейских колхозов в Украине И Северном Крыму, строительстве в Еврейской Автономной области, продовольственную помощь во время Великой отечественной войны и т.д.) и с английской разведкой. Все обвиняемые были реабилитированы вскоре после смерти Сталина. Следует отметить, что это не единственный случай обвинения врачей. Ещё до войны были репрессированы профессора Плетнев, Левин и Казаков, которым инкриминировали, что они «по заданию врагов Советского Союза умертвили путём неправильного лечения А.М.Горького, В.В.Куйбышева, В.Р.Менжинского». «Дело врачей» использовалось для нагнетания атмосферы антисемитизма.], и филологов[9 - В языкознании тоталитарные, административные методы вмешательства в науку вначале привели к монополии академика Н.Я.Марра и его последователей в учении о языке, а затем, после дискуссии 1950 года к огульной критике (посмертно) Н.Я.Марра и разгрому его школы.], и писателей[10 - Наиболее яркий пример – постановление ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14/VIII-46 г. В постановлении ошельмованы А. Ахматова и М. Зощенко; 4/IX-46 г. Президиумом правления Союза Писателей СССР А. Ахматова и М. Зощенко исключены из организации. Журнал «Ленинград» был закрыт. Одновременно подверглись гонениям и многие другие писатели.], и даже далеких от идеологического фронта композиторов[11 - Достаточно упомянуть постановление ЦК ВКП (б) об опере «Великая дружба» В. Мурадели. В этом постановлении ведущие советские композиторы Д. Шостакович, С. Прокофьев, Л. Хачатурян, В. Шебалин, Н. Мясковский и другие причислены к «формалистическому, антинародному направлению в музыке». В последующие годы указанные композиторы подвергались гонениям, а их произведения не исполнялись.]. Замахивались и на физиков, появились ругательные статьи о теории относительности, но физиков сумел отстоять Курчатов.
В этой вакханалии погромов, арестов и репрессий, вновь повторявших тридцать седьмой год, конечно, заключались паранойя, порождение болезненно-извращенной, подозрительной личности Сталина. Но, увы, и закономерность тоже, историческая неизбежность, в разных странах словно эхо, повторившаяся – прямой результат непросвещенного тоталитаризма, психологии осаждённого лагеря, нетерпимости и фанатизма, родившихся в прошлой борьбе, то есть, в сущности, новой религии, в которой Вождь занял место Бога. Но раз Бог, непогрешимый и всезнающий, непререкаемый жрец и толкователь теории, которая не может ошибаться, значит, истина – больше не плод познания, не объективная реальность, а всего лишь эманация Вождя.
Но, даже уверовав в свою избранность и непогрешимость, Вождь-тиран, как всякий лжепророк, испытывает втайне комплексы неполноценности, страх, что может быть разоблачён, и потому неизбежно ненавидит интеллигенцию, ненавидит всякую мысль, потому что из мысли рождается инакомыслие. И, чтоб уничтожить инакомыслие, он уничтожает самую мысль, уничтожает и запугивает интеллигенцию, чтобы народ, лишённый мыслей, оболваненный, усвоивший только догмы, легче было заставить слепо верить и поклоняться идолу.
Конечно, чтобы такое осуществить, недостаточно одной преступной воли. Тут аппарат нужен, должны быть убраны все противовесы. Но в том-то и состояла историческая закономерность, что все противовесы, все сдерживающие начала были убраны, и аппарат такой существовал. И лишь одно – экономические неудачи, экономическая неэффективность системы вождизма, могли положить ей предел.
А потому неудивительно, что в то время, в той обстановке мракобесия и погромов, после Павловской сессии, профессор Бессеменов, старый интеллигент, к тому же, стажировавшийся когда-то в Германии, и не скрывавший своей симпатии к заграничным учёным – он и о Норберте Винере[12 - Винер Н. – американский учёный, основоположник кибернетики, лауреат Нобелевской премии.] говорил не раз, и ссылался на мало тогда известных у нас Ходжкина, Хаксли и Катца[13 - Ходжкин А., Хаксли Э. – английские физиологи, лауреаты Нобелевской премии; Катц Б. – английский биофизик, лаурет Нобелевской премии.], и на только входившего в моду на Западе Селье[14 - Селье Г. – канадский физиолог, лауреат Нобелевской премии.], которого у нас еще и в шестидесятые годы глупо поругивали, да плюс ко всему человек с принципами, не способный перестраиваться по каждой газетной передовой, неизбежно оказался персоной нон грата. Его громили в печати, на собраниях и конференциях, вначале довольно нерешительно, как бы между прочим, среди других упоминали и его имя, словно давая возможность оправдаться и покаяться. Но он оказался не из того теста, закваски старой, дореволюционной – не стал ни оправдываться, ни каяться. Совсем напротив, с упрямым благородством старого русского интеллигента, для которого важнее всего в жизни честь и принципы, бросил вызов не только хулителям, но даже времени своему, и той беспощадной, неумолимой силе, что стояла у новых черносотенцев за спиной – носил на Лубянку передачи для товарища, с которым давно не был близок, разве что изредка, раз или два в году, играл партию в шахматы в Доме ученых. Не только в товарище тут заключалось дело, а в принципах и в долге, а это для Андрея Платоновича было превыше всего. Да и в самом его презрительном, до высокомерия, на английский манер, молчании – он оставался одинаково глух и к нападкам недругов, и к увещеваниям друзей, и так и не выступил ни разу – в этом тоже заключался вызов. И тогда его стали ругать злее, решительнее, напористее. Обвиняли, как и других, в низкопоклонстве перед Западом, в пренебрежении к идеям великого Павлова, в игнорировании учения об условных рефлексах при изучении природы аритмий, и даже, разъярённые его непокорным молчанием, стали распускать слухи, будто Андрей Платонович присвоил работы своего великого учителя. (Андрей Платонович почти полтора десятка лет проработал в лаборатории Ивана Петровича Павлова). Вот тут-то, на очередной сессии, среди грома ложных обвинений и шепота притворного раскаяния, среди сведения счетов, страха и злобного торжества неправды, Андрей Платонович, наконец, выступил, да так, словно нарочно петлю на шее своей затягивал. Заявил, что учение Павлова есть скорее начало, промежуточный этап, чем высшая и последняя ступень физиологии высшей нервной деятельности, лишь открытие и тщательнейшее феноменологическое описание, но никак не окончательная расшифровка феномена условных рефлексов, и что теперь самое время не бить в литавры, а изучать, опираясь на новейшую технику, клеточные механизмы высшей нервной деятельности, и что тут мы серьёзно отстали, и потому не вредно бы присмотреться к работам учёных Запада. И закончил уж совсем не ко времени:
– Иван Петрович был так велик, что сегодня многочисленные научные ничтожества вольготно чувствуют себя под его шапкой. Они воображают, будто наука делается голосовыми связками. Кто громче кричит и предает анафеме, тот и прав. Так вот я, старый русский учёный и ученик Ивана Петровича, утверждаю, что академик Павлов никогда не одобрил бы эту инквизиторскую кампанию, ибо истина меньше всего нуждается в шельмовании или славословье. Наука и будущее этого не простят! – и, не замечая образовавшуюся вокруг него трусливую пустоту, неторопливо отправился в гардероб, не пожелав даже присутствовать на сессии до конца.
Эту свою речь Андрей Платонович считал своим завещанием. На следующий день, не дожидаясь, пока его уволят, он, как когда-то его учитель, подал прошение об отставке с подробным изложением причин. Несколько лет, каждый день ожидая ареста, он нигде не работал, только размышлял целыми днями и читал журналы, но мысли физиолога, как известно, нуждаются в экспериментальной проверке, так что можно считать, что годы эти были потеряны для науки. Но арест не состоялся – то ли из-за почтенных лет Андрею Платоновичу предоставили возможность умереть дома, то ли потому, что он был хорошо известен на Западе. А потом, к счастью, умер Сталин.
Горизонт начинал слегка проясняться и, года через полтора после торжественных похорон, Андрей Платонович, всё ещё полный сил, устроился руководителем группы в скромном, ничем не примечательном НИИ. Там теперь он и работал, имея под своим руководством лишь трех научных сотрудников, одного аспиранта, да еще бессменную свою помощницу Галину Ивановну, завхоза и секретаршу в одном лице. Правда, коллектив оказался на редкость дружный, сотрудники – старательными и способными, так что маленькая группа Андрея Платоновича стоила иного большого отдела. И все-таки дело, которому он посвятил полжизни, продвигалось вперед очень медленно. К тому же, в последние годы и у нас, и за рубежом были получены многочисленные новые факты, которые с позиции теории профессора Бессеменова нельзя было объяснить. Андрею Платоновичу становилось ясно, что его теория нуждается в существенном пересмотре и дополнении, а для этого нужны были новые эксперименты. Много экспериментов. А у него – лишь маленькая группа.
Теперь Андрей Платонович нередко спрашивал себя: а может, стоило тогда уступить, выступить с самокритикой, покаяться, как каялись другие, глядишь, его оставили бы в покое. Ведь несколько лет, отнятых у науки, и потерянный навсегда отдел, им самим ещё до войны созданный – такова была цена за один, единственный, незабвенный миг свободы, когда уже и страх прошел, и жизнь как будто кончилась, а только звон в ушах, колокола и вечность, и он, как на краю обрыва, на трибуне, и головою вниз летит, и знает, что разбиться должен, но парит в восторге. Он – Человек! Не тварь дрожащая! Не раб!
Всю юность эту храбрость он в себе вынашивал, Брутом себя воображал, Бакуниным и Кропоткиным, о баррикадах мечтал, хоть и был слаб грудью. И февраль семнадцатого – зарю свободы, как восторженный мальчишка, принял: голова кружилась, рукоплескал и плакал, незнакомых целовал, ведь все – товарищи, Равенство и Братство, и сам, как одержимый, на столб взобрался, пел «Марсельезу». И это было, сидело в нём все годы страха, и вот опять, семидесятилетним, всё тот же мальчик с гвоздикою в петлице, все тот же Брут, Бакунин и Кропоткин, тираноборец с молодых ногтей. Тут рассудок не судья, расчёт не годен, и те, кто осуждали и жалели, не могли понять его порыв, быть может, даже считали сумасшедшим – те просто не изжили рабство. А ведь многие – фронтовики, пуль не боялись, смерти заглядывали в лицо. Но он не жалел никогда, даже от каждого стука вздрагивая, а если и жалел, и стыдился, так только страха, не до конца избытого. Тут была натура, второе «Я», десятилетиями молчавшее, но живое, кровь отца-народовольца, и потому, если бы всё повторилось снова, и существовал выбор, он снова поступил бы точно так же. Так Андрей Платонович отвечал себе, и так он чувствовал.
И теперь ему оставалось лишь одно – работать, успеть, что ещё возможно, искупить трудом потерянные годы. И он работал, и торопился, и гнал себя, забыв о здоровье, и о возрасте. Это был его последний долг, последнее, что связывало его с жизнью.
Разговор с Андреем Платоновичем происходил в самом начале шестидесятого года и имел свою предысторию. Директор «Института Сердца», Евгений Александрович Постников, благосклонно отнёсся к идее Евгении Марковны, тогда тридцатидевятилетней новоиспеченной докторицы наук, о создании новой лаборатории. Ему импонировали и эта молодая, красивая, уверенная в себе женщина, и её оригинальная новая концепция. Институт был относительно молод, возник вскоре после войны, но среди профессоров преобладали люди почтенного возраста, с громкими именами и многочисленными заслугами, однако, увы, лучшие их годы остались далеко позади. И потому Постников надеялся, что молодая, энергичная и честолюбивая Евгения Марковна, к тому же ученица и протеже быстро набиравшего силу члена-корреспондента Головина, со своими смелыми планами и оригинальными идеями сможет внести в застойную жизнь Института освежающую струю. При этом, и самому Евгению Александровичу приятно было оказаться причастным к рождению и утверждению новой концепции аритмий, так как он, хоть и считался крупным клиницистом, и человеком, несомненно, незаурядного ума, вовсе не был лишён тщеславия, и весьма распространенной в научной среде жадности – обожал, когда под статьями и монографиями, выходившими из его Института, первой стояла его собственная фамилия. Но, как клиницист, Евгений Александрович чувствовал себя не слишком уютно в заумных спорах экспериментаторов: мембранная теория, лежавшая в их основе, была для него внове, да, честно говоря, не очень-то ему и требовалась – лечение, независимо от патогенеза разных аритмий, оставалось одним и тем же. И потому Постников вовсе не стремился возлагать на себя всю ответственность за создание новой лаборатории. Он твердо обещал добиться положительного решения в Академии лишь при непременном условии: профессор Бессеменов, признанный авторитет в данной области, должен был одобрить планы Евгении Марковны.
Но Евгении Марковне даже страшно было подумать о разговоре с Андреем Платоновичем. Дело заключалось не только в том, что её гипотеза противоречила теории профессора Бессеменова. Пожалуй, сколько бы она ни храбрилась и не убеждала себя, что именно Андрей Платонович заблудился в море фактов, а она, непредвзято и прозорливо взглянув на проблему со стороны, сразу отыскала единственно верную разгадку, в глубине души Евгения Марковна испытывала страх и тайные сомнения, так что иногда даже сама себе казалась авантюристкой. Вот из-за этих комплексов ей и не хотелось обращаться за помощью к Бессеменову, и она невольно испытывала к нему неприязнь.
– Нет, пусть выступит кто угодно другой, только не Бессеменов. Он всё погубит, – голос у Евгении Марковны даже прервался от испуга. И тут же, чтобы скрыть причину своего замешательства, добавила торопливо, – Моя гипотеза противоречит его теории.