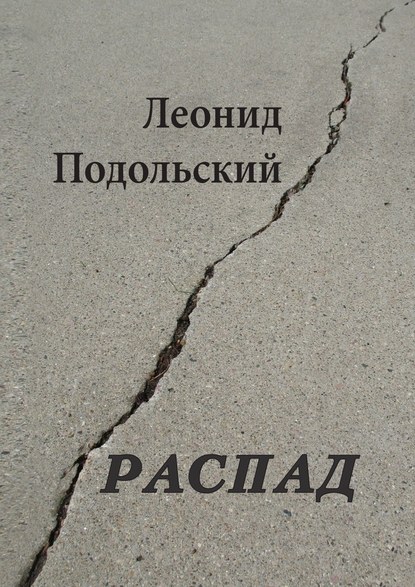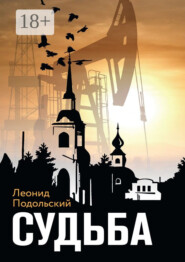По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Распад
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К родственникам Евгения Марковна никаких чувств не испытывала – это были чужие люди из чужой, далекой ей жизни. Чаще других бывал у неё дядя Гриша – старомодный провинциальный учитель в давно вышедших из моды очках, в неизменном, пахнувшем нафталином черном костюме, лоснящемся галстуке и старых туфлях. В Москве этот дядя Гриша в основном безуспешно ходил по редакциям (в самом этом хождении Евгении Марковне казалось что-то унизительное), и с неожиданной для него навязчивостью, ибо вообще-то он был человеком скромным, заставлял Евгению Марковну читать свои опусы. Мечты о литературной славе много лет назад лишили Григория Наумовича покоя, и он, вместо того, чтобы давать частные уроки в свободное от работы время, а был он учителем русского языка и литературы, не разгибаясь сидел за столом и писал. Писал он почему-то про фабрику, на которой никогда не работал, его герои и героини с ущербной однобокостью мечтали только о том, как бы выиграть соцсоревнование, и без конца боролись и побеждали бюрократа-директора и нескольких злостных прогульщиков, чтобы в следующем опусе начать все сначала. Чтение творений Григория Наумовича вызывало у Евгении Марковны чувство физической тошноты и неловкости. Она никак не могла постичь, как человек, с таким неразвитым вкусом и примитивным пониманием литературы, мог тридцать пять лет преподавать в школе, и чему, кроме отвращения к отечественным писателям, мог этот догматик от литературы научить своих учеников. Но факт оставался фактом – Григорий Наумович считался лучшим педагогом в школе, и ему из года в год поручали выпускные классы.
Сам Григорий Наумович был уверен, что пишет о том, что требуется, причем не хуже других, и что раньше или позже его обязательно напечатают, причём не только в их местном литературном альманахе, где очередь была на десять лет вперед, но обязательно в каком-нибудь центральном журнале. В качестве доказательства он выкладывал толстую пачку пронумерованных писем из редакций всех толстых журналов: рецензенты, словно сговорившись, вежливо журили его за отдельные художественные промахи, советовали как следует переработать материал и в один голос одобряли его активную гражданскую позицию и актуальность избранной им темы в свете очередных решений. Эти вежливые и ничего не значащие письма воспламеняли в Григории Наумовиче медленно угасавшие надежды и он, воспрянув духом, в очередной раз перекраивал свои творения, тщательно подгонял к каждому новому почину, о котором читал в газетах, и снова и снова приезжал в Москву, чтобы пол-отпуска проходить по редакциям.
Вместе с Григорием Наумовичем приезжала и его образцово-показательная жена Малка – крикливая, толстая, с астматической одышкой. Она одна никогда не сомневалась в таланте Григория Наумовича, самозабвенно следила за его диетой, ежедневно ходила в магазин и на рынок и, пока её талантливый супруг витал в эмпиреях, тяжело пыхтя, задыхаясь, грузно переваливаясь на отёчных ногах, без всяких такси таскалась из конца в конец по сумасшедшим московским универмагам, доставала «трапки» для всех своих ближних и дальних родственников, пока хватало сил и денег, а потом разбитая, с мокрым платком на голове (давление прыгало за двести), с оханьем и вздохами лежала на диване, проклиная и эту треклятую, бешеную Москву, и проклятый дефицит, и нахалов-родственников, которым всем что-то нужно, и торжественно клялась, что ноги её больше в Москве не будет, а в промежутке между вздохами завистливо, хотя и без злобы, разглядывала мебель, книги в дорогих переплётах, и особенно японский, китайский и мейсенский фарфор, богемский хрусталь и столовое серебро. Всё это добро стояло нетронутым после смерти мужа Евгении Марковны Григория Ильича.
Григорий Ильич, согласно его собственным рассказам, преставал в прошлом могучей лавиной, неудержимым вихрем, огнедышащим вулканом, Дон-Жуаном и Казановой в одном лице, прекрасным, как Аполлон, но с мышцами и чреслами Геракла. Женщины сходили по нему с ума и приносили в дар молодость, целомудрие и рассудок, он же боготворил их всех, и для каждой доставало ему и страсти, и ласки, и нежных слов. За бурную жизнь до Евгении Марковны он сменил три жены, а возлюбленных и любовниц – Григорий Ильич давно сбился со счета, потому что любил женщин не меньше, чем предок его, легендарный царь Давид (не верите – как хотите, попробуйте доказать обратное).
Первая жена его была еврейка с библейским именем Юдифь – нежная, благоухающая, с бархатной тёплой кожей и глазами, похожими на миндаль. Была она невелика ростом, с широким тазом, предназначенным для обожания и родов, и маленькими мягкими грудями, будто двойня газели.
Вторая жена была кореянка Роза – смешливая Чио-Чио-Сан, с раскосыми глазами, прекрасная и манящая, как восход. Волосы её пахли свежестью и лавандой, а щечки, смуглые и нежные, были как спелые персики. Никого он так не любил как Розу, и не было ей равных в любви.
Третья жена Григория Ильича была полька – гордая и неприступная, будто королева, с лицом, словно из тёплого, белого мрамора, с небесной голубизной в глазах, и со светлыми, как лён, волосами. Была она так неприступна, что Григорий Ильич едва не умер у её ног – не помогали ни цветы, ни нежные слова, ни стихи Соломона, ни рубаи Хайяма, ни серебряные китайские ожерелья. Чтобы покорить неприступное сердце Кристины, пришлось Григорию Ильичу выучить наизусть Мицкевича, а в помощь ему призвал он бриллиантовое ожерелье, и вазу из китайского фарфора, и Мариацкий собор из чистого серебра в миниатюре, и много чего ещё. В конце концов, Кристина сдалась, но любовь их, увы, была недолгой.
Имелось у Григория Ильича четыре сына и одна дочь от любимой жены – кореянки, и её он любил больше всех на свете.
Много лет Григорий Ильич служил директором комиссионного магазина, и так как в торговле отличался такой же предприимчивостью, умением и неудержимостью, как в любви, стал богат, как Крёз. Но и этого мало – Григорий Ильич был еще галантен, красноречив и изыскан, превыше всего ценил умную беседу, гривуазную шутку, лёгкое вино, утончённые и обильные яства, и, хотя стал немолод, ничто так не ценил, как общество красивых женщин.
Но это все в рассказах, будто из «Тысячи и одной ночи», а в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году, когда Евгения Марковна повстречала его на водах в Кисловодске, лучшие годы Григория Ильича оставались далеко позади. От блистательного прошлого он сохранил лишь привычку к утончённому гурманству, куртуазность манер, и невообразимое в советской стране богатство. Страсти в нём уже начинали угасать, из неотразимого бонвивана он неуклонно превращался в философа, умеющего наслаждаться созерцанием с тем же пылом, с каким прежде наслаждался обладанием, а его единственной настоящей страстью всё больше становилось коллекционирование. Тут ему, пожалуй, не существовало равных, потому что в коллекционировании он был так же удачлив и ненасытен, как в лучшие свои годы – в любви. Собирал он сразу и хрусталь, и фарфор, и бронзу, и старинные книги, и иконы, и картины, особенно же предпочитал обещающие солидные дивиденды в будущем полотна модернистов.
В Кисловодске Григорий Ильич лечился водами от начинающегося ожирения и одышки. Познакомившись с Евгенией Марковной, он принялся ухаживать за ней с таким размахом и пылом, какой трудно было заподозрить в этом преждевременно обрюзгшем, грузном человеке. И, странное дело, она была выбита из колеи, потеряла голову, и скоро уже не могла, то есть, конечно, могла, но не хотела жить без его утонченной галантности, без стихов, музыки, цветистых комплиментов, без запаха французских духов и дорогого коньяка, без огромных букетов, подарков и бешеной, так что сердце замирало, езды на чуть ли не единственном в первопрестольной «Мерседесе». К тому же холодная, отданная науке и несбыточным мечтам молодость и одиночество жестоко мстили за себя. А он, Григорий Ильич, был будто волшебник, всё что угодно умел достать из-под земли, и именно с ним Евгения Марковна поняла, что браки воистину совершаются на небесах. Это был трогательный и нежный Союз Торговли и Науки, которым Григорий Ильич чрезвычайно гордился, ведь, хотя все три предыдущих его жены слыли невообразимыми красавицами, ни одна из них не была доктором наук. Несмотря на годы и на некоторую тучность, Григорий Ильич всё ещё был могуч, он только с виду казался потухшим вулканом. Их ночи были полны блаженства, а дни – дружбы и умиротворения, так не достававшего раньше им обоим. Любовь к своей прекрасной даме Григорий Ильич ознаменовал подвигом, перед которым бледнеют подвиги легендарного Геракла – он в месяц обменял две их квартиры на огромную четырехкомнатную, на проспекте Вернадского, да еще провернул ремонт, превратив запущенные Авгиевы конюшни в поистине царские чертоги.
К чести Григория Ильича надо сказать, что он был столь же преданным и любящим отцом, сколь неверным в прошлом мужем и любовником, и потому, вновь возлагая на себя ласковые узы Гименея, он щедро одарил детей, и написал в их пользу завещание. Это завещание, высокая должность Евгении Марковны, и отсутствие у неё собственных наследников, в известной мере примирили с ней не только многочисленных потомков Григория Ильича, но даже его бывших жён, так что Евгения Марковна даже иногда перезванивалась с ними по праздникам.
Но, увы, всему бывает свой предел, а счастье, или хотя бы обыкновенная удовлетворённость жизнью, особенно скоротечны. Так случилось и с Евгенией Марковной – Григорий Ильич лишь промелькнул кометой и исчез, оставив по себе золотой хвост. То ли слишком бурное прошлое, давняя привычка к гурманству, излишества любви, или жестокая ревизия на работе, а возможно и банальный склероз коронарных артерий, или всё вместе (о причинах оставалось лишь гадать), но семь лет спустя после вступления в четвёртый законный брак Григорий Ильич внезапно скончался от инфаркта, оставив Евгении Марковне на память несколько хрустальных ваз, китайских и мейсенских блюд, два японских сервиза, несколько десятков фарфоровых статуэток, бронзового воина, несколько картин на стенах, и дачу под Москвой, а также фотографию в черной раме на стене над давно онемевшим беккеровским пианино из Германии, потому что играть Евгения Марковна не любила.
Ровно год спустя после смерти Григория Ильича, незадолго до памятной поездки в Варшаву, Малка в последний раз жадными глазами смотрела на мебель, на картины и фарфор, вздыхала – жалела Григория Ильича, говорила о его благородстве, и всё пыталась сосватать Евгению Марковну за своего брата, старого вдовца, служившего где-то в провинции бухгалтером. Но Евгения Марковна, из высокомерия и упрямства наотрез отказалась с ним знакомиться.
Потом и Григорий Наумович с Малкой перестанут приезжать, только станут присылать открытки к праздникам – жаловаться на жизнь, на старость и болезни. Эти открытки всегда будут нагонять на Евгению Марковну тоску. Хотя, возможно, дело вовсе не в открытках – просто Григорий Наумович всегда рассчитывал так точно, что открытки прибывали непременно в праздничные дни, а в праздники Евгения Марковна особенно остро ощущала свое одиночество.
Но тогда, в Варшаве, за исключением эпизода в «Смыке», Евгения Марковна чувствовала себя почти счастливой. В чужом городе, среди чужих людей она не испытывала одиночества, здесь никто ничего о ней не знал, для всех она была преуспевающей иностранкой, известным профессором из Советского Союза. К тому же все заботы сразу отступили, остались в Москве, и она превратилась в молоденькую любознательную туристку, открывательницу другого мира. Без труда Евгения Марковна выделила два дня, чтобы съездить в Торунь – старый город, уцелевший во время войны, со средневековым центром, узкими улочками, Ратушей и старинными костёлами, и в Мальборк, когда-то построенный крестоносцами. В Мальборк она решилась поехать не сразу, несмотря на уговоры знакомого доцента-поляка, любителя истории и старины – боялась ненужных воспоминаний, возвращения в прошлое, в последний год войны. Тогда, несмотря ни на что, – ни на смерти, ни на кровь вокруг, ни на стоны раненых, – Женя была счастлива, ведь она любила (любила ли?) и была любима, и с каждым днём приближалась победа…
…Весной сорок пятого Женя впервые услышала это название: Мальборк. Борис получил письмо от матери – неровные буквы прыгали и падали, чернила расплылись от слез. Мать Бориса сообщала, что под этим самым Мальборком погиб его младший брат, Давид. В этот день, вернее, наступил уже вечер, они бродили среди тёмных, иссечённых снарядами, с изломанными ветками и торчащими из коры осколками, но всё же буйно зеленеющих аллей, и Борис всё вспоминал и вспоминал, какой был Давид, красивый, умный, смелый, и как все его любили. Потом он остановился, вытащил из внутреннего кармана гимнастёрки темноватую, полулюбительскую, с неровными краями фотографию. Женя видела её не раз – там они позировали все втроём: Борис, Давид и Аркадий, погибший под Сталинградом, вместе с родителями. Борис был похож на мать, высокий, с крупными и правильными, как у неё, чертами, а Давид и Аркадий – на отца: худощавые, длинноносые мальчики, с мечтательными серыми глазами, и слегка оттопыренными ушами.
– Не знаю, как мама перенесёт. Она Давида больше всех любила. Он был самый младший. Огонь, красавчик, чуть в восемнадцать лет не женился, – в глазах у Бориса стояли слёзы, и он всё говорил, как будто, пока он говорил, Давид всё ещё был жив, пусть хотя бы лишь в воспоминаниях.
Городок, где они тогда стояли, тоже в Польше, только значительно южнее, был полуразрушен. Среди сохранившихся, со следами пуль и осколков, домов, с выбитыми, заколоченными окнами, стояли голые, обгоревшие деревья, и тянулись к небу страшными призраками печные трубы. И Мальборк представлялся Жене таким же маленьким, наполовину деревянным, полусожжённым и пустынным. Однако сейчас в Мальборке ничто не напоминало о последней войне, словно он никогда не был разрушен, и словно бы сорок пять дней и ночей подряд не крошили старый, потемневший от времени кирпич советские орудия, выбивая из замка засевших там фашистов. Но всё было уже восстановлено – всё те же мощные стены в два метра толщиной, ворота на цепях, бойницы, могучие башни, внутренний дворик, и снова могучие стены арсенала – замок, по-прежнему, поражал воображение.
И только уже в поезде, едва закончилась посадочная суета, – а суета и толкотня были ужасные, так что Евгения Mapковна едва не уехала без своих чемоданов – и застучали колеса, в ней вдруг снова, как в «Смыке», возникла неясная тревога – в груди что-то проваливалось и дребезжало, но это было не сердце. И по мере того как приближалась граница, тревога всё больше нарастала. Евгения Марковна, пытаясь отыскать причину, час за часом перебрала все две недели своей командировки, но в Польше всё было хорошо, она замечательно отдохнула и попутешествовала, несколько дней великолепно провела в Кракове и съездила в Ченстохов. Нет, причина тревоги находилась не в Польше. И тогда, всё глубже роясь в себе, она откопала в подсознании: ей не хотелось возвращаться в пустую одинокую квартиру с непонятными, холодными картинами. Не хотелось идти на работу – там она, в сущности, никому не нужна, и всё идёт вовсе не так, как надо, совсем не так, как она мечтала, и она это знает, и все знают, но ничего уже изменить нельзя, потому что нельзя так просто взять и переиграть прошлое. И начать всё сначала невозможно, и нет уже ни времени, ни сил. А если бы и было время, если бы можно было перевести стрелки назад, в любом случае всё пошло бы точно так же, потому что она не умеет иначе. Каждый человек, как часы, имеет свой завод, а её часы поломались, и давно идут кое-как. И нет нигде такого мастера, кто мог бы перевести часы… Или исправить… И теперь ей только и осталось играть свою роль до конца.
Дома Евгения Марковна приняла ванну, потом долго сидела перед зеркалом – закручивала волосы, выщипывала брови, примеряла привезённые из Польши обновы, и с трудом обретала потерянное равновесие. Утром, как всегда, она вышла из квартиры, приветливо улыбаясь – эта улыбка, воплощавшая успех, давно была ею заучена, – и, шествуя так же легко (за походкой она следила особо), как тридцать пять лет назад, день в день, дата эта отчего-то запомнилась, когда она шла в парк Культуры на свидание с Колей, и на ней были лёгкие белые туфли и ситцевое платье, а навстречу шли мужчины и улыбались, и оглядывались ей вслед. И вот сейчас, будто ничего не изменилось за прошедшие годы, роскошное, улыбающееся, в кожаном пальто (кожа только входила в моду), в золотых серьгах с изумрудами, с золотыми кольцами на руках, чуть полноватое, но по-прежнему удивительно привлекательное, так что все по-прежнему оглядывались, воплощение успеха вошло в лифт, спустилось на первый этаж и вышло из подъезда.
Вдруг чёрный кот, выгнув спину, в два прыжка выскочил из кустов на дорожку и промчался перед самыми её ногами. В груди тотчас снова заныло от нехорошего предчувствия, Евгении Марковне захотелось вернуться домой, закрыть дверь, никуда не выходить и никого не видеть, но нужно было идти. И неловко было плюнуть через левое плечо – прямо в спину смотрели сотни окон, шторы шевелились, и за многими из них, без сомнения, находились люди. К тому же, как назло, на скамейке рядом сидели три старушки. Мгновение поколебавшись, но не дольше, чем это было прилично, Евгения Марковна так же гордо и легко пошла дальше.
На работу она, как всегда, немного опоздала, и первое, что увидела, войдя в обширный, с колоннами, отделанными под мрамор, институтский вестибюль, был портрет Постникова в чёрной раме, а рядом двух напряжённо и неестественно стоящих в почётном карауле мэнээсов. Тотчас из канцелярии донеслись нестройные, траурные звуки труб – это настраивали свои инструменты музыканты.
– Боже мой. Нужно было сплюнуть, – мысль была явно суеверная и глупая, но отогнать её Евгения Марковна не могла. В ней снова возникло ощущение неотвратимой беды. – Что теперь будет? Кто станет директором? Только бы не Чудновский.
Но кто бы ни стал директором Института – это Евгения Марковна знала точно – никто не сделает для неё больше, чем Постников. Он в своё время даже пытался назначить её своим замом, так что несколько лет, пока наверху шла борьба, Евгения Марковна исполняла обязанности замдиректора, и только после злополучной статьи голландцев Евгений Александрович вынужден был отступить.
– А ведь сердце вещее, почувствовало ещё в Варшаве, – отметила про себя Евгения Марковна.
До траурного митинга оставалось часа полтора. Обменявшись положенными в таких случаях словами с несколькими встретившимися знакомыми, Евгения Марковна поспешно направилась к себе в отдел. Сотрудников, конечно, не было на местах. Все они собрались в биохимической у стола Юры Моисеева. Оттуда, сквозь незакрытую дверь, слышны были громкие, возбуждённые голоса, и выплывали густые кольца табачного дыма, которые закрывали, как стеной, говоривших. Обсуждали, естественно, последние события, и приход Евгении Марковны никто не заметил.
– Хотите пари, Юрий Борисович, кто будет новым директором? – возбуждённо предлагал Володя Веселов.
– Хорошо, семь к одному – за Чудновского против Лаврентьева, – соглашался Юрий Борисович.
– Юрий Борисович, да это же грабеж. У Лаврентьева, с тех пор как его поставили замом, рот не закрывается от улыбки. Из такого теста директора не делаются, – веско произнёс Игорь Белогородский. – Нашей, конечно, лучше Лаврентьев, но её не спросят. А Чудновский мигом наведет порядок. Выгонит всяких Шуховых.
– Как бы и нашу, тоже… – судя по голосу, Юрий Борисович улыбнулся. – У неё тут с Чудновскам однажды произошел инцидент…
Разговаривавшие замолчали и Евгения Марковна торопливо отошла от двери биохимической к своему кабинету, располагавшемуся напротив. Только тут она остановилась, потому что здесь её не могли заметить, и прислушалась.
– Она тут раньше его клевала, как могла, – на правах старожила перехватил у Юрия Борисовича инициативу инженер Волков. – Вот не пойму. Она вроде умная женщина, но отчего-то обожает шпынять людей. Без всякого смысла. То напустилась на покойного Бессеменова, выжила из-за него Кравченко. А то на конференции накинулась на Чудновского. Он весь взмок тогда из-за неё. Жалкий вид имел. А ведь если посмотреть, у самой-то рыльце всё в пуху…
– Притом у Чудновского работа была не хуже, чем у других, – перебил его Юра Моисеев. – Просто наша увлеклась. А уж если она увлечется… Тут раньше в институте работал профессор Варшавский. Так он, бывало, как начнет выступать, сразу всё на свете забывает. Как-то так увлёкся, что стал критиковать Постникова. А Постников этак элегантно, на английский манер, заснул, прямо как в палате лордов…
Это был старый институтский анекдот, давно вошедший в анналы местной истории. Он передавался от поколения к поколению, и при передаче давно произошла контаминация – на самом деле, Постников притворился спящим совсем не в тот раз. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения.
Профессор Маевская тихо открыла дверь кабинета и сердито плюхнулась в кресло. Разговор сотрудников окончательно вывел её из себя. Минут пятнадцать Евгения Марковна никак не могла собраться с мыслями. Наконец, слегка успокоившись, схватилась за телефон, чтобы позвонить Николаю Григорьевичу и узнать наверняка, кого прочат в директора в Академии. Но Николая Григорьевича Головина на месте не оказалось. Он уже выехал на похороны.
Было и в самом деле очень вероятно, что новым директором станет Чудновский, а это не предвещало Евгении Марковне ничего хорошего.
ГЛАВА 7
Евгений Васильевич Чудновский ныне в Институте не работал, хотя и оставался членом учёного совета. Почти пять лет он возглавлял Очень Важное Управление. Евгений Васильевич был человек практического ума, энергичный, пробивной, решительный, толковый организатор – когда-то он пришел в Институт ординатором к Постникову, но очень быстро вырос сначала до заведующего отделом, а потом и до заместителя директора по науке. В свое время это назначение попортило Евгении Марковне немало крови, потому что ко времени назначения Чудновского замом профессор Маевская находилась с ним в тайных контрах. К тому же, то был период её высочайшего взлета, ещё за несколько лет до статьи голландцев, когда она считалась ведущим патофизиологом-аритмологом, корифеем, законодателем и судьёй, и она сама втайне (впрочем, даже и не втайне, ведь говорила с Постниковым, и Николая Григорьевича просила похлопотать) мечтала о должности зама по науке. И, хоть и несбыточным казалось, втайне (вот это действительно, втайне, и об этом никогда, никому) подумывала о директорстве, ведь всякое могло произойти, а тут – всего лишь одна ступенька. Впрочем, хоть и ступенька, но размером в целый лестничный пролёт! Но это так, к слову. А тогда, пожалуй, даже и не от Постникова зависело, он и сам не очень-то хотел Чудновского. На Чудновского ему указали т а м. И потом Чудновский, пользуясь этой поддержкой (непонятно было, как он её добыл, но ведь добыл, в том сомневаться не приходилось), даже не очень считаясь с Постниковым, с кипучей энергией, что как острый нож директору, предложил реорганизацию Института. Этот его план опять-таки одобрен был в верхах, было принято решение о создании нескольких новых лабораторий, но дело, правда, так и не сдвинулось с места, потому что Постников, на словах соглашаясь с Чудновским, сколько мог, старался затормозить. Он ведь знал, что новые лаборатории будут против него, за Чудновского. И при первой же возможности поспешил избавиться от самого Евгения Васильевича, правда, так же деликатно и красиво, как всегда умел это делать, – рекомендовал своего слишком деятельного и нетерпеливого зама на оказавшееся вакантным место начальника этого самого Очень Важного Управления. После ухода Чудновского Евгений Александрович вздохнул было с облегчением, наслаждаясь собственным тонким ходом, как любуется хитроумный шахматный игрок, загнавший противника в ловушку. Однако победы не последовало. Чудновский продолжал незримо присутствовать в Институте, десятки крепких ниточек тянулись от него к членам учёного совета, он обо всём знал, всё умел предвидеть, и ни одно по-настоящему важное решение не принималось без его ведома и тайного одобрения.
В противовес Чудновскому Евгений Александрович замыслил было новую комбинацию: решился сделать своим заместителем профессора Маевскую. Это была его старая политика хитроумных противовесов, вариант английской «разделяй и властвуй», за многие годы отработанная Постниковым до блеска. Но, на сей раз, тонкий план директора не осуществился. Чудновский и здесь победил, воспрепятствовав утверждению Евгении Марковны. Почти три года она пробыла исполняющей обязанности. Сколько за это время потратила сил и нервов, сколько обивала порогов, пустила в ход все свои старые связи и, в первую очередь, Николая Григорьевича. Николай, впрочем, на сей раз вёл себя исключительно осторожно, но и Григорий Ильич, волшебник в своем роде, который умел всё, немало для неё постарался, даже пожертвовал кое-чем из антиквариата – и всё напрасно. Её так и не утвердили. Как утверждала потом сама Евгения Марковна – из-за пятого пункта и происков Чудновского, хотя, конечно, понимала, что тут всё было много серьёзней, слишком уж разные переплелись силы, да и главная ставка уже была видна – Институт, после Постникова, конечно. И силы эти, в конце концов, сошлись на устраивавшем всех безынициативном, аморфном канцеляристе Лаврентьеве. Хотя Лаврентьев оказался не так уж глуп. Чувствуя свою слабину, он сделал ставку на Чудновского.
Однако за последующие три года, с тех пор как Евгения Марковна получила отставку и должна была распроститься со своей мечтой, сложное уравнение упростилось: на доске оставалась лишь одна крупная фигура, и фигурой этой был Чудновский.
Столкновение с Чудновским произошло у Евгении Марковны года через два или три после её прихода в Институт. В ту пору Евгений Васильевич не был еще ни академиком, ни профессором, ни заведующим отделом или лабораторией – обыкновенным, не лучше, хотя и не хуже многих, старшим научным сотрудником, и никто не предсказывал ему головокружительную карьеру. Правда, Чудновский стал к тому времени секретарём парткома, но только потому, что другие отказались: в Институте секретари менялись относительно часто и особой роли не играли, так что Евгения Марковна в душе относилась к Чудновскому несколько свысока. Он казался ей выскочкой, и не без основания, а выскочек она недолюбливала. И вот, на научной сессии института (не могла же она предвидеть, кем в скором времени станет Чудновский), Евгения Марковна по-хулигански (да, да, именно по-хулигански, тут Постников был совершенно прав, и она даже не стала с ним спорить), раскритиковала в пух и прах его доклад. Доклад этот и в самом деле был не ахти какой, в нём не было ни четкой логики, ни методической цельности, а выводы, совершенно очевидно, притянуты за уши. Все это, конечно, так, но зачем же ей потребовалось огульно отвергать всю работу, тем более, что это была его докторская. К тому же не обошлось без колкостей и в адрес самого Чудновского.
О, боже, какой у него был тогда взгляд! Стоит только вспомнить – мороз дерёт по коже. Лицо – сплошная маска ярости, глаза сверкали по-волчьи, казалось, он готов был её задушить. Чудновский даже дышал тяжело и прерывисто, а руки ладони (она это очень хорошо помнит, Чудновский сидел в первом ряду, рядом с трибуной) непроизвольно сжимались в кулаки. Потом, когда она закончила свою пламенную речь, он тяжело поднялся, и нерешительно, боком, взошел на трибуну. В то время Чудновский ещё не умел (как потом, когда станет директором Института и начальником Очень Важного Управления) стоять на трибуне, словно Господь Бог, или, по меньшей мере, как Его представитель в Институте, засунув левую руку в карман, величественно и сурово сдвинув брови. И никто ещё тогда не вслушивался в его слова, напрягая слух, подавшись вперёд от внимания и усердия, будто сам божий глас исторгают его уста. И сам Чудновский не был в то время так уверен в себе, и не знал, что не может ошибаться, и что его устами говорит сама истина, и поэтому растерялся, лепетал что-то не очень убедительное, и, сам это почувствовав, пообещал внести в свою работу многочисленные исправления. Из-за этого афронта Евгению Васильевичу пришлось потом всё основательно переделывать, и защиту докторской отложить чуть ли не на два года.
Сам Чудновский об этом случае вслух никогда не вспоминал, но в Институте о нём говорили долго. С возвышением же Евгения Васильевича разговоры эти возобновились снова, обрастая немыслимыми подробностями. В самом фантастическом виде они достигали ушей Евгении Марковны, и, кто знает, быть может и Чудновского тоже, подливая масло в огонь его давней нелюбви.
Когда Чудновский стал замом по науке, Евгения Марковна начала подумывать о примирении, но он держался корректно и отчуждённо, и Евгении Марковне так и не удалось перешагнуть через воздвигнутую им стену. Потом Чудновский ушёл из Института, и гора свалилась у неё с плеч. Они так и расстались врагами, по крайней мере, Евгения Марковна ненавидела и боялась Чудновского, хотя за прошедшие после её выступления семь или восемь лет, они ни разу не сказали друг другу ни одного невежливого слова.
На траурном митинге Чудновский выступал вторым, сразу после президента Академии медицинских наук, и это было признаком вполне определённым и дурным. Но мало этого, его выступление оказалось к тому же очень обидным для Евгении Марковны. В траурной речи Чудновский говорил не только о Постникове, но и о главном его детище – Институте, цитадели науки и кузнице замечательных кадров, перечислил всех ближайших сподвижников покойного, стоявших у руля институтской науки, не забыл никого, даже Шухова, одну только Евгению Марковну не упомянул. Шёпот тотчас пробежал по траурным рядам – шептали, несомненно, о её опале. Только рядом с Евгенией Марковной всё было тихо, никто не сказал ни слова – это была зона отчуждения, вакуум, в котором ей впредь предстояло задыхаться, жить и страдать, и из которого уже не суждено было вырваться. Но профессор Маевская ещё не хотела в это верить, ещё надеялась на чудо, хотя и знала, что в жизни чудес не бывает, и потому отыскала взглядом Николая Григорьевича Головина. Он стоял рядом с президентом и Чудновским, почти у самого гроба, чуть склонив голову, и немигающим взглядом смотрел в пространство, в вечность, отстранённый от мелочной суетности бытия.
Едва все положенные речи были произнесены, и Лаврентьев объявил митинг закрытым, перед самым выносом гроба произошла заминка в дверях, – люди торопились выйти, чтобы занять места в автобусах. Николаю же Григорьевичу возраст и мысли о вечном не позволяли двигаться слишком быстро, и потому Евгении Марковне удалось перехватить его у двери. Они отошли чуть в сторону, пропуская бурлящий людской поток.
– Коля, уже решено? – одними губами спросила Евгения Марковна.
Николай Григорьевич понял её с полуслова и торопливо кивнул головой.
– Постарайся наладить с ним отношения, – на одно мгновение сочувствие мелькнуло в его взгляде, но тут же он отвернулся, и слишком торопливо попрощался. В этой его поспешности заключалось что-то нехорошее, даже трусливое, как и в том, что Николай не предложил ей место в автомобиле.