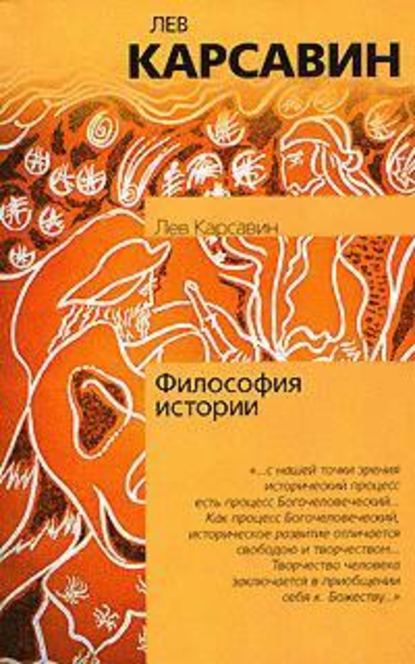По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тысячи наивных коммунистов, не получивших высшего образования и даже не закончивших среднего («были заняты партийной работой»), воспитанных на пятикопеечных брошюрках и «партийной литературе», искренно верили в то, что, закрывая рынки и «уничтожая капитал», они вводят социализм. Я уверен, что подобных же взглядов держались коммунисты вроде Зиновьева и «коммунистические ученые» вроде Бухарина. Видимо, и таким как Ленин, убедительными и «научными» казались их прогнозы и формулы, близким – наступление коммунистического рая. Многие и после введения новой экономической политики толковали о том, как создать вокруг нее «социалистическое окружение». Громкие слова о том, что настоящего коммунизма никто вводить и не думал, свидетельствуют или о бесстыдном лицемерии или об очень короткой памяти. В коммунистическое царство, как и в общеевропейскую революцию верили (частью еще и верят) и коммунистические толпы и коммунистические «вожди». Но одно дело вера и объяснение идеями веры своих действий, другое – сами эти действия и подлинные их мотивы. Без веры в социализм призывы вождей никого бы не увлекли, и только наивная, нелепая вера могла зажечь всех, кто являлся энтузиастом лучшего будущего для человечества, но по малограмотности своей в состоянии был мыслить это будущее только в рамках коммунистической идеологии и пролетарской логики. Без веры и энтузиазма нельзя было организовать армию и партию, закрывать рынки, бороться с анархией, с «белыми» и внешними врагами. Если вожди не верили сами в немедленный социализм, необходимо предположить в них нечеловеческое лукавство и гениальную прозорливость. Если они верили, это лишний раз свидетельствует о том, что они в руках истории – ничтожные пешки, и вполне согласуется с отрицанием роли личности в истории.
Можно с разных сторон подходить к большевизму. Здесь я остановлюсь лишь на одной. По существу своему политика большевиков была если и не лучшим, то, во всяком случае, достаточным и, при данных условиях, может быть, единственно пригодным средством для сохранения русской государственности и культуры. Они уничтожали «бар» и живших по-барски, носителей культуры. – Они ли? Не являются ли большевики лишь организаторами стихийной ненависти и воли темных масс? Большевики были беспощадны и бессмысленно жестоки, но, может быть, только благодаря им не произошло поголовного истребления культурных слоев русского общества; может быть, они скорее ослабили, чем усилили порыв стихии, обоснованием и оправданием ненависти ввели ее в некоторое русло. Почему то, что с таким успехом принимается для объяснения политики Дантона во время сентябрьских убийств, оказывается неприменимым для истолкования политики большевиков? Если мы не рационализируем действительности, нам нет никакой надобности предполагать, будто указанные сейчас мотивы осознавались большевиками. Ведь уже сама идея «революционной законности» не что иное, как самоограничение ненависти.
Большевики лишь приклеивали коммунистические ярлычки к стихийному, увлекавшему их, говорившему и в них течению. Они лишь понятным темному народу языком идеологически обосновывали его дикую разрушительную волю. Оттого-то и смешались в одну кучу капиталист и литератор, офицер и интеллигент. Мы склонны понимать экономическую политику большевиков как нелепое и неудачное насаждение ими социализма. Но разве нет непрерывной связи этой политики с экономическими мерами последних царских министров, с программою того же Риттиха? Возможно ли было в стране с бегущей по всем дорогам армией, с разрушающимся транспортом, в стране, раздираемой гражданскою войною, спасти города от абсолютного голода иначе, как реквизируя и распределяя, грабя банки, магазины, рынки, прекращая свободную торговлю? Даже этими героическими средствами достигалось спасение от голодной смерти только части городского населения и вместе с ним правительственного аппарата: другая часть вымирала. И можно ли было заставить работать необходимый для всей этой политики аппарат – матросов, красноармейцев, юнцов-революционеров – иначе, как с помощью понятных и давно знакомых им по социалистической пропаганде лозунгов? Аппарат действовал очень плохо; это было неизбежным: он был составлен из людей, приемлемых для народа, обладавших волей к власти, но неумелых, тогда как старый, при всех своих достоинствах, оказался неприемлемым. Осуществляемые меры вели к истреблению посредством голода. Но не будь их, голод был бы сильнее и убедительнее; при наличии их сам народ, уже помимо большевиков, выделил новый орган – мешочников, которым «поручил» провозить в города ровно столько товара, сколько необходимо было для спасения от голодной смерти обреченных жить. Свободная инициатива мешочников и несовершенства контрольного аппарата взаимно друг друга уравновешивали. – Опять, коммунистическая идеология оказалась полезною этикеткою для жестокой необходимости; анархия хозяйства раскрыла себя как осуществление социалистической системы. Выводы коммунистической науки совпадали с тем, что заставляла делать жизнь. Социально-политический строй России в 1918–1920 гг. был максимумом доступного для нее в этот период хозяйственного, социального и политического единства, наименьшим единством, т. е. элементарною и построенною на принуждении системою. Он исчерпывался рационалистической схемой, требовал насилия, учета, реквизиций и т. д. Его идеология точнее всего формулировалась идеологией большевистского коммунизма, а внутреннее существо его – воля великого народа – оставалось неуловимым. Ее, эту волю, нельзя было выразить: можно было лишь верить в нее или подменять ее большевистской. А для осуществления ее необходимо было или ее выразить или ее «подменить», т. е. выразить упрощенно. Попытка ограничиться верою, как показывает судьба Временного Правительства, была обречена на бесплодие. И не мудрено, что, плывя по течению, большевики воображали, будто вводят коммунизм; настолько воображали, что без нужды суетились и делали больше и хуже, чем требовалось. Закрывая в Вятке рынок, они переименовывали рыночную площадь в «Площадь борьбы со спекуляцией». Распределяя жалкие остатки продуктов, высчитывали их по калориям; выдавая ничтожное количество бумаги и перьев, несравненно больше того и другого изводили на квитанции и статистические записи, тем более, что «статистика» давно уже была одним из идолов русской полуинтеллигенции. Нуждаясь в насилии, переходили все границы в идеологии и практике террора. Много во всем этом было бессмысленного, дикого и жестокого. Много вреда было в коммунистической «организации хозяйства». Но все это было наростом над действительностью, «прибавочным злом» и, в конце концов, прикрасами и частностями, скрывавшими под собою реальную, неизбежную необходимость. Как только надобность в коммунистической политике миновала, так сейчас же она исчезла, а коммунистическая идеология изменилась – «немедленный социализм» потерял кредит и в массах и в среде самих коммунистов.
Большевизм, не совпадающий с коммунизмом, – индивидуализация некоторых стихийных стремлений русского народа, часто в виде деформированной западной идеологии. Наиболее полно и ярко выражает его большевистская партия. Не народ навязывает свою волю большевикам, и не большевики навязывают ему свою. Но народная воля индивидуализируется и в большевиках; в них осуществляются некоторые особенно существенные ее мотивы: жажда социального переустройства и даже социальной правды, инстинкты государственности и великодержавия.
За последнее время в заграничной русской прессе возмущаются тем, что большевики, несмотря на голод, вывозят русский хлеб. В этом лишний раз обнаруживается, что русский народ еще не вышел из состояния распада слагающих его индивидуальностей. За торгующими наворованным у русского народа добром и хлебом большевиками стоят группы спекулянтов, для которых, как и для многих советских служащих в России и еще более за границей, личный интерес выше общего. Психология большевиков, предпочитающих интересы коммунистического интернационала, а в некоторой (и немалой) мере даже интересы русской государственности и ее престиж в Европе интересам значительных групп населения, не ниже, а может быть, и выше морально, чем психология обогащающихся на деятельности большевиков лиц. Но обеим психологиям чуждо понимание обще-русского единства, ибо его еще нет. И совершенно необоснован моральный ригоризм каких-нибудь эмигрантов, мечтающих о полном сокрушении большевиков ценою иностранного вмешательства и уже заранее судящих и карающих всякого, кто замарал свою одежду соприкосновением с большевиками, а не спас ее белизны с помощью достойной Гомеровского героя быстроногости. Эта все та же психология, которая позволяет торговать русским хлебом, русскими землями, русским будущим.
Коммунистической идеологией большевизм не исчерпывается. Социализма в большевистском движении немногим больше, чем в самых яростных противниках социализма, отвергающих его на основании неудачно произведенного в России эксперимента. Коммунистическая идеология лежит в самом поверхностном слое исторического русского процесса. Ее назначение и влияние преувеличивать не следует. Коммунистические русские формулы родственны Разиновскому «сарынь на кичку». Правда, с другой стороны, в них находят себе неуклюжее выражение и некоторые основные религиозные идеалы и поиски русского народа; из чего, конечно, не следует, как умозаключал (?) из моих слов один недобросовестный и болезненно-самолюбивый критик (?), что это выражение адекватно выражаемому. В известном смысле даже коммунизм есть качествование русского народа, а следовательно, и качествование в нем высшей индивидуальности (§ 57).
62
Проблему влияния личности на другой исторический момент можно свести к частному ее случаю – к вопросу о влиянии конкретной личности (о роли личности в истории). Если удастся показать, что механическая связь неустановима даже между процессом и конкретным индивидуумом, a fortiori[82 - Тем более (лат.).] следует, что ее не установить и в применении к индивидуальностям коллективным, разграничить которые еще трудней (§§ 21, 22).
Характерным парадоксом историографии представляется мне тот факт, что историки, исходящие из категорий изменения и причинности (§ 2), более всего склонны отрицать значение и роль конкретной личности, в то же самое время приписывая решающее значение личностям коллективным – классам. Парадокс этот, разумеется, связан с пониманием индивидуумов в смысле вполне однородных атомов и – новая непоследовательность – с признанием индивидуальной физиономии за классом.
Чем, собственно говоря, отличен один индивидуум от другого? – Пространственными линиями своего тела, да еще, пожалуй, пространственною обособленностью того, «quod in os intrat, in ventrem vadit et in secessum emittitur».[83 - Что входит в уста, идет в желудок и в уединении должно извергаться (лат.).] Но для истории индивидуум важен не в качестве материальной величины, к тому же на почве теории всеединства, долженствуемой быть понятою существенно иначе. История подходит к индивидууму и рассматривает его со стороны духовно-душевной. А в качестве духовно-душевного существа личность связана не с абстрактным телом своим (телом данного мгновения времени), а и со всем так или иначе вступившим в «соприкосновение» с нею пространственно-материальным бытием, с целым раскрытия ее во времени и пространстве. Нельзя механически оторвать индивидуума от пространства и материи или загнать и замкнуть его в воображаемое, условное пространство. Дурная, хотя и удобная привычка считать тело индивидуума неизменным и неподвижным не может лежать в основе наших рассуждений. Преодолев же эту привычку, мы не находим средств для проведения между индивидуумами точных внешних границ. И как, действительно, провести грань между ними в любом «общем» восприятии какого-нибудь предмета, даже самого материального и определенного? Если мы допустим столько же восприятий, сколько дано воспринимающих индивидуумов и будем отвергать «общее», мы запутаемся в безнадежных противоречиях. И каким таким внешним способом сумеем мы в акте восприятия отделить «объективное» от «субъективного»? Все эти трудности станут еще яснее, когда от восприятий внешнего мира мы перейдем к проблеме знания.
Невозможность построить теорию взаимоотношений между индивидуальностями, исходя из предпосылки об их абсолютной разъединенности, по существу одинаково ясна и в том случае, если мы берем индивидуальности коллективные, и в том, если берем индивидуумов. Телесная обособленность (к тому же условно-конструируемая) индивидуума только сбивает историка с правильного пути и ставит его перед неразрешимыми в пределах теории истории метафизическими проблемами. Определяя же индивидуума изнутри, мы рассматриваем его, как стяженную в личном его моменте всеединую индивидуальность, т. е. так же, как и всякую коллективную личность.
Изучая какой-нибудь момент развития, одно из его индивидуализаций-качествований, например, – историю философии в Средние Века, мы понимаем философское мышление как некоторое единство, многообразно качествующее в учениях отдельных философов. Иногда мы характеризуем то либо иное течение философской мысли, даже не упоминая имен философов, во всяком случае – не останавливаясь на индивидуальных их особенностях. Так, например, обстоит дело с периодом философского развития от VIII до XII в., когда индивидуальные отличия почти покрываются понятием частной проблемы в системе общего мировоззрения. До известной степени подобное же понимание философского развития из его целого проявляется и в других областях истории философии, в частности – в некоторых построениях развития философии новоевропейской, в общей характеристике таких течений, как рационализм и эмпиризм, в попытках истолковать разные системы, как диалектически необходимые модусы одной и той же философской идеи. С большою, даже с чрезмерною последовательностью эта точка зрения проводилась, например, в лекциях проф. А. И. Введенского (§ 51).
В индивидуальном философском миросозерцании нельзя провести резкую грань между тем, что является необходимым раскрытием общей всему течению идеи, и тем, что представляет собою специфически индивидуальное. Первое неуловимо переходит во второе; второе само оказывается раскрытием первого. Общее отвлеченно не существует, и всякое философское миросозерцание по существу своему всегда индивидуально. Но индивидуальное всегда индивидуализация общего. И если индивидуальность философа достаточно ярка, если она незаурядна и достаточно отлична, описанный сейчас способ безличного понимания философского развития явно обнаруживает свою недостаточность. Историк вынужден отказаться от отвлеченно-систематического изложения по проблемам и обратиться к индивидуальным системам. Противоестественно и педантично излагать схоластику XII–XIII в., не излагая систем Ансельма Кентерберийского, Абеляра, Фомы Аквинского и др. Но отсюда вовсе не следует будто прежний, «общий» способ изложения неправилен. Он сохраняет себя в новом. Безличный (не только в изложении, но, до известной степени, и объективно, чем само изложение и мотивируется) поток философствования вдруг становится полнее, богаче, многоцветнее. Основные его тенденции сами начинают индивидуализироваться. Конкретно-потенциальное многоединство делается конкретно-актуальным, так что иногда утрачивается даже его единство, в свою очередь становясь потенциальным.
Качествование не предопределяет своих индивидуализаций и не является фактором по отношению к ним именно потому, что вне их оно не существует. Равным образом и личность не определяет качествования, как некоторая высшая ему сила. Принято говорить о решающем в истории новой философии значении Канта. Здесь перед нами, по-видимому, один из самых ярких примеров влияния личности на развитие философского процесса. Кант представляется мощным, определяющим развитие новой философии фактором. Без него – это кажется несомненным – она пошла бы иным путем.
Так ли? Историки философии прослеживают влияние Канта, из которого исходят великие идеалистические системы начала XIX в., к которому возвращаются со времен Ф. А. Ланге, которому придают иную форму сильные философские течения современности, с которым борются, т. е. отрицательно им себя определяют, другие течения XIX и XX в. Но что такое, по существу своему кантианство после Канта, от системы Фихте до системы Когена? – Каждый из примыкающих так или иначе к Канту философов исходит из некоторых установленных Кантом положений. Но он не просто принимает их на веру (впрочем, и это случается очень часто), а усматривает их истинность, т. е. успешно или неудачно – восходит к той же объективной Истине, которую созерцал Кант. Конечно, Кант ему помог, обратив его глаза к объективной Истине. Убежденный холостяк оказался искусным акушером. Но никто не в состоянии доказать, что, не будь Канта, наш философ не обратился бы за помощью к другой повивальной бабке. Еще менее вероятно, что, не найдя ее, он воздержался бы от акта рождения. Невозможно далее, доказать, что рожденный без помощи Канта ребенок обладал бы менее деформированной головкой, хотя и вероятно, что он во многом отличался бы от действительного. Несомненно, без влияния Канта, Фихте, Шеллинг и Гегель выдумали бы свою терминологию или даже свои, нарочито различные. И кто знает, было ли бы это хуже. Вероятно, впрочем, что место Канта попытался бы занять Гегель. Как ни велик философский гений Канта, он не с неба свалился, а рожден во чреве философии XVIII в., воспитан на Вольфе, Лейбнице, Юме, определен западно-европейскою религиозною культурой. Только на почве католически-протестантской религиозности могла возникнуть основная идея Канта – идея вещи в себе. И совсем не в том гениальность Канта, что он выдумал нечто принципиально новое.
Историки философии с чрезвычайным усердием изучают генезис критической философии. И в этом изучении вскрывается весьма любопытная вещь. Кант в основных своих идеях оказывается необходимым диалектическим «следствием» философии XVIII в. Всякий серьезно философствовавший в эту эпоху бродил вокруг основного замысла критической философии. В среде тогдашних философов, актуальных и потенциальных, было много возможных Кантов. Рано или поздно, но в эти именно годы должен был появиться на свет Божий Кант. Опасность для историка лежит не в том, что он не покажет необходимости Кантовой философии как раз на переломе XVIII и XIX веков, а в том, что он недооценит в ней индивидуального, специфически-Кантовского, и упростит и отвлеченно поймет процесс развития. Весь Кант подвергается опасности утонуть в потоке философской мысли, не оставив на поверхности ничего, кроме имени, которое философским значением не обладает.
Мы не в состоянии, по-видимому, определить: чем же, собственно, повлияла личность Канта на развитие философии, в каком отношении является она «фактором». Нам скажут: хотя бы в том, что Кант индивидуализировал потенциальную систему эпохи и тем сделал ее актуальною. Но где же начинается индивидуализация? Как отделить индивидуальное от общего? А возможно, что дело обстоит еще хуже. – Если мы примем во внимание не только философские идеи эпохи, но и характер ее философствования, едва ли покажется случайным тот факт, что философская мысль выражается почти исключительно в форме обширных и ярких индивидуальных систем и что за системою Канта сейчас же следуют не менее значительные системы Фихте, Шеллинга, Гегеля. Не случайно, конечно, и то, что вне их и после них средняя философская мысль ограничивает себя не раскрытием с других сторон той же основной интуиции, а усвоением сказанного ими. Сопоставляя философское развитие от Бруно до Гегеля и Шеллинга с философским развитием второй половины XIX и начала ХХ в., можно выдвинуть следующий тезис, который будет лишь применением к философскому развитию более общего тезиса, характеризующего западно-европейский культурный процесс в целом. – Состояние философской мысли в конце XVIII и начале XIX в. таково, что оно могло и должно было выразиться в одной объемлющей индивидуальной системе, которая бы послужила началом для нескольких других. Названная эпоха еще универсально-индивидуалистична, т. е. индивидуалистична с направленностью индивидуальности на универсальное. Философствующая личность еще вмещает и объемлет целое мира, и потому, что целое это недостаточно дифференцировано, и потому что личность направлена на него и ограничивает его рационально. Философствование всегда индивидуально, но в XVIII–XIX в. оно естественно выражается в объемлющей целое мира системе, тогда как позже, в XIX–XX в., уже утрачивает интерес к целому и бессильно его многообразие объять. В природе философствования XVIII–XIX в. заключен принцип выражения его в универсально-индивидуальной системе. Но это философствование ограничено в своей основной интуиции, т. е. во всех ее индивидуализациях, без которых оно эмпирически не существует. Таким образом, система Канта (как и всякая другая) не следствие философского развития и не фактор его. Она его типическое выражение, его индивидуализация. Проблема взаимовлияния, термины «причина», «фактор», «случайность» возникают лишь тогда, когда мы сопоставляем философский процесс вне Канта с Кантом вне философского процесса, т. е. когда теряем понимание того, что такое исторический момент, и находимся в царстве фикций.
В своем труде «Европа и французская революция» А. Сорель задает себе (по существу глубоко неисторический, исторически-наивный) вопрос, какою бы была политика Франции, если бы место Наполеона занял кто-нибудь другой, например, Ош (Hoche). Сорель приходит к любопытному выводу, что эта политика существенно не изменилась бы. Подобный же ответ возможен и во всех других аналогичных случаях. Если нам укажут на личную политику государя, Цезаря, Вильгельма II или Николая I, мы после ближайшего ознакомления с фактами, вынуждены будем признать, что в данных условиях личность, воспитанная в такой-то среде, выражающая волю таких-то групп и такого-то народа, иначе действовать не могла. Мы признаем также, что в эпоху Цезаря не случайностью, а необходимостью был захват власти гениальным и честолюбивым полководцем (недаром наряду с Цезарем стоят другие кандидаты в тираны), и что во Франции конца XVIII в. или в России начала XX властью могли обладать лишь слабые и в слабости своей типичные для своего времени люди. Раз став на почву причинного объяснения, мы уже не вправе отделить политического деятеля от его среды и не принимать во внимание воздействующих на него людей и групп и руководящих им мотивов.
Вопрос о роли личности в истории в тех категориях, в каких он ставится, неразрешим, чем и объясняется бесплодность вызываемых им споров. Он неправильно поставлен, предполагает атомизированность исторической действительности и применимость к ней измерения и эксперимента. Личность характерна, показательна, типична для выражаемой ею эпохи, народа, групп. Для той либо иной эпохи характерно выражение ее в ярких или «безличных» индивидуальностях, «рассеянность» ее актуализации или концентрированность в личностях. Неизбежно «обезличивание» культуры с переходом ее от органического периода развития к систематическому (§§ 37, 26). Но говорить о роли личности в смысле причинного ее влияния на другие или на исторический процесс и неправильно и, как показывает развитие историографии, бесполезно.
Во всех объяснениях воздействия личности на другие личности и на исторический процесс никогда не устанавливают точной границы между личностью и тем, с чем она взаимодействует. Содержание личности в сознании исследователя постоянно меняется. Одна и та же идея, один и тот же мотив относятся то на долю личности, то на долю воздействующих на нее личностей и групп, т. е. на долю высших личностей. И дело тут не в небрежности или невнимании исследователя, а в том, что содержание личности неопределимо, ибо личность – индивидуализация всеединой высшей личности, от нее в индивидуальных чертах своих резко не отграничиваемая (§ 21). Содержание личности определяется всегда условно, и в познании личности никогда мы не исходим из содержания конкретного индивидуума, тем более, что оно в пределах стяженного знания неопределимо, как ограниченно-индивидуальное. Практически в спорах о влиянии данной личности на исторический процесс граница между ею-ограниченною и ею-высшею все время меняется. Достаточно указать, что данная личность влияла на процесс таким-то своим качествованием, как сейчас сам собою появляется и ответ: это качествование данной личности обусловлено и вызвано таким-то воздействием другой, т. е. в конце концов, – является одною из индивидуализации высшей личности.
При обычной постановке проблемы личности и ее роли в историческом процессе неизбежно отрицание свободы. Раз все объясняется причинно, в историческом процессе так же нет места ничему свободному и, следовательно, немотивированному, необусловленному, как и в механически понимаемой природе. Ведь в идеале необходимо объяснить и неповторимо-индивидуальную качественность данной воздействующей личности, а за нею – и всех высших личностей. Необходимость и немотивированность, с этой точки зрения, могут существовать лишь в меру несовершенства нашего знания. И разумеется, лишь уловками будут ссылки на необъяснимость в пределах истории, и странною непоследовательностью покажется тезис о царстве истории как царстве свободы. Даже проникнутые самими благими намерениями теоретики, верующие в свободу человечества, постольку, поскольку они стоят на почве традиционных взглядов и неправомерно отожествляют свободу человека со свободою выбора (liberum arbitrii), невольно подменяют свободу необходимостью.
В развитой нами теории взаимодействия исторических личностей и моментов всеединства вообще (§ 11, 20) нет необходимости определять волю индивидуума или коллективной индивидуальности какою бы то ни было внешнею силою. Взаимодействие индивидуальностей одного порядка не что иное, как «параллельная» индивидуализация в них одного акта высшей личности, связанная с их взаимовытеснением в ней. (Это вполне ясно выражено уже у Плотина в теории взаимоотношения индивидуальных душ чрез мировую.) Здесь, таким образом, обусловленность (мотивированность) акта одной личности актом другой оказывается иллюзией, ибо оба акта лишь две стороны высшего, двуединого. И тем не менее, вполне сохраняется полная различность как «взаимодействующих» личностей, так и их актов (индивидуализации ими двуединой) акта). Взаимодействие высшей личности с низшею сводится к тому, что низшая индивидуализует и тем самым осуществляет акт высшей, причем различение между актом высшей и актом низшей личности условно. Акт высшей существует только в индивидуализации его низшею (низшими); акт низшей не что иное, как индивидуализация ею акта высшей. Высшая личность свободна, ибо она в действовании своем реальна лишь как всеединая и, следовательно, сама действует во всякой низшей. Низшая личность свободна потому, что она существует лишь в качестве индивидуализующейся в ней и индивидуализуемой ею высшею. Нисколько не нарушает свободы личности даже взаимоотношение ее с абсолютною личностью или Богом. Бог создает, искупает и усовершает свободную тварь, и потому, без всякой взаимообусловленности, каждый момент тварного бытия является и Божественным и тварным, теофанией (§ 13).
Но совершенная свобода возможна лишь в совершенном всеединстве. Поскольку личность отъединяется от Абсолютного и от других моментов тварного всеединства, она себя им противопоставляет и себя в замкнутости своей ими обусловливает. Она сознает волю иной личности, как всецело чужую и чуждую, как внешнюю, волю всеединой высшей личности – как надиндивидуальную стихийную силу (например, как первородный грех, мировое зло), волю Божью – как благодать. И чем резче разъединенность космоса и самозамкнутость личности в отъединенности, тем сильнее сознание личностью того, что она обусловлена и несвободна. В этом смысле материально-пространственное событие является областью наименьшей свободы, царством необходимости. И дело тут не только в сознании своей несвободы, не в иллюзии необходимости, а в реальной умаленности свободы, каковая умаленность выражается и в самосознании личности.
Противопоставление исторического бытия природному, как царства свободы царству необходимости, в общем, справедливо. Однако природа скована необходимостью только в крайнем пределе своем – в материально-пространственном бытии, отвлеченном, а не реальном. С другой стороны, история, свободная по сравнению с неорганическим и даже органическим миром, вовсе еще не царство свободы. Она – срединное царство, область наименьшего умаления свободы в эмпирии.
63
Изучая развитие какого-нибудь момента (индивидуальности или качествования), историк исходит из познаваемой им по нескольким проявлениям («символам») специфической качественности момента. Эта специфическая качественность, по существу своему не поддающаяся отвлеченно-рациональному определению, может быть познаваема только чрез познание конкретных ее обнаружений (моментов следующего порядка). При этом в каждом обнаружении своем она познается неотрывно от него, не как нечто общее, повторяющееся во всех них, но – как раскрывающая один и единственный из своих моментов, определенно и единственно связанный с каждым из остальных. Таким образом, историк познает специфическую качественность момента, раскрывающуюся именно в этом своем обнаружении и в таких-то и таких-то иных, ему известных и с первым однозначно во временном порядке (§ 53) связанных. Он познает ее далее как могущую себя обнаружить еще и в таких-то моментах или проявлениях, которые тоже стоят в однозначном отношении к каждому из ему известных, хотя это отношение и может быть более или менее неясным, т. е. допускать разные конкретизации в границах некоторой более или менее широкой сферы возможностей.
Раскрывающаяся историку необходимая связь конкретизации изучаемого момента (его моментов) такова, что в ней дан один только определенный их порядок во времени и пространстве, не заменимый другими без искажения самой природы изучаемого. И дан ему не только определенный порядок: ему дана последовательность их, необходимая их смена и необходимое движение. В известной мере эта упорядоченная смена моментов допускает отвлеченное и даже рационалистическое выражение, что и позволяет применять к развитию термин «диалектическое». В существе своем историческое познание не что иное, как описание совершающегося процесса, который становится на основе своей всевременности и всепространственности, т. е. историческое познание не что иное, как историческое повествование. И это повествование обладает признаками несомненности и необходимости постольку, поскольку дано непрерывное движение. А оно дано частично во всей конкретности (например, в познании какого-нибудь развивающегося душевного состояния), частично – в некотором приближении к конкретности, т. е. как движение более исторически-общего процесса. Во втором случае, практически преобладающем, необходимость развития есть необходимость исторически-общего или стяженно-всеединого процесса (§ 21). И чем стяженнее или исторически-общее этот процесс, тем более понимание развития приближается к диалектическому. В познании развития качествования диалектика очень часто приобретает характер рациональной диалектики (§ 20). И при склонности нашей к отвлечению и ипостазированию отвлеченного вполне естественно, что понимаемое рационально-диалектически раскрытие высшего момента в низшем приводит к ипостазированию первого в особую внешнюю силу. В этом случае историк начинает говорить об идее-силе, о «судьбе» или «роке», тяготеющих над низшими индивидуальностями и даже над человечеством (ибо человечество стоит в определенном отношении к своей усовершенности и к Абсолютному). Более или менее отчетливо воспринимая отношение человечества к его усовершенности и к Божеству, историк говорит о Промысле, Провидении и т. д.
Указываемое противопоставление развивающегося момента высшим, развивающимся в нем, эмпирически в той или иной мере неизбежно. Оно неизбежно в силу реальной различности моментов разного порядка, в силу реальной противопоставленности момента его идеалу и Абсолютному. Но поскольку такое противопоставление существует, сфера саморазвития момента отъединяется от сферы высшего и высшее неизбежно воспринимается как внешнее. С появлением же внешнего создается как бы определенное извне русло процесса, для него самого «случайное», его обуславливающее, из него не объяснимое. Оставаясь в его сфере, историк вынужден ограничивать себя простым констатированием сосуществующего с ним и многое в нем воспринимать как просто данное. И для историка неизбежным становится пренебрежение временем, так как только пренебрегая им, можно говорить о постоянном внешнем. Но отказываясь от временного движения, историк отказывается от развития, подменяя его изменением. Во всем этом еще нет никакого заблуждения. В эмпирически ограниченном исследовании необходимы категории системы и, следовательно, функциональной взаимозависимости (§ 2). Историк только не должен считать эту ограниченность своего построения окончательной. Он должен помнить о том, что проводимая им между изучаемым моментом и высшим моментом граница условна, что она постоянно меняется, что определение и, значит, ограничение изучаемого – произвольно, предварительно, вызвано относительностью эмпирического знания. Усовершение исторического познания заключается в том, что преодолеваются условно установленные границы, и преодолеваются с помощью исторического метода, т. е. чрез восхождение к всеединству. Однако часто историк, руководясь правильной потребностью преодолеть ограниченность своего построения, пытается сделать это путем отказа от исторического метода. Он отказывается понимать разъединенность как момент всеединства, и, забывая о единстве, ее абсолютирует. Понятно, что в сфере такого понимания он старается преодолеть констатированную им систему взаимоотношений с помощью понятий внешней силы (фактора) и причинной связи. «Фактор», «причина», «случайность» становятся его основными, призванными все объяснять и ничего не объясняющими категориями. Историк прав в ограничении своего исследования тем либо иным моментом: практически такое самоограничение необходимо. Он прав и тогда, когда устанавливает внешнее соотношение исследуемого им процесса с иными моментами, заменяя выходящие за его поле зрения объяснения констатированием системы. Наконец, он прав в попытках выйти за грань предварительных работ и преодолеть систему. До известной степени можно даже оправдать признание этих категорий последними и объясняющими. Чрез более глубокий исторический анализ и чрез анализ самих названных сейчас предварительных понятий историк должен подняться над односторонним разъединением действительности и объяснить ее на основе теории всеединства.
Те же самые проблемы возникают и при сопоставлении данного процесса с другими ему подобными, которые с ним сосуществуют. И здесь, пока отьединенно изучается данный условно-абсолютированный и ограниченный процесс, в нем остается многое, из него необъяснимое, определенное соотношение его с другими процессами. Многое представляется «случайным», многое – обуславливающим. Все это многое историк должен учесть, т. е. восполнить свою собственно-историческую работу предварительной работой – описанием внешних «условий» процесса и его систематического отношения к другим. Более глубокая «историческая» связь данного процесса с другими, не выражаемая в простом систематическом описании, историком тем не менее воспринимается. Но на предварительных стадиях работы она выливается в форму признания того либо иного момента случайным, фактором, причиною, в смутное ощущение «судьбы», «Провидения». И лишь при условии преодоления ограниченности исследования все эти понятия и примитивные объяснения обнаруживают свою условность и заменяются подлинным историческим пониманием.
Таким образом, если условно начертить линию занятий историка, как восходящую от ограниченного процесса ко все более «общим» и «объясняющим», мы должны будем отметить постепенное снятие последовательно возникающих внешних моментов: «причин», «факторов» и «случайностей». – Для изучающего экономическое развитие немецкого народа внешними фактами или моментами будут его политическое развитие, определяющее (хотя бы государственной разъединенностью Германии) развитие хозяйства, его духовное развитие и т. д. Случайностями будут, также, влияние тех или иных экономических идей и форм, ранее появившихся в Англии и Франции, протекционизм русских царей и многое другое. Но, при изучении развития Германии в целом, противопоставленность экономической, политической и идеологической сфер приобретет совсем иной характер. Историк уже не станет считать политический строй «фактором» хозяйственного или идеологического. Он усмотрит во всех трех сферах многообразные проявления одного и того же. Разумеется, различность этих сфер сохранится; но взаимоотношение их и взаимовлияние получат совершенно иной смысл. Однако и для историка Германии внешними фактами и процессами останутся истории Англии, Франции, Италии, России. В иной сфере, но и он должен будет предварительно устанавливать некоторую «систему», отмечать «случайное». Историческое преодоление внешнего и для него возможно только чрез восхождение к более «общему» процессу европейской истории и даже истории человечества. Но это восхождение к высшему отнюдь не должно быть исканием абстрактных формул, чем, например, грешил Лампрехт.
Но и в истории человечества, взятого в целом, еще неизбежны категории системы, фактора, случая, судьбы. Человечество находится в определенном отношении в своей усовершенности к Божеству, с одной стороны, к внешнему пространственно-вещному миру или природе, с другой. И если первая проблема в общих чертах разрешима в пределах самой истории, если история остерегается от наивной и плохой метафизики; вторая для истории собственно непреодолима. Ведь субъектом истории и объектом исторического знания является не космос, а человечество (§§ 14 сл., 17, ср. 3). Для того, чтобы преодолеть разъединенность человека и природы, нужна метафизическая теория, вместе с тем преодолевающая и различие между историческим и естественно-научным методами.
Утверждаемое нами непреодолимое различие моментов ведет к отрицанию всякого непосредственного взаимодействия между ними. Исходя из него, легко исказить исторический метод и усмотреть цель исторической науки в возможно полном описании системы разъединенных моментов, причем окажется неясным, каково же, собственно говоря, отличие подлинно-исторического знания от предварительно– или вспомогательно-исторического. Но мы утверждаем не только полное различие моментов, а и непрерывное единство выражающегося в них высшего, т. е. всеединство. Всеединство же одинаково далеко и от разъединенного множества и от безразличного, потенциального множеством единства. Искажая понятие всеединства в понятие безразличного единства хотя бы и с различением между высшим моментом (M) и его индивидуализациями (m
, m
, m
…), мы неизбежно приходим к отрицанию индивидуального и, в конце концов, к неопределимой и бесплодной для знания потенции. – Все m в реальности своей оказываются несущественными, ценными лишь постольку, поскольку в них выражается M, которое признается точно определимым, как отвлеченное понятие, и реальным в своей отвлеченности. А ведь само M тоже лишь одна из индивидуализаций высшего момента, в свою очередь индивидуализующего следующие высшие и т. д. К тому же мы знаем, что историк никогда не ограничен какою-нибудь степенью конкретности, каким-нибудь порядком моментов, но все время словно движется вверх и вниз по их иерархической лестнице. При достаточной последовательности мысли понятие высшего момента обнаруживает даже методологическую свою бесплодность, если оно сочетается с указанным искажением понятия всеединства (ср. §§ 21, 34 сл.). С другой стороны, столь же чревато губительными последствиями искажение всеединства в понятие системы множества. В этом случае далее простого констатирования системы моментов идти мы не можем и вынуждены отказаться от всякого объяснения (ср. §§ 2, 11, 34 сл.), о чем следовало бы поразмыслить защитникам плюрализма.
Мы утверждаем, что M всецело есть каждая из своих индивидуализаций (m
, m
, m
…), хотя все они нацело друг от друга отличны. M едино и непрерывно; всякое m отделено от другого m (например, m
от m
, m
от m
) непреодолимым перерывом. Сопоставляя m
с m
, мы можем сказать, что m
есть то же самое M, как и m
, m
, m
, хотя оно от каждого из них всецело отлично. Поэтому в m
мы усматриваем и всякое другое m, но ни в коем случае не M само по себе, ибо оно вне всего ряда m