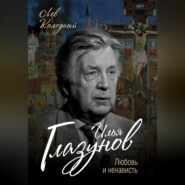По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Илья Глазунов. Любовь и ненависть
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Закроем папку с документами. Кажется, все, что могли, они рассказали, но им не под силу ответить на давно интересующий меня вопрос. Если верно, что личность ребенка формируется чуть ли не к двум годам, когда он начинает говорить во весь голос, не закрывая рта, то как так вышло, что Илья Глазунов заразился теми вирусами, которые поразили в конечном итоге неизлечимой аллергией к советской действительности? После долгого инкубационного периода она проявилась в постоянных, не поддающихся никакой идеологической терапии, никакой пропагандистской хирургии приступах антисоветизма, видных в картинах Глазунова, посвященных современности и прошлому.
Если в детстве, как пишет его биограф, все ограничить только тем, что возлюбил и понял он «жизнь людей простых и скромных, среди которых вырос и сам», что давно, будучи чуть ли не учеником, он осознал, что «эта сторона жизни может быть предметом художественного творчества», то многое никогда нам не объяснить в парадоксах творчества и биографии Ильи Сергеевича.
Как ни акцентируй внимание на той минувшей каждодневной советской реальности, возлюбленной искусствоведами недавнего прошлого, на ярких майских демонстрациях и траурных флагах в день убийства и смерти вождей, эти события не проясняют суть дела. «Красный цвет моих республик», как выразился поэт, если и пламенел на картинах Ильи Глазунова, то только для того, чтобы окрасить невинную кровь, пролитую убийцами в прошлые века и в XX веке теми, кто увлекал толпы на майские и ноябрьские демонстрации.
Давнего детства кумач разложился на картинах Ильи Глазунова в цвета, ослепившие в Кремле правопреемников Ленина и Сталина. Художник, как и его родители, возненавидел коммунистов, тех, кто покончил с потомственными почетными гражданами, действительными статскими советниками, кадетскими корпусами, реальными училищами и гимназиями, дворянскими присутствиями, попечительствами о бедных, кто понуждал честного Сергея Глазунова писать книгу о стахановском движении, изворачиваться, лгать, сочинять то, чего никогда не было, в угоду кремлевским вождям.
Но если отец отказался составлять псевдомонографию о соцсоревновании, то сын не пожелал писать картины о рабочем классе, рисовать Ленина в образе гения, вождя, учителя, друга всех детей и так далее, славить партию, ее вождей от Владимира Ильича до Леонида Ильича.
* * *
В этом месте при чтении мне пришлось сделать паузу, и я записал важное уточнение Ильи Сергеевича.
– Я писал Ленина! Раз в институте по заданию, как все. Дважды после. Тут все должно быть сказано до конца, никаких недоговоренностей допускать в таком важном вопросе нельзя, потому что сразу после выхода книги поднимутся искусствоведы Союза художников СССР, встанут Чегодаева, Окуньков и скажут: хе-хе-хе, и у него Ленин есть! Они считали прежде, что написать Ленина и выставить его – это доказать верность партии и советскому правительству.
Первый раз портрет Ленина на красно-кровавом огненном фоне появился в Манеже в 1964 году, на той выставке, которую через несколько дней после открытия закрыли.
Прерву Илью Глазунова, чтобы дать слово Сергею Смирнову, замечательному публицисту, который первый публично выступил в защиту травимого Глазунова в 1962 году со статьей «Странная судьба одного таланта». Начал он как раз с описания портрета Ленина, написанного для большой всесоюзной выставки, куда хотел попасть опальный, рассчитывая, что тема его вывезет в Манеж, куда дверь была наглухо для него закрыта.
– Это кто же такой? – небрежно спросил один из видных членов комитета, указывая на портрет.
– Как кто? Ленин! – простодушно пояснил какой-то художник.
– Не похож!..
А вот каким показался Ленин публицисту, свято верившему в идеи ленинизма:
«Что же, они были правы, члены выставкома, – портрет не похож, но не на Ильича, а на уже известные портреты нашего великого вождя. Это действительно новый для искусства Ленин, с удивительной силой раскрытый художником в необычайно цельном, органическом единстве истинного величия и простоты, человечности. Мощный, благородный купол черепа, высокий, ясный лоб создают впечатление могучего, необъятного интеллекта, и ты словно ощущаешь, какой великолепный храм разума скрыт за этим лбом. Будто в самую глубь твоей души проникают пристальные, полные спокойного и доброго света мудрости глаза Ильича, и откуда бы ты ни смотрел на портрет, эти глаза, кажется, глядят прямо на тебя, только на тебя одного, и они видят и знают все – и твое прошлое, и настоящее, и твою будущую судьбу. Недаром один из моих друзей, смотревших на этот портрет вместе со мной, сказал, что это Ленин, который уже знает и о трагических противоречиях периода культа личности, и о Великой Отечественной войне, и о наших сегодняшних днях. Это вещий Ильич, но в его всеведении нет ничего сверхчеловеческого, он не над нами, он рядом, вместе с нами, его взгляд бесконечно дружеский, понимающий, тотчас же устанавливает со зрителем простой человеческий контакт».
Да, не такой, как у всех, появился Ленин на портрете Глазунова. Ни ленинской привычной улыбки, ни доброты во взоре. Тяжелый взгляд. Тоска, мука в глазах. То была единственная картина, купленная Музеем революции на глазуновской выставке в Манеже в 1964 году. Но, как считает автор, не для того, чтобы ее показывать, репродуцировать. Чтобы никто больше такого Владимира Ильича не видел.
– Моего Ленина до сих пор в подвале держат!
– Где?
– В Музее революции. Его не показывают, никогда не выставляли.
Второй раз после окончания института написал Глазунов групповой портрет для персональной юбилейной выставки в Манеже 1986 года. На нем большевистская «троица»: Ленин, Свердлов, Дзержинский. И эту картину под названием «Костры Октября» купил тот же музей, из Манежа отправил в хранилище.
– Может быть, сейчас демонстрируют, время-то какое на дворе, свобода!
– Нет. В Манеже в 1986 году сказали мне перед открытием: «Надо убрать!»
Не убрали, поскольку началась перестройка, гласность, но повесили наверху, в углу, чтобы люди внимания не обращали.
– Я возмутился: что за безобразие, как вы относитесь к моей лучшей картине? Один товарищ тогда отвел меня в сторону и сказал: «Не думайте, что все дураки. Скажите спасибо, что мы выставили вашу работу! Такие характеристики давать таким людям – это, знаете, раньше бы чем кончилось?».
– А что тот товарищ подразумевал под словами «такие характеристики»?
– Ну, как же! Три бандита с большой дороги встали перед погрузившейся во тьму вместе с Петербургом Петропавловской крепостью. На лице Ленина отсвечивает кровавый отблеск зажженного им костра мировой революции. В глазах Дзержинского тот же цвет красной, пролитой им крови. Свердлов смотрит на каждого, как палач на приговоренного к смерти. Они стоят и думают о вселенском мировом пожаре, о том, как бы пролить моря крови. Ленин весь в огне сверху. Свердлов говорит: ничего, не дрейфьте, а Дзержинский, глядя на обоих, думает: я еще с вами разберусь.
Такой Ленин и его ближайшие соратники предстают, по словам автора, на картине «Костры Октября», написанной маслом на холсте размером 50 на 100 сантиметров, показанной на триумфальной выставке в Манеже, где Глазунов предстал впервые во весь рост как антисоветчик.
* * *
Далеко ушли мы от довоенных лет, от рассказа о жизни семьи Глазуновых, о полученной в детстве прививки от заразы коммунизма. Как раз тогда, в общении с матерью и отцом, с родней, произошла целебная процедура, сделавшая его невосприимчивым к догмам соцреализма.
Несколько вечеров подряд я записывал на диктофон его воспоминания о детстве, пытая вопросами, стремясь понять, каким образом, живя в окружении блока коммунистов и беспартийных, он стал идейным монархистом? Как так получилось, что в обществе атеистов и воинствующих безбожников оказался в стане верующих, православным христианином, удостоившись чести общаться с патриархом и другими иерархами Русской православной церкви?
Почему интернационализм, внушаемый каждому советскому ребенку с пеленок, трансформировался в его сознании в «русскую идею», оказавшую влияние на поколение современников, в частности, как я уже писал, на писателя Владимира Солоухина, чья публицистика в свое время оказала влияние на формирование мировоззрения многих людей в бывшем СССР?
* * *
Что записал диктофон в ответ на мои вопросы?
«Я родился в Санкт-Петербурге, где каждый камень вопиет о великой империи, сердцем которой был самый прекрасный город. Гуляя с матерью и отцом, видел домик Петра, основателя новой столицы, памятники царям, храм на крови, поставленный на том месте, где убили Александра II, освободившего крестьян, реформировавшего Россию. Меня водили в Петропавловскую крепость, где находятся могилы всех императоров, начиная с Петра I. Если детям громко говорили, что царь плохой, то мне мать шепотом говорила, что нет, царь был хороший, его убили вместе с царицей и детьми. Я знал тогда уже, что мой родственник воспитывал царя Александра II.
В дни моего детства отец, бывало, спал в одежде. Он ждал, что ночью придут за ним, как пришли за многими. Я видел, как въезжала во двор крытая машина – „черный ворон“ – и увозила соседей».
Да, судьба до войны помиловала отца, поэтому тот успел кое-что рассказать сыну, многое, как мать, без слов внушил, привил в детстве иммунитет и к партийности искусства, и к соцреализму и коммунизму, слагавшемуся по ленинской формуле из советской власти в совокупности с электрификацией.
Однажды отец обмолвился, что в молодости дружил с Питиримом Сорокиным и тот ему советовал уехать из России перед своей вынужденной эмиграцией, перед тем, как ступить на палубу печально известного «философского парохода». На нем в 1922 году насильно вывезли из страны в Европу цвет нации, выдающихся российских философов, историков, писателей.
Статья тридцатилетнего профессора, социолога Петроградского университета Питирима Сорокина (где он доказывал, что число разводов в РСФСР резко возросло после принятия ленинских законов о браке, легализовавших фактически распутство), напечатанная в научном журнале, попала на глаза вождя пролетариата после окончания гражданской войны, когда прекратились массовые расстрелы. Эта статья убедила Ленина, что свободомыслящую интеллигенцию победить ему не удалось, как царских генералов. Решено было запугать ее депортацией, арестом и высылкой под страхом смертной казни. На каждого ученого и литератора завели дело в тайной чекистской канцелярии. Тогда вместе с автором замечательной статьи арестовали и вынудили эмигрировать многих ученых Петрограда, Москвы. Питирим Сорокин, прощаясь, сказал отцу:
– Сереженька, уезжай, иначе тебя расстреляют.
Сергей Глазунов не уехал. Мог ли он после изгнания замечательной профессуры заниматься социологией, взрывоопасной историей? Только тайком от всех, не забыв о социологических исследованиях Питирима Сорокина, он продолжал изучение проблем семьи, придя к выводу, за который ученик Ленина не выпустил бы его из своих объятий:
«Народ гибнет окончательно, когда начинает гибнуть семья. Современная семья на грани гибели. Субъективно это выражается в том, что для все большего количества людей семья становится адом. Объективно дело заключается в том, что нынешнее советское общество не может экономически содержать семью, даже при напряженной работе обоих членов семьи…
Нищенский уровень жизни толкает всех более или менее честных людей к тому, чтобы напрягать еще больше сил для излишней работы. Поскольку и излишняя работа не спасает, все, кто может, теми или иными способами воруют. Вор – самый почетный и самый обеспеченный член советского общества, вместе с тем единственный обеспеченный член общества, не считая купленных властью Толстых, Дунаевских и прочих».
С такими мыслями и взглядами пришлось затаиться, стать статистиком на фабрике, расшивать узкие места табачного совхоза тому, кому протягивал руку Питирим Сорокин, получивший в эмиграции кафедру в Гарварде, где он возглавил факультет социологии в 1929 году. А на родине даже в семидесятые годы корифея мировой социологии поносили за то, что занимался «псевдонаучной социологией» в Петрограде.
* * *
В жизни Сергея Глазунова прочитанный в детстве в актовом зале реферат о Смутном времени остался первым и последним научным сочинением по истории. О прошлом родной страны, начале государственности в России, варягах, войнах со шведами, об основании Петербурга рассказывал несостоявшийся историк одному благодарному слушателю – сыну.
Перед войной в советской идеологии произошла переоценка большевистских догм ленинского периода. Перед Второй мировой войной в СССР предали анафеме историческую школу любимца Ильича, воинствующего профессора-марксиста Михаила Покровского, закрывшего в стране историко-филологические и юридические факультеты университетов, разгромившего кафедры по этим дисциплинам как оплоты буржуазного влияния на пролетариат. Дело дошло до того, что в школах и высших учебных заведениях отменили уроки и лекции по истории, заменив их доморощенной большевистской наукой под названием «обществоведение», сведя все к изучению восстаний, бунтов, революций, классовой борьбы, где не оставалось места ни Христу и Магомету, ни Суворову и Кутузову, ни королям Европы, ни царям России…
Едва произнес я имя историка Покровского, как Глазунов перебил меня, сказав с пылом:
– Как я его ненавижу! Я Покровского люто ненавижу и считаю отцом всех советских историков от академика Рыбакова до академика Лихачева и всех прочих, потому что не может называться историком марксист. Доказательством этому служит все, написанное Покровским. Потому что история – это никакая не борьба классов. История не сводится к борьбе феодалов с крестьянами, пролетариата с буржуазией, бедных с богатыми. История – это борьба религиозных идей, борьба наций и рас.
…С этим выстраданным убеждением художника я полностью согласен, потому что давно на лекциях по истории в университете понял, что картину мира, прошлого России представляли нам в искаженном, примитивном виде. Сколько часов «проходили» мы восстания Ивана Болотникова, Степана Разина и Емельяна Пугачева, сколько уроков в школе посвящалось «восстанию» стрельцов, «Чумному» и другим бунтам в Москве, также подававшимся под знаком плюс, как проявления народного праведного гнева. В общей сложности все эти аномалии, которых всего несколько, длились не более трех лет и происходили на небольшом сравнительно пространстве. А династия Романовых правила Россией триста лет на территории самого большого в мире государства.
Надо ли говорить, что ожидало бы русских, если бы победил Болотников, который звал народ присягнуть вымышленному «царю Дмитрию», какой порядок наступил, если бы в Москву вошел другой царь, лже-Петр III, за которого выдавал себя Емельян Иванович, сколько бы невинных душ вздернул на виселицу этот разлюбезный советским историкам «крестьянский вождь», как он это практиковал в захваченных крепостях.
Если в детстве, как пишет его биограф, все ограничить только тем, что возлюбил и понял он «жизнь людей простых и скромных, среди которых вырос и сам», что давно, будучи чуть ли не учеником, он осознал, что «эта сторона жизни может быть предметом художественного творчества», то многое никогда нам не объяснить в парадоксах творчества и биографии Ильи Сергеевича.
Как ни акцентируй внимание на той минувшей каждодневной советской реальности, возлюбленной искусствоведами недавнего прошлого, на ярких майских демонстрациях и траурных флагах в день убийства и смерти вождей, эти события не проясняют суть дела. «Красный цвет моих республик», как выразился поэт, если и пламенел на картинах Ильи Глазунова, то только для того, чтобы окрасить невинную кровь, пролитую убийцами в прошлые века и в XX веке теми, кто увлекал толпы на майские и ноябрьские демонстрации.
Давнего детства кумач разложился на картинах Ильи Глазунова в цвета, ослепившие в Кремле правопреемников Ленина и Сталина. Художник, как и его родители, возненавидел коммунистов, тех, кто покончил с потомственными почетными гражданами, действительными статскими советниками, кадетскими корпусами, реальными училищами и гимназиями, дворянскими присутствиями, попечительствами о бедных, кто понуждал честного Сергея Глазунова писать книгу о стахановском движении, изворачиваться, лгать, сочинять то, чего никогда не было, в угоду кремлевским вождям.
Но если отец отказался составлять псевдомонографию о соцсоревновании, то сын не пожелал писать картины о рабочем классе, рисовать Ленина в образе гения, вождя, учителя, друга всех детей и так далее, славить партию, ее вождей от Владимира Ильича до Леонида Ильича.
* * *
В этом месте при чтении мне пришлось сделать паузу, и я записал важное уточнение Ильи Сергеевича.
– Я писал Ленина! Раз в институте по заданию, как все. Дважды после. Тут все должно быть сказано до конца, никаких недоговоренностей допускать в таком важном вопросе нельзя, потому что сразу после выхода книги поднимутся искусствоведы Союза художников СССР, встанут Чегодаева, Окуньков и скажут: хе-хе-хе, и у него Ленин есть! Они считали прежде, что написать Ленина и выставить его – это доказать верность партии и советскому правительству.
Первый раз портрет Ленина на красно-кровавом огненном фоне появился в Манеже в 1964 году, на той выставке, которую через несколько дней после открытия закрыли.
Прерву Илью Глазунова, чтобы дать слово Сергею Смирнову, замечательному публицисту, который первый публично выступил в защиту травимого Глазунова в 1962 году со статьей «Странная судьба одного таланта». Начал он как раз с описания портрета Ленина, написанного для большой всесоюзной выставки, куда хотел попасть опальный, рассчитывая, что тема его вывезет в Манеж, куда дверь была наглухо для него закрыта.
– Это кто же такой? – небрежно спросил один из видных членов комитета, указывая на портрет.
– Как кто? Ленин! – простодушно пояснил какой-то художник.
– Не похож!..
А вот каким показался Ленин публицисту, свято верившему в идеи ленинизма:
«Что же, они были правы, члены выставкома, – портрет не похож, но не на Ильича, а на уже известные портреты нашего великого вождя. Это действительно новый для искусства Ленин, с удивительной силой раскрытый художником в необычайно цельном, органическом единстве истинного величия и простоты, человечности. Мощный, благородный купол черепа, высокий, ясный лоб создают впечатление могучего, необъятного интеллекта, и ты словно ощущаешь, какой великолепный храм разума скрыт за этим лбом. Будто в самую глубь твоей души проникают пристальные, полные спокойного и доброго света мудрости глаза Ильича, и откуда бы ты ни смотрел на портрет, эти глаза, кажется, глядят прямо на тебя, только на тебя одного, и они видят и знают все – и твое прошлое, и настоящее, и твою будущую судьбу. Недаром один из моих друзей, смотревших на этот портрет вместе со мной, сказал, что это Ленин, который уже знает и о трагических противоречиях периода культа личности, и о Великой Отечественной войне, и о наших сегодняшних днях. Это вещий Ильич, но в его всеведении нет ничего сверхчеловеческого, он не над нами, он рядом, вместе с нами, его взгляд бесконечно дружеский, понимающий, тотчас же устанавливает со зрителем простой человеческий контакт».
Да, не такой, как у всех, появился Ленин на портрете Глазунова. Ни ленинской привычной улыбки, ни доброты во взоре. Тяжелый взгляд. Тоска, мука в глазах. То была единственная картина, купленная Музеем революции на глазуновской выставке в Манеже в 1964 году. Но, как считает автор, не для того, чтобы ее показывать, репродуцировать. Чтобы никто больше такого Владимира Ильича не видел.
– Моего Ленина до сих пор в подвале держат!
– Где?
– В Музее революции. Его не показывают, никогда не выставляли.
Второй раз после окончания института написал Глазунов групповой портрет для персональной юбилейной выставки в Манеже 1986 года. На нем большевистская «троица»: Ленин, Свердлов, Дзержинский. И эту картину под названием «Костры Октября» купил тот же музей, из Манежа отправил в хранилище.
– Может быть, сейчас демонстрируют, время-то какое на дворе, свобода!
– Нет. В Манеже в 1986 году сказали мне перед открытием: «Надо убрать!»
Не убрали, поскольку началась перестройка, гласность, но повесили наверху, в углу, чтобы люди внимания не обращали.
– Я возмутился: что за безобразие, как вы относитесь к моей лучшей картине? Один товарищ тогда отвел меня в сторону и сказал: «Не думайте, что все дураки. Скажите спасибо, что мы выставили вашу работу! Такие характеристики давать таким людям – это, знаете, раньше бы чем кончилось?».
– А что тот товарищ подразумевал под словами «такие характеристики»?
– Ну, как же! Три бандита с большой дороги встали перед погрузившейся во тьму вместе с Петербургом Петропавловской крепостью. На лице Ленина отсвечивает кровавый отблеск зажженного им костра мировой революции. В глазах Дзержинского тот же цвет красной, пролитой им крови. Свердлов смотрит на каждого, как палач на приговоренного к смерти. Они стоят и думают о вселенском мировом пожаре, о том, как бы пролить моря крови. Ленин весь в огне сверху. Свердлов говорит: ничего, не дрейфьте, а Дзержинский, глядя на обоих, думает: я еще с вами разберусь.
Такой Ленин и его ближайшие соратники предстают, по словам автора, на картине «Костры Октября», написанной маслом на холсте размером 50 на 100 сантиметров, показанной на триумфальной выставке в Манеже, где Глазунов предстал впервые во весь рост как антисоветчик.
* * *
Далеко ушли мы от довоенных лет, от рассказа о жизни семьи Глазуновых, о полученной в детстве прививки от заразы коммунизма. Как раз тогда, в общении с матерью и отцом, с родней, произошла целебная процедура, сделавшая его невосприимчивым к догмам соцреализма.
Несколько вечеров подряд я записывал на диктофон его воспоминания о детстве, пытая вопросами, стремясь понять, каким образом, живя в окружении блока коммунистов и беспартийных, он стал идейным монархистом? Как так получилось, что в обществе атеистов и воинствующих безбожников оказался в стане верующих, православным христианином, удостоившись чести общаться с патриархом и другими иерархами Русской православной церкви?
Почему интернационализм, внушаемый каждому советскому ребенку с пеленок, трансформировался в его сознании в «русскую идею», оказавшую влияние на поколение современников, в частности, как я уже писал, на писателя Владимира Солоухина, чья публицистика в свое время оказала влияние на формирование мировоззрения многих людей в бывшем СССР?
* * *
Что записал диктофон в ответ на мои вопросы?
«Я родился в Санкт-Петербурге, где каждый камень вопиет о великой империи, сердцем которой был самый прекрасный город. Гуляя с матерью и отцом, видел домик Петра, основателя новой столицы, памятники царям, храм на крови, поставленный на том месте, где убили Александра II, освободившего крестьян, реформировавшего Россию. Меня водили в Петропавловскую крепость, где находятся могилы всех императоров, начиная с Петра I. Если детям громко говорили, что царь плохой, то мне мать шепотом говорила, что нет, царь был хороший, его убили вместе с царицей и детьми. Я знал тогда уже, что мой родственник воспитывал царя Александра II.
В дни моего детства отец, бывало, спал в одежде. Он ждал, что ночью придут за ним, как пришли за многими. Я видел, как въезжала во двор крытая машина – „черный ворон“ – и увозила соседей».
Да, судьба до войны помиловала отца, поэтому тот успел кое-что рассказать сыну, многое, как мать, без слов внушил, привил в детстве иммунитет и к партийности искусства, и к соцреализму и коммунизму, слагавшемуся по ленинской формуле из советской власти в совокупности с электрификацией.
Однажды отец обмолвился, что в молодости дружил с Питиримом Сорокиным и тот ему советовал уехать из России перед своей вынужденной эмиграцией, перед тем, как ступить на палубу печально известного «философского парохода». На нем в 1922 году насильно вывезли из страны в Европу цвет нации, выдающихся российских философов, историков, писателей.
Статья тридцатилетнего профессора, социолога Петроградского университета Питирима Сорокина (где он доказывал, что число разводов в РСФСР резко возросло после принятия ленинских законов о браке, легализовавших фактически распутство), напечатанная в научном журнале, попала на глаза вождя пролетариата после окончания гражданской войны, когда прекратились массовые расстрелы. Эта статья убедила Ленина, что свободомыслящую интеллигенцию победить ему не удалось, как царских генералов. Решено было запугать ее депортацией, арестом и высылкой под страхом смертной казни. На каждого ученого и литератора завели дело в тайной чекистской канцелярии. Тогда вместе с автором замечательной статьи арестовали и вынудили эмигрировать многих ученых Петрограда, Москвы. Питирим Сорокин, прощаясь, сказал отцу:
– Сереженька, уезжай, иначе тебя расстреляют.
Сергей Глазунов не уехал. Мог ли он после изгнания замечательной профессуры заниматься социологией, взрывоопасной историей? Только тайком от всех, не забыв о социологических исследованиях Питирима Сорокина, он продолжал изучение проблем семьи, придя к выводу, за который ученик Ленина не выпустил бы его из своих объятий:
«Народ гибнет окончательно, когда начинает гибнуть семья. Современная семья на грани гибели. Субъективно это выражается в том, что для все большего количества людей семья становится адом. Объективно дело заключается в том, что нынешнее советское общество не может экономически содержать семью, даже при напряженной работе обоих членов семьи…
Нищенский уровень жизни толкает всех более или менее честных людей к тому, чтобы напрягать еще больше сил для излишней работы. Поскольку и излишняя работа не спасает, все, кто может, теми или иными способами воруют. Вор – самый почетный и самый обеспеченный член советского общества, вместе с тем единственный обеспеченный член общества, не считая купленных властью Толстых, Дунаевских и прочих».
С такими мыслями и взглядами пришлось затаиться, стать статистиком на фабрике, расшивать узкие места табачного совхоза тому, кому протягивал руку Питирим Сорокин, получивший в эмиграции кафедру в Гарварде, где он возглавил факультет социологии в 1929 году. А на родине даже в семидесятые годы корифея мировой социологии поносили за то, что занимался «псевдонаучной социологией» в Петрограде.
* * *
В жизни Сергея Глазунова прочитанный в детстве в актовом зале реферат о Смутном времени остался первым и последним научным сочинением по истории. О прошлом родной страны, начале государственности в России, варягах, войнах со шведами, об основании Петербурга рассказывал несостоявшийся историк одному благодарному слушателю – сыну.
Перед войной в советской идеологии произошла переоценка большевистских догм ленинского периода. Перед Второй мировой войной в СССР предали анафеме историческую школу любимца Ильича, воинствующего профессора-марксиста Михаила Покровского, закрывшего в стране историко-филологические и юридические факультеты университетов, разгромившего кафедры по этим дисциплинам как оплоты буржуазного влияния на пролетариат. Дело дошло до того, что в школах и высших учебных заведениях отменили уроки и лекции по истории, заменив их доморощенной большевистской наукой под названием «обществоведение», сведя все к изучению восстаний, бунтов, революций, классовой борьбы, где не оставалось места ни Христу и Магомету, ни Суворову и Кутузову, ни королям Европы, ни царям России…
Едва произнес я имя историка Покровского, как Глазунов перебил меня, сказав с пылом:
– Как я его ненавижу! Я Покровского люто ненавижу и считаю отцом всех советских историков от академика Рыбакова до академика Лихачева и всех прочих, потому что не может называться историком марксист. Доказательством этому служит все, написанное Покровским. Потому что история – это никакая не борьба классов. История не сводится к борьбе феодалов с крестьянами, пролетариата с буржуазией, бедных с богатыми. История – это борьба религиозных идей, борьба наций и рас.
…С этим выстраданным убеждением художника я полностью согласен, потому что давно на лекциях по истории в университете понял, что картину мира, прошлого России представляли нам в искаженном, примитивном виде. Сколько часов «проходили» мы восстания Ивана Болотникова, Степана Разина и Емельяна Пугачева, сколько уроков в школе посвящалось «восстанию» стрельцов, «Чумному» и другим бунтам в Москве, также подававшимся под знаком плюс, как проявления народного праведного гнева. В общей сложности все эти аномалии, которых всего несколько, длились не более трех лет и происходили на небольшом сравнительно пространстве. А династия Романовых правила Россией триста лет на территории самого большого в мире государства.
Надо ли говорить, что ожидало бы русских, если бы победил Болотников, который звал народ присягнуть вымышленному «царю Дмитрию», какой порядок наступил, если бы в Москву вошел другой царь, лже-Петр III, за которого выдавал себя Емельян Иванович, сколько бы невинных душ вздернул на виселицу этот разлюбезный советским историкам «крестьянский вождь», как он это практиковал в захваченных крепостях.