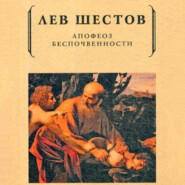По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Апофеоз беспочвенности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
32
Homo homini lupus[19 - Человек человеку – волк (лат.).] – одна из незыблемейших предпосылок вечной морали. В каждом из своих ближних мы подозреваем опасного врага и потому боимся его. «Этот человек легкомыслен, – если мы не обуздаем его законом, он нас погубит», – такая мысль является у нас каждый раз, когда кто-нибудь выходит из освященной традицией колеи.
Опасение справедливое: мы так бедны, так слабы, нас так легко разорить и погубить! как же нам не бояться? А между тем, нередко под опасными и грозными поступками кроется нечто значительное и важное, что следовало бы внимательно и сочувственно рассмотреть. Но у страха глаза велики, мы видим опасность и только опасность – и строим мораль, за которой, как за крепостной стеной, отсиживаемся всю жизнь от врагов. Только поэты брались воспевать опасных людей – Дон Жуанов, Фаустов, Тангейзеров. Но с поэтами никто не считается. Здравый смысл ценит гораздо выше комивояжера или приват-доцента, чем Байрона, Гете и Мольера.
33
Возможности, открывающиеся человеку в жизни, сравнительно очень ограничены. Нельзя всего увидеть, нельзя все понять, нельзя ни подняться слишком высоко над землей, ни проникнуть в ее глубину. Что было – навсегда скрыто, что будет – мы не умеем предугадать и наверное знаем, что у нас никогда не вырастут крылья. Закономерность, неизменная закономерность явлений полагает предел нашим стремлениям, загоняет нас на узкий, избитый путь обыденности. Но даже и этот путь не дано нам исходить вдоль и поперек. Мы должны зорко глядеть себе под ноги и на каждом шагу останавливаться, ибо малейшая неосторожность в жизни грозит нам гибелью. Но ведь мыслима и иная жизнь. Жизнь, в которой слово «гибель» не существует, где ответственность за поступки если и не отменена совсем, то не имеет столь рокового и случайного характера, как у нас, и где, с другой стороны, нет «закономерности», а стало быть, есть бесконечное количество возможностей. Там чувство страха – позорнейшее чувство – исчезает. Там, стало быть, и добродетели совсем не те, что здесь. Бесстрашие пред опасностью и щедрость, даже расточительность и у нас почитаются добродетелями, но почитаются без всяких оснований. Сократ был совершенно прав, когда доказывал, что не всякая храбрость, а только храбрость, измеряющая вперед опасность и шансы победы, имеет свое оправдание. В такой же мере правы и те экономные, расчетливые люди, которые осуждают расточительность. Бесстрашие и расточительность не к лицу смертным, которым прилично, ввиду их бессилия и бедности, всегда трепетать и считать каждый свой грош. Оттого-то эти две добродетели так редко встречаются между людьми, и в тех случаях, когда встречаются, вызывают в толпе суеверное благоговение к их носителям. «Этот человек ничего не боится и ничего не жалеет: он, верно, не человек, а полубог, даже, быть может, бог». Сократ не верил в богов и потому хотел оправдать расчетом добродетель. Кант тоже не верил в Бога и потому выводил свою мораль из «закона». Но если есть Бог, если все люди – дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть.
Тогда безумно расточающий свою и чужие жизни и благосостояние, даже свое дарование, свой гений человек правее расчетливых философов, тщетно ищущих устроения человечества на земле.
34
Нравственные люди – самые мстительные люди, и свою нравственность они употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних, они хотят, чтоб их осуждение было всеобщим и обязательным, т. е. чтоб вместе с ними все люди восстали на осужденного ими, чтоб даже собственная совесть осужденного была на их стороне. Только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворенными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам.
35
Закоренелость во зле. Еретиков часто преследовали за ничтожнейшие отступления от господствующих верований. Именно их упорство в пустяках более всего и раздражало. «Отчего они не соглашаются на такую пустую уступку? Серьезных оснований у них не может быть. Они только хотят огорчать нас, делать нам назло». Постепенно вражда шла crescendo, и появлялись костры и пытки, все против закоренелости во зле…
36
Не помню, где я вычитал, у Тургенева или у Толстого, что люди, побывавшие под судом, всегда приобретают особенно благородное выражение лица. Хотя логика и рекомендует осторожность в обратных заключениях, но, куда ни шло, на этот раз позволю себе рискнуть и сделать вывод: благородное выражение в лице есть признак того, что человек побывал под судом – разумеется, не за политическое преступление, а за воровство или взяточничество.
37
Самые важные и значительные мысли, откровения являются на свет голыми, без словесной оболочки: найти для них слова – особое, очень трудное дело, целое искусство. И наоборот: глупости и пошлости сразу приходят наряженными в пестрые, хотя и старые тряпки – так что их можно прямо, без всякого труда, преподносить публике.
38
Странное нетерпение овладело в последнее время русскими писателями. Все взапуски пустились за «последним словом». Им кажется, что последнее слово будет наверное добыто – вопрос лишь в том, кто скорее до него добежит…
39
Появление Сократа на философском горизонте приветствуется всеми историками как величайшее событие. Нравы стали расшатываться, отечеству (Афинам) угрожала гибель. Миссия Сократа была в том, чтобы положить конец той отчаянной раскачке моральных суждений, к которой привел крайний индивидуализм и релятивизм софистов. И великий мудрец сделал, как известно, все, что мог. Он покинул свои обычные занятия и семью, он не заботился о завтрашнем дне и учил, учил, учил – простых людей и знатных, умных и глупых, ученых и невежественных. И тем не менее, он отечества не спас. При Перикле Афины процветали без мудрости или независимо от мудрости Сократа. После Перикла, несмотря на то, что учение Сократа нашло себе такого гениального продолжателя, как Платон, роль и значение Афин все падает, и Аристотель был уже воспитателем сына Филиппа Македонского. Значит, мудрость Сократа не спасла отечества, и так как в этом было ее главное назначение, то, стало быть, она не заслуживает традиционного преклонения; нужно либо найти ей какое-нибудь иное оправдание – это было бы правильнее всего, – либо вообще оставить излюбленный прием метафизиков искать raison d'?tre[20 - Разумное основание (фр.).] мудрости в ее общественном значении. Это прием очень рискованный. Обыкновенно мудрость идет сама по себе, а общество – само по себе. Их соединяют искусственно – ораторы, приучившие публику и философов думать, что только те задачи заслуживают внимания, которые имеют на своей стороне решительно все: и общественную пользу, и мораль, и даже метафизическую мудрость… Зачем так много? Будет и того, если какой-нибудь новый проект окажется полезным! Где нам еще добиваться санкции морали и метафизики! И наоборот, раз законы морали должны быть автономны и идеи стоят над эмпирическими нуждами человечества, значит, противопоставлять им общественные соображения, даже возможную гибель страны, нельзя. Pereat mundus, fiat philosophia.[21 - Пусть мир погибнет, но да будет философия (лат.).]Если Афины погибли даже из-за мудрости Сократа – это ничего против нее не говорит. Так должен был бы рассуждать автономный мыслитель. Но de facto[22 - Фактически (лат.).] мыслитель не слишком любит ссориться с отечеством.
40
Когда писателю нужно высказать наименее обоснованную мысль свою, которой он почему-либо особенно дорожит и для которой он непременно хочет добиться общего признания, он обыкновенно прерывает на время свое изложение, будто бы затем, чтобы перевести дыхание, и делает небольшое, а иногда и большое отступление, в котором доказывает несостоятельность разных, часто даже не связанных с существом дела положений. Уничтожив победоносно одну или несколько глупостей и тем придав себе вид знающего и основательного человека, он снова возвращается к своей задаче в расчете, что к нему, как к доказавшему свою основательность, уже будут относиться с большим доверием. Расчет вполне правильный. Читатель боится возражать такому ловкому диалектику и предпочитает согласиться с ним, ибо спорить в таких случаях очень рискованно. Такими приемами никто не брезгует – даже величайшие умы, особенно в философии. Оттого идеалисты, прежде чем защищать свои теории, разносят материализм. Материалисты тоже когда-то так поступали и имели, как известно, колоссальный успех.
41
Как известно, последовательность обязательна только для учеников, а не для учителей. Творцы великих идей относятся очень пренебрежительно к своим творениям и мало заботятся об их судьбе в мире. Часто детища одного и того же философа так мало похожи друг на друга, что нет возможности найти меж ними даже отдаленные признаки фамильного сходства. Добросовестные ученики, изнывая под бременем непосильной задачи отыскать несуществующее, не раз приходили в отчаяние от своей задачи. Те, кто поумнее, разрешают ее просто. Раз догадавшись, в чем дело, они навсегда отказываются от мысли примирить замечаемые противоречия. Но тем более настаивают они на необходимости изучения философов – изучения обстоятельного, исторического, даже филологического. Таким образом и создалась история философии, в настоящее время вполне заменяющая философию. И ведь история философии, в самом деле, может быть наукой. Ибо путем исторического изыскания, действительно, нередко удается выяснить с большой степенью точности, что именно думал тот или иной философ, в каком смысле он употреблял различные термины и понятия. И так как философов было очень много, то, стало быть, изучение и объяснение их представляет достаточно трудное и почтенное дело, которое вполне заслуживает называться наукой. За хороший перевод или комментарий к главным трудам Канта можно дать человеку диплом доктора философии, т. е. признать его достаточно проникнувшим в важнейшие мировые проблемы. Для какой надобности еще выдумывать новые системы? Или даже писать?
42
Восторги творчества! Пустые слова, придуманные людьми, никогда не имевшими случая по личному опыту судить о том, что такое творчество, добывшими свое суждение путем умозаключения: если творение доставляет нам такое великое наслаждение, то что же должен был испытать сам творец! На самом деле творец обыкновенно испытывает одни огорчения. Всякое творение есть творение из ничего. В лучшем случае пред нами безобразный, бессмысленный, большей частью упорный и твердый материал, с трудом поддающийся обработке. Да и неизвестно, как его обрабатывать. Каждый раз в голову приходит новая мысль, и каждый раз новую мысль, на мгновение показавшуюся блестящей и очаровательной, нужно отбрасывать, как негодный хлам. Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего – неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность. И чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительней его самочувствие. Оттого-то большинство людей, даже гениальных, ? la longue[23 - В конце концов (лат.).] не выносят творческой деятельности. Как только они приобретают технику, они начинают повторяться, зная, что публика не слишком требовательна и довольно охотно выносит однообразие любимца, даже видит в этом достоинство. Всякий ценитель искусства доволен, если узнает в новом произведении «манеру» художника, и мало кто догадывается, что приобретение манеры знаменует собой начало конца. Художники это хорошо понимают и рады бы отвязаться от своей манеры, которая уже им представляется шаблоном. Но это требует слишком большого напряжения сил, новых мук, сомнений, неизвестности – кто однажды пережил «восторги творчества», другой раз добровольно ими не соблазнится. Он предпочитает «работать» по прежде созданному шаблону, лишь бы быть спокойным и твердо уверенным в результатах – благо, кроме него никто не знает, что он уже больше не творец. Сколько тайн в мире, и как легко уберечь тайну от нескромных взоров!
43
Писатель взвинчивает себя, чтобы дойти до состояния экстаза: иначе он не берется за перо. Но экстаз не всякий умеет отличать от других, менее возвышенных видов душевного подъема. И так как писателю почти всегда нужно сочинять, то он обыкновенно не имеет терпения долго выжидать и при первых признаках одушевления начинает изливаться. Оттого-то так часто под именем экстаза преподносятся нам дешевые и ничем не замечательные душевные настроения. Особенно легко смешивают с экстазом тот очень распространенный вид весеннего ликования, для которого наш язык изобрел известный меткий эпитет. И, в конце концов, «телячий восторг» встречает у публики более радушный прием, чем истинное вдохновение и глубокий экстаз. Понятней – и ближе.
44
Школьная посылка: последовательный скептицизм сам себя опровергает, ибо отрицание возможности знания есть уже утверждение. Но во-первых: скептицизму не обязательно быть последовательным, ибо он не имеет никакого желания угождать догматизму, возводящему последовательность в закон. Во-вторых, где та философская теория, которая, если ее довести до крайних пределов, не уничтожала бы самое себя? И отчего от скептицизма требуют большего, чем от других теорий, от скептицизма, который честно заявляет, что он не может дать даже того, на что другие теории претендуют?
45
Аристотелевская логика, вошедшая и в современную логику как ее главная составная часть, явилась, как известно, результатом вечных теоретических состязаний, до которых древние греки были такими охотниками. И действительно, для того, чтобы спорить, нужно иметь общую почву, иными словами, условиться о предпосылках. Но в наше время диалектические турниры, как и всякие другие состязания, уже не привлекают людей. Значит, можно логику отодвинуть на второй план?!
46
В «Портрете» Гоголя художник приходит в отчаяние при мысли о том, что пожертвовал своим искусством ради «жизни». У Ибсена в его драме «Когда мы, мертвые, просыпаемся» тоже художник, прославившийся на весь мир, раскаивается в том, что пожертвовал жизнью – искусству. Теперь – выбирай, какого сорта раскаяние тебе более по вкусу.
47
Человек часто бывает равнодушен к своему успеху до тех пор, пока его имеет. Стоит только ему потерять свое влияние на людей, и он начинает огорчаться. И – наоборот.
48
Инсаров, в качестве человека, готовящегося к битвам, поразил воображение Елены, и она предпочла его Шубину, художнику, и Берсеневу, ученому. Женщины еще с древних времен больше любили воинствующих и военных, чем мирных и статских мужчин. Если бы Тургенев эту мысль облек в менее идеалистическую форму, вероятно, он не сделался бы идолом молодежи. Кто из нас не увлекался Еленой и ее избранником? Кто вообще не увлекался тургеневскими женщинами! А между тем, все они отдаются наиболее сильному мужчине. У «высших людей», как у зверей: самцы борются меж собою, самка следит за их борьбой и по окончании ее признает себя рабой победителя.
49
Гусеница обращается в куколку и долгое время живет в теплом и покойном мирке. Если бы она обладала человеческим сознанием, может быть, она сказала бы, что ее мир есть лучший из миров, даже единственно возможный. Но приходит время, и какая-то неведомая сила заставляет ее начать работу разрушения. Если бы другие гусеницы могли видеть, каким ужасным делом она занимается, они, наверное, возмутились бы до глубины души, назвали бы ее безнравственной, безбожной, заговорили бы о пессимизме, скептицизме и т. п. вещах. Уничтожать то, созидание чего стоило таких трудов! И затем, чем плох этот теплый, уютный, законченный мир! Чтобы отстоять его, необходимо выдумать священную мораль и идеалистическую теорию познания! А до того, что у гусеницы выросли крылья и что она, прогрызши свое старое гнездо, вылетит в вольный мир нарядной и легкой бабочкой – нет никому дела.
Крылья – это мистицизм, самоугрызение же – действительность. Те, которые создают ее, достойны пытки и казни. И на белом свете достаточно тюрем и добровольных палачей: большинство книг тоже тюрьмы, и великие писатели нередко были палачами.
50
Ницше и Достоевский являются типическими «обратными симулянтами», если так можно выразиться. Они притворялись душевно здоровыми, хотя были душевно больными. Они хорошо знали, что больны, но проявляли свою болезнь лишь в той мере, в которой чудачество сходит еще за оригинальность. С чуткостью, свойственной всем, находящимся в постоянной опасности, они никогда не переходили за известную черту. Топор гильотины общественного мнения всегда висел над ними: стоило бы только неловким движением зацепить веревку, и казнь совершилась бы сама собой. Но они умели уберечься от лишних движений.
51
Так называемые последние вопросы в такой же мере волновали человечество в самом начале сотворения мира, как и в наше время. Уже Адам и Ева хотели «знать» и, рискуя навлечь на себя гнев всемогущего Творца, сорвали плод с дерева познания добра и зла. Каин, жертва которого была неугодна Богу, поднял руку на родного брата – ему казалось, что он совершил убийство во имя справедливости для восстановления попранных прав своих. Со времени Каина ни один человек не мог понять, отчего Творец мира благосклоннее принимает жертву его брата, чем его собственную, и в наши дни Сальери повторяет расправу Каина и отравляет своего брата и благодетеля, Моцарта: «Все говорят – нет правды на земле; но правды нет и выше: для меня так это ясно, как простая гамма». Нет ни одного человека на земле, который бы в этих простых и глубоких словах не узнал собственных мучительнейших сомнений. Отсюда вытекает трагическое творчество, – загадочным образом до сих пор почитающееся всеми высшим родом творчества. Все разгадывается и объясняется. Если сравнить наши знания с знаниями древних, мы окажемся великими мудрецами. Но к загадке о вечной справедливости мы так же мало подошли, как и первый человек, как и убийца Каин. Прогресс, цивилизация, все завоевания человеческого ума в эту область не принесли ничего нового. Как наши праотцы, так и мы с испугом и недоумением останавливаемся при виде уродства, болезни, безумия, нищеты, старости, смерти. Все, что могли сделать до сих пор мудрецы, – это обратить земные ужасы в проблему: может быть, говорят нам, все страшное есть только страшное на вид, и в конце тяжелого пути нас ждет нечто новое. Может быть! Но современный образованный человек, имеющий доступ к мудрости 40 веков исторической жизни человечества, знает об этом не больше, чем древний певец, за свой страх решавший мировые проблемы. Мы, дети угасающей цивилизации, мы, старики от рождения, в этом смысле так же молоды, как и первый человек.
52
Говорят, что нельзя обозначить границу между «я» и обществом. Наивность! Робинзоны встречаются не только на необитаемых островах, но и в самых многолюдных городах. Правда, они не одеваются в звериные шкуры и не имеют при себе чернокожих Пятниц, оттого-то никто их и не узнает. Но ведь Пятница и звериная шкура – последняя вещь, и не они делают человека Робинзоном. Одиночество, оставленность, бесконечное, безбрежное море, на котором десятки лет не видно было паруса, – разве мало наших современников живут в таких условиях? И разве они не Робинзоны, для которых люди обратились в далекое воспоминание, с трудом отличаемое от сновидения?
53
Быть непоправимо несчастным – постыдно. Непоправимо несчастный человек лишается покровительства земных законов. Всякая связь между ним и обществом порывается навсегда. И так как рано или поздно каждый человек осужден быть непоправимо несчастным, то, стало быть, последнее слово философии – одиночество.
54
«Лучше быть несчастным человеком, чем счастливой свиньей» – утилитаристы рассчитывали на этом золотом мосте перебраться через пропасть, отделяющую их от обетованной земли идеализма. Но пришла психология и грубо доложила: «Несчастных людей нет, все несчастные – свиньи». Подпольный философ Достоевского, Раскольников, Гамлет и т. д. – не несчастные люди, судьбу которых можно предпочесть, а несчастные свиньи, и, главное, они сами слишком хорошо это знают… Имеющий уши, да слышит.
55
Homo homini lupus[19 - Человек человеку – волк (лат.).] – одна из незыблемейших предпосылок вечной морали. В каждом из своих ближних мы подозреваем опасного врага и потому боимся его. «Этот человек легкомыслен, – если мы не обуздаем его законом, он нас погубит», – такая мысль является у нас каждый раз, когда кто-нибудь выходит из освященной традицией колеи.
Опасение справедливое: мы так бедны, так слабы, нас так легко разорить и погубить! как же нам не бояться? А между тем, нередко под опасными и грозными поступками кроется нечто значительное и важное, что следовало бы внимательно и сочувственно рассмотреть. Но у страха глаза велики, мы видим опасность и только опасность – и строим мораль, за которой, как за крепостной стеной, отсиживаемся всю жизнь от врагов. Только поэты брались воспевать опасных людей – Дон Жуанов, Фаустов, Тангейзеров. Но с поэтами никто не считается. Здравый смысл ценит гораздо выше комивояжера или приват-доцента, чем Байрона, Гете и Мольера.
33
Возможности, открывающиеся человеку в жизни, сравнительно очень ограничены. Нельзя всего увидеть, нельзя все понять, нельзя ни подняться слишком высоко над землей, ни проникнуть в ее глубину. Что было – навсегда скрыто, что будет – мы не умеем предугадать и наверное знаем, что у нас никогда не вырастут крылья. Закономерность, неизменная закономерность явлений полагает предел нашим стремлениям, загоняет нас на узкий, избитый путь обыденности. Но даже и этот путь не дано нам исходить вдоль и поперек. Мы должны зорко глядеть себе под ноги и на каждом шагу останавливаться, ибо малейшая неосторожность в жизни грозит нам гибелью. Но ведь мыслима и иная жизнь. Жизнь, в которой слово «гибель» не существует, где ответственность за поступки если и не отменена совсем, то не имеет столь рокового и случайного характера, как у нас, и где, с другой стороны, нет «закономерности», а стало быть, есть бесконечное количество возможностей. Там чувство страха – позорнейшее чувство – исчезает. Там, стало быть, и добродетели совсем не те, что здесь. Бесстрашие пред опасностью и щедрость, даже расточительность и у нас почитаются добродетелями, но почитаются без всяких оснований. Сократ был совершенно прав, когда доказывал, что не всякая храбрость, а только храбрость, измеряющая вперед опасность и шансы победы, имеет свое оправдание. В такой же мере правы и те экономные, расчетливые люди, которые осуждают расточительность. Бесстрашие и расточительность не к лицу смертным, которым прилично, ввиду их бессилия и бедности, всегда трепетать и считать каждый свой грош. Оттого-то эти две добродетели так редко встречаются между людьми, и в тех случаях, когда встречаются, вызывают в толпе суеверное благоговение к их носителям. «Этот человек ничего не боится и ничего не жалеет: он, верно, не человек, а полубог, даже, быть может, бог». Сократ не верил в богов и потому хотел оправдать расчетом добродетель. Кант тоже не верил в Бога и потому выводил свою мораль из «закона». Но если есть Бог, если все люди – дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть.
Тогда безумно расточающий свою и чужие жизни и благосостояние, даже свое дарование, свой гений человек правее расчетливых философов, тщетно ищущих устроения человечества на земле.
34
Нравственные люди – самые мстительные люди, и свою нравственность они употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних, они хотят, чтоб их осуждение было всеобщим и обязательным, т. е. чтоб вместе с ними все люди восстали на осужденного ими, чтоб даже собственная совесть осужденного была на их стороне. Только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворенными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам.
35
Закоренелость во зле. Еретиков часто преследовали за ничтожнейшие отступления от господствующих верований. Именно их упорство в пустяках более всего и раздражало. «Отчего они не соглашаются на такую пустую уступку? Серьезных оснований у них не может быть. Они только хотят огорчать нас, делать нам назло». Постепенно вражда шла crescendo, и появлялись костры и пытки, все против закоренелости во зле…
36
Не помню, где я вычитал, у Тургенева или у Толстого, что люди, побывавшие под судом, всегда приобретают особенно благородное выражение лица. Хотя логика и рекомендует осторожность в обратных заключениях, но, куда ни шло, на этот раз позволю себе рискнуть и сделать вывод: благородное выражение в лице есть признак того, что человек побывал под судом – разумеется, не за политическое преступление, а за воровство или взяточничество.
37
Самые важные и значительные мысли, откровения являются на свет голыми, без словесной оболочки: найти для них слова – особое, очень трудное дело, целое искусство. И наоборот: глупости и пошлости сразу приходят наряженными в пестрые, хотя и старые тряпки – так что их можно прямо, без всякого труда, преподносить публике.
38
Странное нетерпение овладело в последнее время русскими писателями. Все взапуски пустились за «последним словом». Им кажется, что последнее слово будет наверное добыто – вопрос лишь в том, кто скорее до него добежит…
39
Появление Сократа на философском горизонте приветствуется всеми историками как величайшее событие. Нравы стали расшатываться, отечеству (Афинам) угрожала гибель. Миссия Сократа была в том, чтобы положить конец той отчаянной раскачке моральных суждений, к которой привел крайний индивидуализм и релятивизм софистов. И великий мудрец сделал, как известно, все, что мог. Он покинул свои обычные занятия и семью, он не заботился о завтрашнем дне и учил, учил, учил – простых людей и знатных, умных и глупых, ученых и невежественных. И тем не менее, он отечества не спас. При Перикле Афины процветали без мудрости или независимо от мудрости Сократа. После Перикла, несмотря на то, что учение Сократа нашло себе такого гениального продолжателя, как Платон, роль и значение Афин все падает, и Аристотель был уже воспитателем сына Филиппа Македонского. Значит, мудрость Сократа не спасла отечества, и так как в этом было ее главное назначение, то, стало быть, она не заслуживает традиционного преклонения; нужно либо найти ей какое-нибудь иное оправдание – это было бы правильнее всего, – либо вообще оставить излюбленный прием метафизиков искать raison d'?tre[20 - Разумное основание (фр.).] мудрости в ее общественном значении. Это прием очень рискованный. Обыкновенно мудрость идет сама по себе, а общество – само по себе. Их соединяют искусственно – ораторы, приучившие публику и философов думать, что только те задачи заслуживают внимания, которые имеют на своей стороне решительно все: и общественную пользу, и мораль, и даже метафизическую мудрость… Зачем так много? Будет и того, если какой-нибудь новый проект окажется полезным! Где нам еще добиваться санкции морали и метафизики! И наоборот, раз законы морали должны быть автономны и идеи стоят над эмпирическими нуждами человечества, значит, противопоставлять им общественные соображения, даже возможную гибель страны, нельзя. Pereat mundus, fiat philosophia.[21 - Пусть мир погибнет, но да будет философия (лат.).]Если Афины погибли даже из-за мудрости Сократа – это ничего против нее не говорит. Так должен был бы рассуждать автономный мыслитель. Но de facto[22 - Фактически (лат.).] мыслитель не слишком любит ссориться с отечеством.
40
Когда писателю нужно высказать наименее обоснованную мысль свою, которой он почему-либо особенно дорожит и для которой он непременно хочет добиться общего признания, он обыкновенно прерывает на время свое изложение, будто бы затем, чтобы перевести дыхание, и делает небольшое, а иногда и большое отступление, в котором доказывает несостоятельность разных, часто даже не связанных с существом дела положений. Уничтожив победоносно одну или несколько глупостей и тем придав себе вид знающего и основательного человека, он снова возвращается к своей задаче в расчете, что к нему, как к доказавшему свою основательность, уже будут относиться с большим доверием. Расчет вполне правильный. Читатель боится возражать такому ловкому диалектику и предпочитает согласиться с ним, ибо спорить в таких случаях очень рискованно. Такими приемами никто не брезгует – даже величайшие умы, особенно в философии. Оттого идеалисты, прежде чем защищать свои теории, разносят материализм. Материалисты тоже когда-то так поступали и имели, как известно, колоссальный успех.
41
Как известно, последовательность обязательна только для учеников, а не для учителей. Творцы великих идей относятся очень пренебрежительно к своим творениям и мало заботятся об их судьбе в мире. Часто детища одного и того же философа так мало похожи друг на друга, что нет возможности найти меж ними даже отдаленные признаки фамильного сходства. Добросовестные ученики, изнывая под бременем непосильной задачи отыскать несуществующее, не раз приходили в отчаяние от своей задачи. Те, кто поумнее, разрешают ее просто. Раз догадавшись, в чем дело, они навсегда отказываются от мысли примирить замечаемые противоречия. Но тем более настаивают они на необходимости изучения философов – изучения обстоятельного, исторического, даже филологического. Таким образом и создалась история философии, в настоящее время вполне заменяющая философию. И ведь история философии, в самом деле, может быть наукой. Ибо путем исторического изыскания, действительно, нередко удается выяснить с большой степенью точности, что именно думал тот или иной философ, в каком смысле он употреблял различные термины и понятия. И так как философов было очень много, то, стало быть, изучение и объяснение их представляет достаточно трудное и почтенное дело, которое вполне заслуживает называться наукой. За хороший перевод или комментарий к главным трудам Канта можно дать человеку диплом доктора философии, т. е. признать его достаточно проникнувшим в важнейшие мировые проблемы. Для какой надобности еще выдумывать новые системы? Или даже писать?
42
Восторги творчества! Пустые слова, придуманные людьми, никогда не имевшими случая по личному опыту судить о том, что такое творчество, добывшими свое суждение путем умозаключения: если творение доставляет нам такое великое наслаждение, то что же должен был испытать сам творец! На самом деле творец обыкновенно испытывает одни огорчения. Всякое творение есть творение из ничего. В лучшем случае пред нами безобразный, бессмысленный, большей частью упорный и твердый материал, с трудом поддающийся обработке. Да и неизвестно, как его обрабатывать. Каждый раз в голову приходит новая мысль, и каждый раз новую мысль, на мгновение показавшуюся блестящей и очаровательной, нужно отбрасывать, как негодный хлам. Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего – неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность. И чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительней его самочувствие. Оттого-то большинство людей, даже гениальных, ? la longue[23 - В конце концов (лат.).] не выносят творческой деятельности. Как только они приобретают технику, они начинают повторяться, зная, что публика не слишком требовательна и довольно охотно выносит однообразие любимца, даже видит в этом достоинство. Всякий ценитель искусства доволен, если узнает в новом произведении «манеру» художника, и мало кто догадывается, что приобретение манеры знаменует собой начало конца. Художники это хорошо понимают и рады бы отвязаться от своей манеры, которая уже им представляется шаблоном. Но это требует слишком большого напряжения сил, новых мук, сомнений, неизвестности – кто однажды пережил «восторги творчества», другой раз добровольно ими не соблазнится. Он предпочитает «работать» по прежде созданному шаблону, лишь бы быть спокойным и твердо уверенным в результатах – благо, кроме него никто не знает, что он уже больше не творец. Сколько тайн в мире, и как легко уберечь тайну от нескромных взоров!
43
Писатель взвинчивает себя, чтобы дойти до состояния экстаза: иначе он не берется за перо. Но экстаз не всякий умеет отличать от других, менее возвышенных видов душевного подъема. И так как писателю почти всегда нужно сочинять, то он обыкновенно не имеет терпения долго выжидать и при первых признаках одушевления начинает изливаться. Оттого-то так часто под именем экстаза преподносятся нам дешевые и ничем не замечательные душевные настроения. Особенно легко смешивают с экстазом тот очень распространенный вид весеннего ликования, для которого наш язык изобрел известный меткий эпитет. И, в конце концов, «телячий восторг» встречает у публики более радушный прием, чем истинное вдохновение и глубокий экстаз. Понятней – и ближе.
44
Школьная посылка: последовательный скептицизм сам себя опровергает, ибо отрицание возможности знания есть уже утверждение. Но во-первых: скептицизму не обязательно быть последовательным, ибо он не имеет никакого желания угождать догматизму, возводящему последовательность в закон. Во-вторых, где та философская теория, которая, если ее довести до крайних пределов, не уничтожала бы самое себя? И отчего от скептицизма требуют большего, чем от других теорий, от скептицизма, который честно заявляет, что он не может дать даже того, на что другие теории претендуют?
45
Аристотелевская логика, вошедшая и в современную логику как ее главная составная часть, явилась, как известно, результатом вечных теоретических состязаний, до которых древние греки были такими охотниками. И действительно, для того, чтобы спорить, нужно иметь общую почву, иными словами, условиться о предпосылках. Но в наше время диалектические турниры, как и всякие другие состязания, уже не привлекают людей. Значит, можно логику отодвинуть на второй план?!
46
В «Портрете» Гоголя художник приходит в отчаяние при мысли о том, что пожертвовал своим искусством ради «жизни». У Ибсена в его драме «Когда мы, мертвые, просыпаемся» тоже художник, прославившийся на весь мир, раскаивается в том, что пожертвовал жизнью – искусству. Теперь – выбирай, какого сорта раскаяние тебе более по вкусу.
47
Человек часто бывает равнодушен к своему успеху до тех пор, пока его имеет. Стоит только ему потерять свое влияние на людей, и он начинает огорчаться. И – наоборот.
48
Инсаров, в качестве человека, готовящегося к битвам, поразил воображение Елены, и она предпочла его Шубину, художнику, и Берсеневу, ученому. Женщины еще с древних времен больше любили воинствующих и военных, чем мирных и статских мужчин. Если бы Тургенев эту мысль облек в менее идеалистическую форму, вероятно, он не сделался бы идолом молодежи. Кто из нас не увлекался Еленой и ее избранником? Кто вообще не увлекался тургеневскими женщинами! А между тем, все они отдаются наиболее сильному мужчине. У «высших людей», как у зверей: самцы борются меж собою, самка следит за их борьбой и по окончании ее признает себя рабой победителя.
49
Гусеница обращается в куколку и долгое время живет в теплом и покойном мирке. Если бы она обладала человеческим сознанием, может быть, она сказала бы, что ее мир есть лучший из миров, даже единственно возможный. Но приходит время, и какая-то неведомая сила заставляет ее начать работу разрушения. Если бы другие гусеницы могли видеть, каким ужасным делом она занимается, они, наверное, возмутились бы до глубины души, назвали бы ее безнравственной, безбожной, заговорили бы о пессимизме, скептицизме и т. п. вещах. Уничтожать то, созидание чего стоило таких трудов! И затем, чем плох этот теплый, уютный, законченный мир! Чтобы отстоять его, необходимо выдумать священную мораль и идеалистическую теорию познания! А до того, что у гусеницы выросли крылья и что она, прогрызши свое старое гнездо, вылетит в вольный мир нарядной и легкой бабочкой – нет никому дела.
Крылья – это мистицизм, самоугрызение же – действительность. Те, которые создают ее, достойны пытки и казни. И на белом свете достаточно тюрем и добровольных палачей: большинство книг тоже тюрьмы, и великие писатели нередко были палачами.
50
Ницше и Достоевский являются типическими «обратными симулянтами», если так можно выразиться. Они притворялись душевно здоровыми, хотя были душевно больными. Они хорошо знали, что больны, но проявляли свою болезнь лишь в той мере, в которой чудачество сходит еще за оригинальность. С чуткостью, свойственной всем, находящимся в постоянной опасности, они никогда не переходили за известную черту. Топор гильотины общественного мнения всегда висел над ними: стоило бы только неловким движением зацепить веревку, и казнь совершилась бы сама собой. Но они умели уберечься от лишних движений.
51
Так называемые последние вопросы в такой же мере волновали человечество в самом начале сотворения мира, как и в наше время. Уже Адам и Ева хотели «знать» и, рискуя навлечь на себя гнев всемогущего Творца, сорвали плод с дерева познания добра и зла. Каин, жертва которого была неугодна Богу, поднял руку на родного брата – ему казалось, что он совершил убийство во имя справедливости для восстановления попранных прав своих. Со времени Каина ни один человек не мог понять, отчего Творец мира благосклоннее принимает жертву его брата, чем его собственную, и в наши дни Сальери повторяет расправу Каина и отравляет своего брата и благодетеля, Моцарта: «Все говорят – нет правды на земле; но правды нет и выше: для меня так это ясно, как простая гамма». Нет ни одного человека на земле, который бы в этих простых и глубоких словах не узнал собственных мучительнейших сомнений. Отсюда вытекает трагическое творчество, – загадочным образом до сих пор почитающееся всеми высшим родом творчества. Все разгадывается и объясняется. Если сравнить наши знания с знаниями древних, мы окажемся великими мудрецами. Но к загадке о вечной справедливости мы так же мало подошли, как и первый человек, как и убийца Каин. Прогресс, цивилизация, все завоевания человеческого ума в эту область не принесли ничего нового. Как наши праотцы, так и мы с испугом и недоумением останавливаемся при виде уродства, болезни, безумия, нищеты, старости, смерти. Все, что могли сделать до сих пор мудрецы, – это обратить земные ужасы в проблему: может быть, говорят нам, все страшное есть только страшное на вид, и в конце тяжелого пути нас ждет нечто новое. Может быть! Но современный образованный человек, имеющий доступ к мудрости 40 веков исторической жизни человечества, знает об этом не больше, чем древний певец, за свой страх решавший мировые проблемы. Мы, дети угасающей цивилизации, мы, старики от рождения, в этом смысле так же молоды, как и первый человек.
52
Говорят, что нельзя обозначить границу между «я» и обществом. Наивность! Робинзоны встречаются не только на необитаемых островах, но и в самых многолюдных городах. Правда, они не одеваются в звериные шкуры и не имеют при себе чернокожих Пятниц, оттого-то никто их и не узнает. Но ведь Пятница и звериная шкура – последняя вещь, и не они делают человека Робинзоном. Одиночество, оставленность, бесконечное, безбрежное море, на котором десятки лет не видно было паруса, – разве мало наших современников живут в таких условиях? И разве они не Робинзоны, для которых люди обратились в далекое воспоминание, с трудом отличаемое от сновидения?
53
Быть непоправимо несчастным – постыдно. Непоправимо несчастный человек лишается покровительства земных законов. Всякая связь между ним и обществом порывается навсегда. И так как рано или поздно каждый человек осужден быть непоправимо несчастным, то, стало быть, последнее слово философии – одиночество.
54
«Лучше быть несчастным человеком, чем счастливой свиньей» – утилитаристы рассчитывали на этом золотом мосте перебраться через пропасть, отделяющую их от обетованной земли идеализма. Но пришла психология и грубо доложила: «Несчастных людей нет, все несчастные – свиньи». Подпольный философ Достоевского, Раскольников, Гамлет и т. д. – не несчастные люди, судьбу которых можно предпочесть, а несчастные свиньи, и, главное, они сами слишком хорошо это знают… Имеющий уши, да слышит.
55