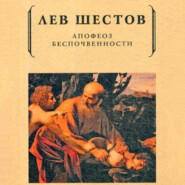По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Апофеоз беспочвенности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К учению о методах. Какой-то естествоиспытатель произвел следующий опыт: в стеклянный сосуд, разделенный на две половины стеклянной же, совершенно прозрачной перегородкой, поместил по одну сторону щуку, а по другую – разную мелкую рыбу, которая обыкновенно служит щуке добычей. Щука не заметила прозрачной перегородки и бросилась на добычу, но, разумеется, только зашибла пасть. Много раз проделывала она свой опыт – и все с теми же результатами. Под конец, видя, что все ее попытки так печально кончаются, щука уже больше не пробовала охотиться, так что даже когда через несколько дней перегородку вынули, она продложала спокойно плавать между мелкой рыбой и уже боялась нападать на нее… Не происходит ли то же и с людьми? Может быть, их предположения о границах, отделяющих «посюсторонний» мир от «потустороннего», тоже, в сущности, опытного происхождения и вовсе не коренятся ни в природе вещей, как думали до Канта, ни в природе нашего разума, как стали утверждать после Канта. Может быть, перегородка действительно существует и делает тщетными обычные попытки перебраться за известные пределы познания – но, вместе с тем, может быть, в нашей жизни наступает момент, когда перегородка уже вынута. Но тогда в нас уже прочно укоренилось убеждение, что дальше известной черты нельзя идти, что дальше будет больно. Убеждение, основанное на опыте. Тут-то бы и следовало вспомнить старый скептицизм Юма, который в идеалистической философии принято считать только тонкой игрой ума, потерявшей всякий интерес и значение после критики Канта. Самый продолжительный и разнообразный опыт не может привести ни к одному обязательному и всеобщему заключению. И наоборот, все наши так называемые a priori – оказывающие большую практическую пользу, рано или поздно начинают приносить большой вред. Философу нужно не бояться боли скептицизма и продолжать без конца свои опыты, не смущаясь безрезультатностью предыдущих попыток и перспективой крепко зашибить пасть. Может быть, неудача метафизики в том и коренилась, что метафизики, очень бескорыстные и смелые на вид, в сущности были чрезвычайно расчетливы и боязливы. Они прежде всего добивались покоя – ведь на философском языке высшим благом называется покой. А им бы следовало оценить выше всего постоянное беспокойство, бесцельное и непланомерное даже. Как знать, когда вынется перегородка? Весьма вероятно, что именно в тот момент, когда человек перестал гнаться за добычей, разрешил все свои вопросы и почил на лаврах, т. е. застыл в неподвижности, он мог бы одним смелым и сильным движением перелететь через заколдованную черту, отделявшую от него область непознаваемого. И вовсе нет надобности, чтобы движение его было результатом заранее обдуманного плана. Это уже чисто эстетическое требование, которым не грех и поступиться. Пусть человек бессмысленно и исступленно колотился головой о стену – но если в конце концов стена подалась, разве мы будем оттого меньше торжествовать нашу победу? Наше горе в том, что люди создали себе иллюзию, будто бы планомерность наиболее всего обеспечивает успех! Боже, какое это заблуждение: ведь почти несомненно обратное. Все наиболее замечательное, что создавалось гением, являлось результатом фантастического, бестолкового, казавшегося всем смешны и ненужным, но упорного искания. Знал разве Колумб, что по ту сторону океана лежит новый материк? Ему не сиделось на месте, и он поплыл на Запад искать нового пути в Индию. Да и вообще гений, вопреки общераспространенному предрассудку, самое бестолковое, а потому и самое беспокойное существо. Недаром еще в древние времена гения считали сродни помешанному. Гений обыкновенно бросается из стороны в сторону главным образом потому, что у него нет того Sitzfleisch,[40 - Усидчивость (нем.)] который является залогом успеха трудолюбивой посредственности. Можно с уверенностью сказать, что гениальных людей было гораздо более на свете, чем вписано на страницы истории славных имен. Ибо гения признают только тогда, когда он сделает чтолибо полезное для человечества. В тех же случаях, когда метания гения не приводят ни к каким осязательным результатам – а нужно думать, что большей частью именно так и бывает – он возбуждает в окружающих людях только чувство отвращения и омерзения. Сам не знает покоя и другим покоя не дает. Если бы Достоевский или Лермонтов жили в такие времена, когда спроса на книги не существовало, их бы никто не заметил. О преждевременной смерти Лермонтова даже не пожалели бы. Пожалуй еще какой-нибудь добродетельный и уравновешенный гражданин, которому надоели вечные и опасные причуды Лермонтова, сказал бы: собаке собачья смерть! То же о Гоголе, Толстом, Пушкине. Теперь их прославляют, потому что они оставили интересные сочинения!.. Итак, утверждения о бесплодности и ненужности скептицизма не заслуживают никакого внимания – даже в том случае, если речь идет о самодовлеющем скептицизме, который не имеет своей целью отыскание какой-нибудь новой системы (за таким скептицизмом, как известно, признается законное право на существование – философы даже убеждены, что другого скептицизма не бывает), который не имеет вообще никаких заранее поставленных целей. Колотиться головой об стену из ненависти к стене и еще более из ненависти ко всем тем «идеям», которые предлагаются нам взамен настоящей разгадки вечной тайны – перспектива не заманчивая?! Но ведь зато впереди – неизвестность и самые широкие возможности взамен нынешних «идеалов»?! И это не соблазняет? Высшее благо есть покой? Не стану спорить: de gustibus aut nihil aut bene…[41 - О вкусах или ничего, или хорошо (лат.).] Кстати, – не правда ли, превосходный принцип? А меж тем он, как и многое другое превосходное, добыт совершенно случайно и не мной, к сожалению, а одним из комических персонажей чеховской «Чайки». Перепутал две латинских поговорки, и вышло синтетическое суждение хоть куда, которому для того, чтобы стать априорным, недостает только общеобязательности. Я боюсь, что догматики не согласятся так терпимо отнестись ко вкусам своих противников. Скорей будут браниться и негодовать. Ибо как догматикам обойтись без негодования? Доказательств у них нет, и вся их хваленая устойчивость держится только на «морали»…
4
Метафизики восхваляют трансцендентное, но тщательно избегают соприкосновения с ним. Ницше ненавидел метафизику, воспевал землю – bleibt mir der Erde treu, о meine Br?der[42 - Братья, сохраним верность земле (нем.).] – и всегда жил в области трансцендентного. Метафизики, конечно, поступают «лучше» – это очевидно и бесспорно. Тот, кто хочет быть учителем, должен проповедовать метафизическую точку зрения: она дает возможность прослыть героем человеку, никогда не нюхавшему пороха. А так как учитель обязан доставлять своим ученикам возможность достигать значительных целей без всякого риска и при минимальной затрате сил, то, стало быть, в те тревожные периоды, когда позитивизм перестает казаться людям достаточно исчерпывающим выражением всей сложности жизни и когда, соответственно этому, людям начинает казаться неприлично изображать из себя положительность – в такие времена нет лучшего выхода, чем обратиться к метафизическим теориям. При помощи хорошей метафизической теории даже безродный юноша, не исходивший и десятой доли позитивных путей, сразу приобретает таинственный и интересный вид всеведущего мудреца. Он даже имеет право презирать позитивизм и – это самое главное – позитивистов. Он становится первым пред целой массой последних – чуть ли не пред всем человечеством, не имеющим доступа к ученым книгам и потому не знающим никаких теорий. И такой блестящий результат достигается посредством чтения десятка-другого сочинений – правда, скучноватых и неудобовоспринимаемых. Естественно, что и ученик, и учитель проникаются глубоким уважением к трансцендентному, которое дает столь ценные для нашего самолюбия прерогативы не там, в проблематической иной жизни, а здесь, в этом несомненном для всех мире. В наше время юноше не приходится завидовать Александру Македонскому, успевшему в молодые еще годы завоевать весь мир. Теперь, при помощи книг, завоевываются не только земные государства, но вся вселенная! Метафизика есть великое искусство обходить опасный жизненный опыт. И потому метафизики могут быть названы позитивистами par excellence.[43 - По преимуществу (лат.).] Они презирают не всякий опыт, как они утверждают, а только опасный опыт. Чувство самосохранения и способность к приспособлению в них настолько развиты, что еще задолго до появления врага они начинают готовиться к защите. И пользуются безопаснейшим способом борьбы – тем, что англичане называют mimicry.[44 - Мимикрия.] Чуть приблизится трансцендентное – метафизик уже почти рефлексивно, без всяких усилий воли до неузнаваемости окрасился в трансцендентные цвета. Постулаты свободы воли, бессмертия души, даже Бога – разве может кто-нибудь эти и им подобные утверждения заподозрить в позитивности? И как метафизикам, столь легко разделавшимся с «метафизической потребностью», не любить трансцендентного? И как примириться им с Ницше и с его ненавистью к трансцендентному, ставшему для него чуть ли не повседневной атмосферой? А потому правило – для учеников, разумеется: учителя и без меня знают – тот, кто хочет быть искренним метафизиком, должен самым тщательным образом избегать рискованных экспериментов. Шиллер когда-то поставил вопрос: как может трагедия доставлять людям наслаждение? Ответ – если передать его «своими словами», – гласил: чтоб испытать наслаждение от трагедии, нужно ее видеть только со сцены. Чтоб любить трансцендентное – нужно его тоже видеть только со сцены или в книгах философов. Это называется идеализмом, самым красивым словом, какое только было изобретено до сих пор философствовавшими людьми.
5
Poёtae nascuntur.[45 - Поэтами рождаются (лат.).] – Удивительное существо человек! Там, где он не может, он утверждает, что существует объективная невозможность. Еще в прошлом столетии, до изобретения телеграфов и телефонов, человек с уверенностью сказал бы, что невозможно переговариваться Европе с Америкой. Теперь это стало возможным. Мы не умеем воспитывать поэтов и говорим, что поэты рождаются. Разумеется, если мы заставим ребенка изучать различные литературные образцы, начиная с древнейших и кончая новейшими, то этим мы из него не сделаем поэта, точно так же, как никто бы нас не услышал в Америке, как бы громко не кричали мы в Европе. Чтоб сделать человека поэтом, его вовсе не нужно «развивать» в общепринятом смысле. Может быть, следует от него прятать книги. Может быть, нужно произвести над ним какую-нибудь операцию, которая в наших глазах угрожает ему только опасностью, даже гибелью, например – проломить ему голову или выбросить его из четвертого этажа. Я понимаю, насколько рискованны эти средства, и отнюдь не собираюсь рекомендовать их для общего употребления взамен старых педагогических приемов. Но не в этом дело! Почитайте историю великих людей и поэтов! Кроме Джона Стюарта Милля и еще двух-трех положительных мыслителей, у которых были ученые отцы и добродетельные матери, никто из замечательных людей не может похвалиться – нужно было бы сказать – пожаловаться на правильное воспитание. В их жизни почти всегда решительную роль играл случай, который наш разум наверное назвал бы бессмысленным, если бы разум имел смелость возвышать свой голос даже и тогда, когда он имеет против себя несомненный успех. Что-нибудь вроде проломленного черепа или прыжка из четвертого этажа – и не только метафорически, а нередко и в буквальном смысле этих слов – таково обыкновенно начало деятельности гения, иногда видимое, большей же частью скрытое. А мы затвердили: po?t? nascuntur, и глубоко убеждены, что это необыкновенная истина, настолько возвышенная, что ее и проверять не нужно.
6
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Уже Писарев возмущался этими стихами, и нужно полагать, что если бы они не принадлежали Пушкину, вся критика давно бы осудила их – а с ними и их автора, ибо какой смысл осуждать творение и обелять творца? Странные, подозрительные стихи! Пока поэта не призвал Аполлон – он ничтожнейший из смертных! Обыкновенный человек в часы, свободные от обязательного или добровольного труда, находит себе более или менее интересное и благородное развлечение: он охотится, посещает выставки и театры, наконец, отдыхает в своей семье. Но поэт не способен к нормальной жизни. Чуть Аполлон освободит его от службы, он сейчас же, забыв алтарь и жертвоприношенье, начинает заниматься какими-нибудь гадостями или пустяками. Или же предается совершенному бездействию: обычное времяпрепровождение всех любимцев Муз. Нужно заметить, что не только поэты, но и все вообще писатели, артисты и художкики большей частью ведут очень дурную жизнь. Вспомните, что гр. Толстой рассказывает в «Исповеди» и других своих сочинениях о лучших представителях литературы 50-х годов. И ведь рассказывает, в сущности, правду, т. е. то же, что и Пушкин в своих стихах. Пока писатель сочиняет – т. е. думает и пишет, – он чего-нибудь стоит: но вне исполнения своих обязанностей он ничтожнейший из людей. Является вопрос: отчего Аполлон и Музы так неразборчивы и вместо того, чтоб награждать высокими дарованиями добродетель, они приближают к своим особам порок. Заподозрить в дурных намерениях богов, хотя бы и свергнутых, у нас нет никакого основания. Наверное, Аполлон любил добродетельных людей – но, очевидно, добродетельные люди безнадежно посредственны и совсем не годятся в жрецы. Так что если кому-нибудь из них слишком захочется попасть на службу к светлому богу песен, то первым делом ему нужно проститься со своими добродетелями. Люди это менее всего подозревают и обыкновенно думают, что именно добродетелью можно легче всего заслужить расположение и милость Аполлона. И так как на земле главной добродетелью считается трудолюбие, то они стараются, не покладая рук, работать, днем и ночью, утром и вечером. И, конечно, чем больше они работают, тем меньше выходит толку. Они не понимают, что это значит, начинают злиться, выходить из себя, роптать. Они даже забывают святое искусство, которому хотели отдать себя, бросают неблагодарный труд, начинают предаваться леня и другим порокам. И иногда бывает, что именно в этот момент, когда сам человек и все его близкие менее всего считают его достойным милости богов, его вдруг начинают посещать так долго не являвшиеся на зов Музы. Так было, например, с Достоевским и со многими другими значительными поэтами. Один Шиллер как будто бы ухитрился обойти Аполлона. А может быть, он обошел своих биографов: немцы так доверчивы, их так легко обмануть. Они, например, не видели ничего странного в том обстоятельстве, что Шиллер имел обыкновение во время работы держать ноги в холодной воде. И что значит, если бы он жил у экватора, где вода ценится на вес золота и где поэт не только не может каждый день брать ножную ванну, но не всегда может вволю напиться, то, может быть, в речах маркиза Позы убыло бы наполовину благородства. Вероятно, Шиллер тоже не был таким уже непорочным, если ему для составления возвышенных речей требовалось искусственное возбуждение. Словом, так или иначе – свидетельству Пушкина не верить нельзя. Поэт, с одной стороны, – избранник, с другой – ничтожнейший из людей. Отсюда, если угодно, можно сделать очень утешительный вывод: ничтожнейшие люди вовсе не так уже ни на что не нужны, как это принято думать. Они не годятся в чиновники или профессора, но на Парнасе и других возвышенных местах их встречают с распростертыми объятиями. Порок награждается Аполлоном, добродетель, как известно, настолько довольна собой, что ни в какой награде не нуждается. Чего воют пессимисты? Лейбниц был совершенно прав: мы живем, в лучшем из возможных миров. Я предложил бы даже опустить ограничивающее слово «возможных»…
7
Das ewig Weibliche[46 - Вечно женственное (нем.).] у русских писателей. – Пушкин и Лермонтов не боялись женщин и любили их. Пушкин, доверявший своей натуре, любил много раз и всегда воспевал тот род любви, которому он предавался в данную минуту. Когда он увлекался вакханками, он воспевал вакханок. Когда он женился, он забыл свои молодые увлечения и выше всего ценил скромную смиренницу, жену свою. Синтетический ум, вероятно, не знал бы, что ему делать со всеми видами любви Пушкина. Которому отдать предпочтение? А не отдать предпочтения нельзя, ибо как иначе получить единство? Не лучше обстоит дело и с Лермонтовым. Он всегда бранил женщин, но, как еще заметил Белинский после своей встречи с ним, больше всего на свете любил женщин – и опять-таки не женщин какого-нибудь определенного типа и душевного склада, а всех интересных и увлекательных женщин: дикую Беллу, милую Мери, Тамару, словом, без различия племен, наречий, состояний. И с Лермонтовым моралист (или синтетический ум – это одно и то же: поскребите синтетического философа и вы найдете моралиста) ничего не может поделать. Каждый раз, когда Лермонтов любит, он уверяет, что его любовь очень глубока и даже нравственна, и так горячо и искренне об этом рассказывает, что совестно его судить. Один Вл. Соловьев не побоялся выступить с обличениями. Он и Пушкина, и Лермонтова привлекал к ответственности по поводу нарушения различных правил морали и даже утверждал, что это не он сам судит, что он только глашатай Судьбы. И Лермонтов, и Пушкин заслужили смерти своим легкомыслием. Но кроме Вл. Соловьева никто не тревожил памяти великих поэтов. Гр. Толстой, разумеется, не в счет. Гр. Толстой не может простить Пушкину его распутной жизни и даже для приговора не считает нужным обращаться к Судьбе за ее согласием. У Толстого мораль достаточно сильна, чтобы справиться даже с таким великаном, как Пушкин, и обходиться без всяких союзников. У Толстого мораль всегда крепнет, когда ей предстоит большое дело. Слабого, склонного к уступкам противника она сейчас же без долгих разговоров милует и освобождает от ответственности – но зато она никогда не прощает гордости и самоуверенности. Если бы приговоры Толстого приводились в исполнение – давно были бы уже разрушены все памятники, поставленные Пушкину. И главным образом, за пристрастие поэта к «вечно женственному». В таких случаях Толстой неумолим. Он признает и понимает еще любовь, которая имеет своей целью основание семьи. Но не больше. Любовь Дон-Жуана кажется ему смертным грехом. Помните рассуждения Левина по поводу падших, но милых созданий и пайка? Левин затыкает глаза и уши, чтоб только не слышать рассказов Стивы Облонского. И негодует, возмущается, забывает даже обязательное для него сострадание к падшим, которых он грубо называет «тварями». С представлением о «вечно женственном» у толстого неразрывно связана мысль о соблазне, грехе, искушении, о великой опасности. А раз опасность, следовательно, прежде всего нужно остерегаться, т. е. по возможности дальше держаться. Но ведь опасность – это дракон, который приставлен ко всему, что бывает важного, значительного, заманчивого на земле. И ведь затем – как человек ни оберегайся, рано или поздно судьбы ему не миновать: придется столкнуться с драконом. Это ведь аксиома. Пушкин и Лермонтов любили опасность и потому смело подходили к женщинам. Они дорогой ценой заплатили за свою смелость – зато жили легко и свободно. Ведь, в сущности, если бы они захотели заглянуть в книгу судеб – они могли бы предотвратить печальную развязку. Но они предпочитали без проверки полагаться на свою счастливую звезду. В нашей литературе Толстой первый (о Гоголе здесь не может быть речи) начал бояться жизни и не доверять ей. И первый начал открыто морализировать. Поскольку того требовало общественное мнение и личная гордость – он шел навстречу опасности, но ни на шаг дальше. Оттого-то он и избегал женщин, искусства и философии. Любовь an sich,[47 - В себе (нем.).] т. е. не приводящая к семье, как и мудрость an sich, т. е. размышления, не обусловленные практическими целями, или искусство ради искусства представлялись ему величайшими соблазнами, неминуемо губящими человеческую душу. Когда он заходил слишком далеко в своих размышлениях – его охватывал панический ужас. «Мне начинало казаться, что я схожу с ума, и я уехал на кумыс к башкирам». Такие и подобные признания вы встречаете очень часто в его сочинениях. И ведь иначе с соблазнами бороться нельзя: нужно сразу, резко оборвать себя – иначе будет поздно. Толстой сохранил себя только благодаря врожденному инстинкту, всегда своевременно подсказывавшему ему верный выход из трудного положения. Если бы не эта сдерживающая способность, он, вероятно, плохо кончил бы, как Пушкин или Лермонтов. Правда, могло случиться, что он выведал бы у природы и рассказал бы людям несколько важных тайн – вместо того, чтобы проповедовать воздержание, смирение и простоту. Но это «счастье» выпало на долю Достоевского. Достоевский, как известно, тоже имел очень сложные и запутанные дела с моралью. Он был слишком исковеркан болезнью и обстоятельствами для того, чтобы правила морали могли пойти ему на пользу. Душевная, как и телесная гигиена, годится только для здоровых людей – больным же, кроме вреда, она ничего не приносит. Чем больше путался Достоевский с высокими учениями о нравственности, тем безысходнее он запутывался. Он хотел уважать в женщине человека и только человека и доуважался до того, что не мог видеть равнодушно ни одной женщины, как бы безобразна она ни была. Федор Карамазов и его история с Лизаветой Смердящей – в чьей еще фантазии могли родиться такие образы? Достоевский, конечно, бранит Федора, и это, по обычаям, существующим в нашей критической литературе, считалось достаточным, чтоб снять с него всякие подозрения. Но есть и иной суд. Если писатель докладывает вам, что нет такой отвратительной мовешки, которая своим безобразием могла бы заставить вас позабыть, что она женщина, и если для иллюстрации этой оригинальной идеи рассказывается история Федора Карамазова с безобразной идиоткой, полуживотным Лизаветой Смердящей – то пред лицом такого «творчества» сохранить привычную доверчивость по меньшей мере неуместно. Иное дело оценка идей и вкусов Достоевского. Я отнюдь не берусь утверждать, что мы, склонные разделять точку зрения Пушкина и Лермонтова и умеющие разглядеть das ewig Weilbliche только в интересных, красивых и молодых женщинах, имеем какие бы то ни было преимущества пред Достоевским. Нам, разумеется, не возбраняется жить по своим вкусам и даже бранить, как Толстой, некоторых женщин тварями. Но утверждать, что мы выше, лучше Достоевского – кто дал нам это право? Если судить «объективно», то все данные за то, что Достоевский был «лучше» – по крайней мере, видел больше, дальше. Он умел там найти своеобразный интерес, разглядеть das ewig Weibliche, где мы ничего не видели, где даже сам Гете отвернулся бы. Елизавета Смердящая не тварь, как сказал бы Левин, а женщина, женщина, которая способна хоть на мгновение возбудить чувство любви в человеке. А мы думали, что она ничтожество, хуже, чем ничтожество, ибо возбуждает отвращение. Достоевский сделал открытие, а мы со своими тонкими чувствами опростоволосились?! Его изуродованное, ненормальное чувство обнаружило великую чуткость, которой не научила нас наша высокая мораль… И путь к великой истине на этот раз, как и всегда, ведет через безобразие? Идеалисты не согласятся с этим. Они справедливо опасаются, что до истины не доберешься и завязнешь в грязи. Идеалисты расчетливые люди и вовсе не так глупы, как можно думать, если принимать в соображение только их идеи.
8
Новые мысли, даже собственные, не скоро завоевывают наши симпатии. Нужно сперва привыкнуть к ним.
9
Точка зрения. Каждый писатель, мыслитель – даже, пожалуй, каждый образованный человек считает необходимым иметь одну постоянную точку зрения. Взберется на какую-нибудь вышку и оттуда не спускается уже до самой смерти. Что увидит со своей точки – то считает действительностью, истиной, правдой, добром, чего не увидит, того не признает. Очень винить за это человека нельзя. Оно и в самом деле небольшая радость таскаться по точкам зрения и каждый раз перекочевывать с одной вершины на другую. Ведь крыльев у нас нет, и выражение «крылатая мысль» только красивая метафора, если, разумеется, не иметь ввиду логического мышления. Тут, действительно, наблюдается необыкновенная легкость – но ведь она покупается ценой совершенной наивности, чтоб не сказать невежества. Тот, кому нужно в самом деле что-нибудь знать, а не только иметь «мировоззрение», тот на логику не рассчитывает и не увлекается соблазнами мысли. Тому всю жизнь свою приходится перебираться с вершины на вершину, а когда нужно, зимовать и в долинах. Ибо широкий горизонт приводит к иллюзиям, и для полного ознакомления с предметом нужно подойти к нему поближе, прикоснуться, ощупать его, осмотреть его сверху, снизу, со всех сторон. И если нельзя иначе, то приходится поступиться даже привычным положением собственного тела: изогнуться, прилечь, стать даже на голову, словом, принимать самые неестественные позы. Может ли тут быть речь о точке зрения, о постоянном наблюдательном пункте? Чем больше гибкости и подвижности у человека, чем меньше он дорожит естественным равновесием тела, чем чаще меняет он пост свой – тем больше увидит и узнает он. И наоборот: если он вообразил, что с той или иной вершины удобнее всего обозревать мир и жизнь – махните на него рукой: он никогда ничего не будет знать. Я бы даже сказал: он ничего не хочет знать и хлопочет об удобствах для себя, а не о выгодах своего дела. Он наверное добьется славы и успеха, и таким образом блестяще оправдает свою «точку зрения».
10
Слава.– С мира по нитке – голому рубаха. Нет такого бедняка, у которого бы не было лишней нитки и который пожалел бы ее отдать не то что голому, но и одетому – вообще первому встречному. Нужно думать, что бедняки, которым всегда хочется забыть о своем убожестве и разгуляться вовсю, особенно охотно несут по первому зову свои нитки. И скорей отдают их богатым, чем своему же брату, голяку: облагодетельствовать богача – ведь для этого самому нужно быть богатым. Вот почему в мире так легко создается слава. Честолюбивый человек требует от толпы выражения удивления и благоговения, и она редко кому в этом отказывает. Глотки свои, не покупные, ладони крепкие – почему же не покричать и не похлопать, особенно если от твоих криков кружится голова и не у такого же голяка, последнего человека, а у будущего героя, Бог знает как высоко поставленного над всеми. Прибитый и приниженный обыватель, до сих пор за крики свои попадавший в участок, вдруг чувствует, что его глотка приобрела цену, что ею дорожат. Никто даже из равных ему никогда не придавал значения его суждениям, да ведь они, в сущности, ничего и не стоят, а теперь из-за них готовы ссориться чуть ли не семь городов, как из-за права называться родиной Гомера. И обыватель тешится, кричит во всю глотку, даже готов на посильные материальные жертвы. А герой доволен: чем больше шуму, тем больше верит он в себя, в свое провиденциальное назначение – во что только ни верят герои, очень скоро забывающие из каких элементов составились их слава и богатство! Герои ведь обыкновенно убеждены, что они выступили на свое поприще не затем, чтоб попрошайничать у нищих, а чтоб благодетельствовать человечество. Если б они умели вспомнить, с каким бьющимся сердцем ждали они первого хлопка, первого подаяния, как робко заискивали они у оборванных, голодных и холодных бедняков – может быть, у них не хватило бы дерзости так громко говорить о своих заслугах. Но память наша хорошо знает Спенсера и закон приспособления, и этим объясняется существование многих людей, искренне верующих в свою непорочность и добродетельность.
11
В защиту справедливости. – Неопытные и непроницательные наблюдатели видят в справедливости бремя, которое некоторые избранные люди добровольно возлагают на себя из «уважения к закону» или по иным возвышенным и необъяснимым соображениям. Но на самом деле справедливый человек имеет не только обязанности – но и права. Правда, иной раз, в тех случаях, когда закон против него, ему приходится кой-чем и поступиться. Но зато как часто закон его поддерживает! Он может быть как угодно жестоким, лишь бы не нарушить правила. Больше того – он свою жестокость поставит себе в заслугу, ибо он действует не так, как другие люди, по личным соображениям, а во имя святой справедливости. И вообще, что бы он ни делал, раз есть санкция, он видит в своих поступках заслуги, заслуги и заслуги. Скромность мешает ему много говорить о себе, – но, в сущности, если б он захотел быть откровенным, какой бы пышный панегирик мог бы он прочесть себе! И он, вспоминая о своих делах, постоянно хвалит себя, только не вслух, а про себя. Самое понятие о добродетели этого требует: человек должен радоваться своей нравственности и вспоминать о ней как можно чаще. И после этого утверждают, что быть справедливым – очень тяжело! Я не скажу этого о других добродетелях, но справедливость, наверное, может быть объяснена не только общественно-утилитарными соображениями, всегда сбивающимися на «идейные» объяснения, но даже просто своекорыстными побуждениями. Положительно стоит иной раз поступиться даже значительными интересами, чтоб потом всю жизнь гордо и уверенно пользоваться остальными, освященными моралью и общественным мнением правами. Посмотрите на немца, который внес свою лепту в общество подаяния помощи бедным! Он больше ни гроша не даст нищему – хоть умри тот с голоду на его глазах – и чувствует себя правым. Это – символ справедливости: уплатить умеренную пошлину за право всегда пользоваться санкцией высшего начала. Оттого справедливость в ходу у культурных, расчетливых народов. Русские до этого еще не дошли. Они боятся обязанностей, возлагаемых на человека справедливостью, не догадываясь, какие огромные права и преимущества дает она. У русского – вечные дела с совестью, которые ему обходятся во много раз дороже, чем самому нравственному немцу или даже англичанину его справедливость.
12
Вернейшее средство освободиться от надоевших истин – это перестать платить им обычную дань уважения и благоговения и начать обращаться с ними запросто, даже с оттенком фамильярности и презрения. Взять, как это делал Достоевский, в кавычки такие слова, как добро, прогресс, самопожертвование, идея и т. д. – одним этим уже большего добьешься, чем рядом самых блестящих и ученых доказательств. Пока вы оспариваете права какой-нибудь истины – вы все еще верите в нее, и это чувствует каждый, даже не очень восприимчивый человек. Но вы не удостаиваете ее даже спора и только изредка бросаете по ее адресу небрежное или насмешливое замечание – это дело иное. Очевидно, вы перестали ее бояться и уважать: тут есть над чем задуматься.
13
Четыре стены. Кабинетная философия осуждается – и совершенно справедливо. Кабинетный мыслитель обыкновенно занимается тем, что придумывает себе мнения решительно обо всем, что происходит в мире. Его интересуют «вопросы» о положении мирового рынка и о существовании мировой души, о беспроволочном телеграфе и о загробной жизни, о пещерном человеке и об идеальном совершенстве и т. д. без конца. Главная его задача – так подобрать свои суждения, чтоб в них не было внутреннего противоречия и чтоб они хоть с виду походили на истину. Эта работа, может быть, и не совсем лишенная интереса и тихой занимательности, все-таки, в конце концов, приводит к очень бедным результатам. Ведь похожие на истину суждения все-таки еще не истины; обыкновенно, они даже с истиной не имеют ничего общего. Затем, человек, берущийся обо всем говорить, вероятнее всего, ничего не знает. Так лебедь умеет и летать, и ходить, и плавать – но плохо летает, плохо ходит и плохо плавает. Кабинетный ученый, ограниченный четырьмя стенами своей комнаты, ничего, кроме этих стен, не видит, но именно о стенах не хочет говорить: он им не придает значения, он их не чувствует. А между тем, если бы он их случайно почувствовал и заговорил об них, его речи приобрели бы неожиданный и огромный интерес. Это иногда и бывает, когда кабинет превращается в тюрьму. Те же четыре стены, но не думать о них нельзя. О чем бы человек ни вспомнил, – о Гомере, о греко-персидских войнах, о будущем вечном мире, о прошлом геологическом перевороте – все будет ассоциироваться у него с четырьмя стенами. Ровность и однообразие кабинетного настроения сменятся у него великим пафосом невольного заключения. По-прежнему человек не видит мира и не сталкивается с ним, но он не дремлет, как прежде, и не грезятся ему серенькие мировоззрения – он бодрствует и живет всеми силами своей души. К такой философии стоит прислушаться. Но люди не отличаются наблюдательностью. Если они видят одиночество и четыре стены, они говорят: кабинет. По их мнению, жизнь возможна только на рынке, где много шума и осязаемого, наружного движения. Разве это так? На рынке, среди пестрой, изменчивой толпы часто люди всю свою жизнь спят сном праведников, а величайшая душевная работа происходит в абсолютном уединении.
14
Спартанцы напаивали илотов в назидание и поучение благородным юношам: тот, кто однажды видел, как безобразен пьяный человек, никогда не соблазнится вином. Прием хороший – спорить нельзя. Но что делать нам, людям XX столетия? Рабов нет, кого напаивать? Мы обзавелись для этой цели художественной литературой. В романах, повестях, рассказах изображаются пьяные, развратные, вообще сошедшие со стези добродетели люди и изображаются в таком непривлекательном, безобразном виде, что у всякого читателя пропадает охота предаваться порокам. К сожалению только, наши художники недостаточно прямолинейны или слишком добросовестны. Вместо того, чтобы подражать древним спартанцам, которые делали все, от них зависящее, чтобы представить илотов как можно более отвратительными, у нас стараются правдиво изображать порок. Реализм одолел! Подумаешь, чего стесняться? Что за беда, если порок в изображении писателя выйдет немного или много безобразнее, чем на самом деле? Неужели справедливость придумана затем, чтобы все охранять, даже зло? Ведь зло искоренять нужно и только искоренять – оно должно быть раз навсегда объявлено находящимся вне покровительства законов, даже нравственных законов. Спартанцы не считали нужным церемониться с живыми илотами, а наши романисты боятся оказаться недобросовестными по отношению к воображаемым пьяным илотам! Из гуманности, будто бы… Сколько нужно наивности, чтобы поверить такому объяснению. А меж тем, все ему верили – только один гр. Толстой, и то лишь под старость, догадался, что гуманность здесь только предлог и что у нас изображают порок (не в бульварных романах, а в классических произведениях) вовсе не с тем, чтобы пугать читателей. В современных учителях слово «порок» возбуждает не чувство отвращения, а любопытство, любознательность. Может быть, его напрасно гнали, как напрасно гнали многое хорошее на земле?! Может быть, к нему нужно присмотреться, может быть, у него нужно поучиться?!. Может быть… мало ли что может быть?! На основании таких «может быть» мораль понемногу совсем забросили, и гр. Толстой остался почти одиноким со своим негодованием. В литературе царствует реализм, и пьяный илот вызывает зависть в робких читателях, не знающих, чему довериться: традиционным ли правилам или призыву учителей слова. Пьяный илот, как идеал! До чего мы дожили! Не лучше ли было оставаться при старых законах Ликурга? Не слишком ли дорого мы заплатили за наш прогресс?
Многие находят, что слишком дорого. Я уже не говорю о гр. Толстом, суждения которого, благодаря тем крайностям, в которые он впал, уже почти никем не принимаются серьезно – хоть его и продолжают называть великим человеком. Великому человеку тоже не все позволено, и если он сам сбрасывает с себя путы, то общественное мнение имеет достаточно способов обуздать его, даже не прибегая к насилию. Кто скажет «шуйца», кто вспомнит о нигилизме, а кто даже об анархизме заговорит. Несколько таких слов, и готова стена, которую не разрушишь и иерихонскими трубами. С суждениями Толстого никто не считается – это факт, для меня давно уже не подлежащий сомнению. Любой посредственный «журналист» пользуется большим влиянием, чем великий писатель земли русской. Да оно так и должно быть. Гр. Толстой в настоящее время думает о вещах, до которых никому из людей нет никакого дела. Он давно уже ушел из нашего мира – а есть ли где-нибудь иной мир и продолжает ли гр. Толстой еще существовать, – кто ответит на эти трудные вопросы? «Толстой пишет книги и письма – стало быть, он существует», – это заключение, казавшееся когда-то столь убедительным, едва ли теперь на кого-нибудь действует. Особенно если принять во внимание, что пишет гр. Толстой. В некоторых из своих последних писем он высказывает суждения, решительно не имеющие никакого смысла с точки зрения обыкновенного человека. К сожалению, у меня их нет под рукой: они большей частью печатаются в заграничных изданиях. Но общее впечатление от них можно вкратце резюмировать несколькими словами: Толстой исповедует солипсизм. То есть на старости лет, после бесконечных попыток любви к ближнему, он пришел к заключению, что не только нельзя любить ближнего, но что ближнего совсем и нет, что во всем мире существует всего один только гр. Толстой, что и мира-то на самом деле нет, а есть только гр. Толстой. Взгляд до такой степени очевидно нелепый, что его и опровергать не стоит. Кстати, как известно, опровергнуть его и нет никакой возможности: разве только признать необязательность логических заключений. Солипсизм преследовал гр. Толстого еще в ранней молодости, но тогда он не знал, что ему делать с навязчивой и бессмысленной идеей, и старался ее игнорировать. Теперь она ему пригодилась. Чем старше становится человек, тем более научается он утилизировать бессмысленные идеи. Еще сравнительно недавно гр. Толстой мог произнести такую фразу: «Христос только учил людей не делать глупости». Кто, кроме гр. Толстого, мог пуститься на такое рискованное толкование Евангелия? И почему все, кроме гр. Толстого, отлично понимали, что в этих словах заключается величайшая хула на Христа и его учение? Но со стороны гр. Толстого это было последней и отчаяннейшей попыткой спастись от солипсизма, не предавая при том логики: даже Христос только затем явился к людям, чтобы учить их здравому смыслу. Значит, «безумные» мысли могут быть со спокойной совестью опровергнуты, и преимущество по-прежнему остается за понятными, здравыми, умными суждениями. Очищено место добру и разуму. Добро ведь нечего объяснять – оно само собой понятно. Если бы в мире существовало только добро – не было бы никаких, ни первых, ни последних вопросов. Потому-то молодость никогда и не спрашивает. О чем ей спрашивать? Разве песня соловья, майское утро, цветок сирени, веселый смех и все прочие предикаты молодости требуют истолкования? Наоборот, всякое истолкование к ним сводится. Настоящие вопросы впервые возникают у человека при столкновении со злом. Заклевал ястреб соловья, увяли цветы, заморозил Борей смеявшегося юношу, и мы в испуге начинаем спрашивать. «Вот оно зло! Правду говорили старики! Недаром и в книгах называют нашу землю юдолью плача и печали!» А раз начинаются вопросы – нельзя, да и не нужно торопиться с ответами. И тем менее – предвосхищать их. Соловей умер и не будет больше петь, человек, его слушавший, замерз, уже не слыхать ему больше песен. Положение так очевидно нелепое, что только при очевидном же желании во что бы то ни стало сбыть вопрос можно стремиться к осмысленному ответу. Ответ будет, должен быть нелепым – если не хотите его, перестаньте спрашивать. Если же будете спрашивать – то приготовьтесь заранее «примириться» с чем-нибудь вроде солипсизма или современного реализма: не знаю, что лучше, это дело вкуса. Наша мысль завязла в дилемме и, в общем, не смеет сделать решительного шага. Мы смеемся над философией и избегаем, пока возможно, зла. Но почти все чувствуют невыносимую тяжесть такого положения, и каждый за свой страх старается вылезть на берег при помощи более или менее остроумной теории. Только некоторые наиболее отважные люди осмеливаются говорить правду; но их обыкновенно не понимают, не верят даже в их искренность. В тех случаях, когда в словах писателя слишком сильно чувствуется глубина пережитых им мук – осуждение, правда, не решается возвысить свой голос. Начинают говорить о трагичности положения, принимают печальные позы и произносят приличные случаю слова. Более требовательные люди, понимающие неуместность фраз и позы, но вместе с тем не умеющие заставить себя долго останавливаться над размышлениями о чужих переживаниях, делают преувеличенно суровое лицо: «Мы, дескать, глубоко чувствуем, но не хотим обнаружить глубину нашего чувства». Ничего они не чувствуют и очень хотят, чтобы другие думали, что они очень восприимчивы и только из врожденной стыдливости скрывают свои чувства под маской суровости! Иногда это приводит к любопытным курьезам даже среди писателей первого ранга. Так Анатоль Франс, изобретатель очаровательнейшей иронической улыбки, долженствующей убедить людей, что он все чувствует и все понимает, и не рыдает только потому, что мужчине неприлично рыдать даже пред лицом величайших ужасов, в одном из своих известных романов берет на себя благородную роль защитника жертв преступления против преступника. «Наше время, – говорит он, – из сожаления к преступнику забывает о страданиях, выпадающих на долю его жертвы». Это один из курьезнейших, повторяю, случаев непонимания самой сущности современных исканий. Правда, у нас часто говорят о сострадании вообще и о сострадании к преступнику в частности – и Анатоль Франс далеко не единственный человек, который думает, что наша главная отличительная черта – необыкновенная чувствительность и мягкосердечие. На самом деле, современного думающего человека влечет к преступнику не чувство сострадания, которому, бесспорно, уместнее было бы принять сторону жертвы, а любопытство, если угодно, любознательность. Целые века, тысячелетия даже человеческая мысль тщетно искала разгадки великой жизненной тайны в добре. И, как известно, ничего не нашла, кроме теодицей и теорий, отрицающих существование и возможность тайны. Теодицеи с их наивным оптимизмом давно набили всем оскомину; механические теории, доказывающие, что человеческая жизнь не обладает достаточной реальностью для того, чтобы вопрос о ее появлении и исчезновении мог иметь такое же право на существование, как вопрос о сохранении энергии и материи, кажутся на вид более убедительными – но им не хотят верить. А нежелания верить не может, как известно, выдержать ни одна теория. Словом – добро не оправдало возлагавшихся на него надежд. Разум – тоже очень мало принес. И истомившееся человечество отвернулось от своих старых идолов и возвело на трон зло и безумие. Улыбающийся Анатоль Франс спорит, доказывает – и доказывает превосходно. Но кто не знает его доказательств, и кому они нужны? Пусть улыбается, пусть торжествует в сознании своего превосходства – наше поколение уже не вернется на старый путь. Может быть, наши дети испугаются взятой нами на себя задачи, назовут нас «промотавшимися отцами» и снова обратятся к накоплению сокровищ, духовных и материальных. И опять уверуют в идеи, прогресс и тому подобные вещи. Что касается меня лично – то я в этом почти не сомневаюсь. Солиспизм и культ беспочвенности недолговечны и, главное, не преемственны. Окончательное и последнее торжество в жизни, как и в старинных комедиях, обеспечено за добром и здравым смыслом. История знала уже много эпох, подобных нашей и, как известно, превосходно справлялась с ними. За всякого рода неумеренными попытками любознания по пятам следует вырождение, сметающее с земли все слишком требовательное, утонченное и преувеличенно осведомленное. Гениальные люди обыкновенно не имеют потомства или имеют детей идиотов. Недаром природа так величественно спокойна: она хорошо припрятала свои тайны. Положим, дивиться тут нечего, если вспомнить, как неразборчива она в своих средствах. Ведь ни один деспот, ни один из величайших злодеев, когда-либо державших в своих руках земную власть, не проявлял такой жестокости и бессердечия, какие проявляет природа. Чуть что-нибудь не по ней, малейшее нарушение ее предписаний – и суровейшие кары сотнями, тысячами сыплются на голову виновного, если бы это был даже грудной младенец. Болезни, уродства, безумие, смерть – каких только ужасов и пыток не выдумала наша общая мать, чтобы держать в повиновении своих бедных детей. Правда, есть оптимисты, которые полагают, что природа не карает, а воспитывает нас. Даже и гр. Толстой однажды высказался в этом смысле: «Смерть и страдания, как пугала со всех сторон ухают на человека и загоняют на одну, открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума». Недурной способ воспитания! Совсем как с волками и медведями! Но гр. Толстой еще не досказал всего. Бывает так, что человек, удирая во все лопатки от одного ухающего чудовища, не сумеет вовремя удержаться на том пути, который мудрая природа считает единственно правильным и нужным, и с разбегу попадает прямо в лапы другого ухающего чудовища. Что тогда делать? А это часто бывает, и не в обиду оптимистам будь сказано, рано или поздно обязательно случается с каждым человеком. Бежать уже нельзя: из когтей безумия или болезни не вырвешься! Остается одно средство: вопреки традициям, теодицеям, мудрецам и – прежде всего – самому себе продолжать по-прежнему прославлять мать-природу и ее великую благость. Пусть с ужасом отшатнутся от нас будущие поколения, пусть история заклеймит наши имена, как имена изменников общечеловеческому делу – мы все-таки будем слагать гимны уродству, разрушению, безумию, хаосу, тьме. А там – хоть трава не расти.
15
Астрология и алхимия отжили свое время и умерли естественной смертью – но оставили после себя потомство: химию, изобретающую красящие вещества, и астрономию, накопляющую формулы. Так всегда бывает: у гениальных отцов рождаются дети идиоты. В особенности, когда матери бывают очень добродетельные, а на этот раз мы имеем необыкновенно добродетельных матерей: общественную пользу и мораль. Алхимики искали философского камня – и даром тратили время, астрологи гадали по звездам – и обманывали людей своим мнимым всеведением. Им дали в спутницы жизни пользу и честность, и таким образом родились на свет химия и астрономия… Генеалогия правильная – никто спорить не будет. Может быть, никто не станет спорить, что с некоторой долей вероятия можно заключать от детей идиотов к гениальным родителям. Ведь есть кой-какие указания на это – хотя, разумеется, дальше предположений здесь идти нельзя. Но достаточно того, что возможны такого рода предположения. Тем более, что у меня в запасе есть еще доводы. Например, хотя бы то соображение, что наше время так глубоко убеждено в совершенной бессмыслице и ненужности всего того, чем занимались алхимики и астрологи. До того убеждено, что никому даже и в голову не приходит серьезно проверить свои убеждения. Нам говорят, что среди алхимиков и астрологов было много шарлатанов и лжецов. Ни разве это ответ! Во всех областях есть бездарности и посредственности, спекулирующие на человеческое легковерие. На что уже положительна наша медицина – а сколько есть недобросовестных врачей, обирающих своих пациентов! Алхимики и астрологи были, пс всей вероятности, самыми замечательными людьми своего времени. Скажу больше: несмотря на красящие вещества и формулы, которыми гордится современная наука, даже в XIX столетии, так прославившемся своими практическими изобретениями и открытиями, самые выдающиеся и даровитые люди все же занимались алхимией и астрологией – т. е. искали философского камня и гадали о судьбах человека. И те из них, которые обладали поэтическим дарованием, даже привлекали к себе всеобщее внимание. Consensus sapientium поэту издревле разрешались всякие вольности: он вправе говорить о роке, чудесах, духах, об иной жизни, словом, обо всем – только бы говорил интересно. Этого было достаточно: XIX век отдал свою дань беспокойству. Никогда еще не было такого множества трепетных и тревожных писателей, как в эпоху изобретения телефонов и телеграфов. Считалось неприличным говорить обыкновенным языком о неясных и смутных стремлениях человеческого духа – и тех, которые не соблюдали приличия, презирали и даже лечили душами, усиленным питанием и бромом. Но это все чисто внешняя сторона, которая относится к истории «мод» и нас здесь занимать не может. Существенно, что алхимия и астрология не совсем умерли, как предполагали все, а только притворились мертвыми и на время удалились со сцены. А теперь, по-видимому, им надоело затворничество, и они снова пытаются выйти на люди, отодвинув на задний план своих неудачных детей. Ну что ж? В добрый час!..
16
В нашей жизни наступает такая полоса, когда весь запас опыта оказывается уже исчерпанным. Куда бы человек ни пошел, на что бы он ни взглянул, он все встречает только давно знакомое, давно виденное. Большинство людей истолковывает это в том смысле, что они уже все знают, и что, следовательно, из того, что они пережили, можно заключить к тому, что такое жизнь вообще. Обыкновенно это бывает у людей в возрасте 35–40 лет, в ту пору, которую Карамзин считает лучшей порой жизни. Человек, не видя уже ничего нового, считает себя на этом основании вполне созревшим и решает, что он вправе обо всем судить: зная, что было, можно предвидеть, что будет. Но и Карамзин ошибался, утверждая, что в 35–40 лет наступает лучшее время жизни, и склонные к заключениям люди ошибаются, когда утверждают, что для них не может случиться ничего нового в жизни. Период застоя в душевном опыте следовало бы использовать совсем не с той целью, чтоб судить по имеющимся возможностям о всяких жизненных возможностях, а наоборот, с тем, чтобы доказывать, что как бы ни было богато и разнообразно ваше прошлое, оно и на миллионную долю не исчерпывает разнообразия действительности: из того, что было, решительно нельзя заключать о том, что будет. И, кроме того, положительно ни для чего не нужно! Разве для того, чтоб насладиться воображаемой зрелостью мысли и испытать все прелести лучшего времени жизни, так красноречиво обрисованные у Карамзина?! Соблазн не слишком уж велик! Так что если человек поставлен в необходимость приостановить дальнейшие опыты и осужден, впредь до новых событий, на размышление, то не лучше ли всего такое interregnum,[48 - Междуцарствие (лат.).] такую остановку в нашем существовании употребить на прямо противоположную цель: отыскивать в нашем прошлом указания на то, что будущее имеет все права быть, каким ему вздумается – может похожим, а может ничуть не похожим на прошедшее. Таких указаний, при доброй воле, можно найти гибель. Иной раз додумываешься до того, например, что естественная связь явлений, наблюденная нами и нашими предшественниками, нисколько не обязательна для будущего, что даже чудеса, доселе казавшиеся невозможными, окажутся когда-нибудь более возможными, понятными и даже естественными, чем опостылевшая закономерность явлений. А ведь крепко опостылела нам закономерность – признайтесь в этом и вы, люди науки! При одной мысли, что, сколько не думай, ни до чего, кроме подтверждения старой закономерности, не додумаешься, является непобедимое отвращение ко всякой умственной работе. Открыть еще закон, и еще закон – когда их и так гораздо больше, чем нужно! Ведь если берет охота думать, то единственно в предположении, что авось мысль все-таки не имеет и не должна иметь никаких пределов, что теория познания, основывающаяся, в конце концов, на истории существовавшего доселе познания и на нескольких очень сомнительных отвлеченных соображениях, есть ни к чему не обязывающая выдумка представителей определенной касты – und die Natur zulezt sich doch ergr?nde.[49 - И все-таки природа в конце концов познает себя (нем.)] Какое бешеное нетерпение овладевает нами порой при мысли, что мы не знаем и никогда не узнаем великой мировой тайны! Мне кажется, нет ни одного человека в мире, который бы ни разу в жизни не испытывал безумной потребности разгадать чудесную загадку. Даже те флегматические философы, которые изобрели теорию познания, потихоньку от посторонних глаз все же от времени до времени делали робкие попытки неметодологических вылазок, втайне надеясь, что таким способом можно проложить себе путь к неведомому, вопреки их собственным толстым книгам, скучно и бестолково доказывающим великие преимущества научного познания. Человек или живет, т. е. изведывает жизнь, или освобождается от заключений, навязанных ограниченным опытом. Все же прочее – от лукавого. От лукавого и те соблазны, которыми прельщался и которыми прельщал своих читателей Карамзин… Или, наоборот? Кто разрешит этот вопрос? И снова, как это часто бывает, под конец патетической речи приходишь к гадательному суждению. Пусть каждый поступает, как ему представляется наилучшим. А те, которые хотели бы, но не имеют возможности жить по Карамзину? Им я не знаю, что сказать. Шиллер рекомендовал в таких случаях надежду. Годится? Откровенно говоря, едва ли: раз потерявший покой, никогда не обретет его вновь.
17
С тех пор, как Канту удалось убедить ученых людей, что мир явлений есть нечто совсем иное, чем настоящая действительность, и что даже наше собственное существование не есть истинное существование, а только видимое проявление таинственной, неизвестной субстанции, философия застряла в новой колее и не чувствует себя в силах сдвинуться хотя бы на один миллиметре обозначенного великим кенигсбергцем пути. Можно идти вперед, можно двигаться назад, но непременно по кантовской колее. Ибо как выбраться из противоположения явлений вещам в себе? А раз это положение оказывается неизменным, значит, хочешь не хочешь, вдевай голову в хомут теории познания. Большинство современных философов так и поступает, без ропота, а то даже с радостной улыбкой, так что поневоле является подозрение, что, может быть, им ничего, кроме хомута, и не нужно было и что их «метафизическая потребность» была не чем иным, как потребностью в упряжке. Ибо, в противном случае, они должны были бы в самом начале становиться на дыбы – при одном только виде хомута. Ведь противоположение между миром явлений и вещью в себе предлагается разумом, выводимая из этого предположения теория познания предлагается разумом же, стало быть, есть все основания свободолюбивому духу с самого начала упереться – и ни с места. С дьяволом, как известно, нужно быть крайне осторожным: довольно ему схватить вас хоть за кончик ногтя, и он всего вас унесет. То же и с разумом: уступите ему хоть одно единое положение, хоть одну предпосылку – и finita la comedia.[50 - Комедия окончена (ит.).] Вы никогда от него не отвяжетесь и будете принуждены, рано или поздно, признать над собой его суверенные права. Метафизика не может существовать наряду с разумом. Все метафизическое нелепо, все разумное – позитивно. Но тут мы сразу подходим к очень трудной дилемме: метафизическое имеет своим основным предикатом нелепость, но ведь, с другой стороны, на этот почтенный предикат имеют совершенно законные и справедливые притязания очень многие позитивные утверждения. Как же тут быть? И есть ли какой-нибудь критерий для ртличения обыкновенной нелепости от метафизической? И можно ли прибегать в этом случае к критериям? Не явится ли сам критерий западней, в которую ловкий разум с другого конца хочет поймать вырвавшегося на свободу человека? Двух ответов на этот вопрос не может быть. За все услуги, предлагаемые разумом, рано или поздно приходится платить дорогой ценой самоотречения. Примите ли вы его помощь под громким титулом теории познания или под скромным именем критерия – в конце концов, вы неизбежно свернете на позитивный путь. С молодыми и неопытными умами это происходит сплошь и рядом. Вначале они как будто бы срываются с узды и несутся без оглядки вперед – но очень скоро они прибегают в Рим, куда, как известно, ведут все пути, или, выражаясь менее возвышенным языком, в стойло, куда тоже, как известно, ведут все пути. Единственный способ уберечься от позитивизма, конечно, при предположении, что позитивизм по тем или иным причинам не пользуется больше вашими симпатиями – это перестать бояться нелепостей, все равно, будут ли они позитивными или метафизическими, и методически отклонять все предлагаемые разумом услуги. В философии были такие примеры, и хотя от них обыкновенно предостерегают, я все-таки решаюсь их рекомендовать. Credo – quia absurdum:[51 - Верю, ибо нелепо (лат.).] это из средневековья. А из новейшей истории – Шопенгауэр и, конечно, Ницше. Оба они представляют собой благородный пример совершенного равнодушия к здравому смыслу и логике. Особенно замечателен в этом отношении Шопенгауэр, который ухитрился, оставаясь кантианцем, и даже во имя Канта, не только делать самые смелые вылазки против разума, но даже заставить разум стыдиться самого себя. Этот удивительный кантианец доходил до того, что пытался – все во имя учителя – преодолеть пространственные и временные представления. Он допускал ясновидение – и ученые до сих пор находятся в затруднении по поводу того, отнести ли это допущение к области метафизических или обыкновенных нелепостей. И я, право, не знаю, как тут быть – хотя я этим не слишком заинтересован. Умный, очень умный человек настаивает на большой нелепости, и я чувствую себя вполне удовлетворенным. И вообще, весь поход Шопенгауэра против интеллекта – в высшей степени отрадное явление. Очевидно, что хоть он и исходил из кантовских идей, ему очень скоро надоело плестись по проторенной дорожке, и он, свернув в сторону, пошел блуждать вкривь и вкось, продираясь через чащу неразрешимых противоречий и нимало не помышляя о том, куда и к чему он придет. Примат воли над разумом и музыка как выражение нашей глубочайшей сущности – разве этих утверждений мало, чтобы убедиться, как ловко извернулся он из расставленных Кантом по пути мысли синтетических суждений a priori? И ведь в философии Шопенгауэра действительно гораздо больше музыки, чем логики. Недаром ее не пускают в университеты! Но за стенами университета – о Шопенгауэре можно говорить. Не об его идеях, конечно, а о его музыке. Идеи фабрикуются теперь повсюду и без него, ими завалены все европейские книжные рынки. И какие все чисто сработанные, вылощенные, прилизанные, гордящиеся своей серьезностью и последовательностью идеи! У Шопенгауэра этого добра мало. Зато какие живые и великолепные противоречия, свободно и смело выставляющиеся напоказ, часто даже не подозревающие, что им нужно прятаться от бдительности полиции. Шопенгауэр плачет, смеется, радуется, сердится – и отнюдь не думает, что это возбранено философу. «Не говори – пой», – сказал Заратустра, и его завет в значительной степени уже исполнил Шопенгауэр. Философия может быть музыкой – и это вовсе не значит, что музыка должна называться философией. Когда человек окончил все свои дела, когда он уже не «мыслит» и не «работает», а предоставленный самому себе и другим людям свободно глядит и прислушивается, все принимая и ничего от себя не скрывая, он начинает «философствовать». Для чего ему тогда отвлеченные формулы? И для какой надобности прежде, чем думать, спрашивать себя: «О чем я могу думать, каковы границы моей мысли?» Он будет думать, а там, там пусть охотники подводят итоги всему, им сделанному, пусть строят теории познания. Говорить о прекрасном – самое последнее дело: нужно творить прекрасное. Никогда еще ни одна эстетическая теория не умела угадать, в каком направлении пойдет мысль художника и где лежат границы его творческой деятельности. То же и с теорией познания. Она может остановить работу ученого, который и сам боится слишком далеко забираться, но предопределить человеческую мысль ей не дано. Даже кантовское противоставление вещей в себе миру явлений вовсе не должно роковым образом подрезать крылья человеческой пытливости. Придет время, и это незыблемое основание позитивизма пошатнется. Все гносеологические споры о том, что может и чего не может наша мысль, покажутся нашим потомкам столь даже забавными, как и средневековые схоластические препирательства. «Для чего было им спорить о том, какой должна быть истина, когда они могли искать истину?» – спросят будущие историки. Приготовим для них ответ: «Наши современники не хотят искать и потому так много разговаривают о теории познания».
18
Не верь себе, мечтатель молодой! – Как бы искренне и честно ты не стремился к истине, как бы глубоко и страстно ты не молился, какие бы мучительные страдания и нечеловеческие ужасы ты не имел бы в своем прошлом – не верь себе, молодой мечтатель! Того, что ты искал – ты не найдешь. В лучшем случае, если у тебя есть литературное дарование, ты напишешь хорошую, интересную, оригинальную книгу. И может быть – хоть это и звучит обидно – даже будешь доволен таким результатом! В письмах Ницше, относящихся к 1888 году, к тому году, когда его впервые «открыл» Георг Брандес, ты найдешь подтверждение печальному предсказанию. Ницше ли не боролся, не искал, Ницше ли не страдал, и вот, под конец жизни, когда, казалось бы, все мирские блага должны были бы представляться ему ничтожными и призрачными, он, совсем как юноша, жадно набрасывается на вести о первой славе и восторженно делится своей радостью со всеми близкими и далекими друзьями, Он не устает в десятках писем на разные лады пересказывать историю о том, как начал читать свои лекции Брандес, как в аудитории собиралось более 300 человек и даже приводит на датском языке текст объявлений Брандеса. Улыбнулась слава – и забыты все ужасные опыты прежних дней. Забыты одиночество, оставленность, пещера в горах, человек, которому вползла в рот змея – и все помыслы устремились к обыкновенному, понятному, доступному благу. Таков удел смертного:
Mit gier'ger Hand nach Sch?tzen gr?bt,
Und froh ist, wenn er Regenw?rmer findet.[52 - Алчной рукой ищет клад и радуется, когда находит дождевых червей (нем.).]
19
В молодости человек пишет потому, что ему кажется, будто он нашел новую и чрезвычайно важную истину, которую необходимо возможно скорей возвестить бедному, невежественному человечеству. Потом он становится опытнее и скромней и начинает сомневаться в своих истинах: тогда он пишет, чтобы проверить себя. Проходит еще несколько лет: он уже знает, что кругом ошибался и что нечего даже проверять себя. Но писать он все-таки продолжает, ибо неспособен больше ни на какое дело, а прослыть ненужным, «лишним» человеком страшно.
20
Очень оригинальный человек часто бывает банальным писателем и наоборот. Иногда в писаниях мы не столько стремимся рассказать, что с нами происходит, сколько выразить свои pia desideria.[53 - Благие намерения (лат.).] И потому беспокойные, не знающие сна люди могут воспевать покой и отдых, которые уже давно воспеты и всем надоели, а те, которые спят по десяти часов в сутки и все делают вовремя – не прочь помечтать о приключениях, бурях и опасностях и даже превозносить все проблематическое.
21
Когда читаешь книги давно умерших писателей, всегда овладевает странное чувство: эти люди, двести, триста, две тысячи лет тому назад жившие, так далеки теперь – где бы они ни были – от того, что писали когда-то, на земле: а мы в их сочинениях ищем вечных истин!
22
Та истина, которую я сегодня имел право торжественно провозгласить и даже провозгласил первым из людей, завтра, может быть, в моих устах будет скучной и ненужной ложью. Я лишусь права называть эту истину своей – и только, может быть, я один: другие будут по-прежнему жить с ней, любить и хвалить ее.
23
Писатель, не умеющий вдохновенно лгать – лгать нужно только вдохновенно, и это большое, далеко не всем дающееся искусство, – любит бравировать своей откровенностью и честностью. Ему ничего другого не остается.
24
Источник оригинальности: человек, потерявший надежду искоренить в себе какой-нибудь недостаток или хотя бы скрыть его от себя и других, пытается найти в этом недостатке свое достоинство. Если ему удается в этом убедить окружающих, он достигает двойной цели: освобождается от угрызений совести и становится оригинальным.