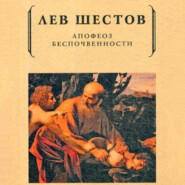По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Апофеоз беспочвенности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тем, что для нас важно и нужно, чем мы дорожим и что действительно любим, мы редко хвастаем. И наоборот, мы охотно выставляем напоказ то, чего мы совсем не ценим – ибо не знаем, какое другое употребление из него можно сделать. Продажную любовницу возят в театр и сажают на виду у всех, с любимой женщиной предпочитают оставаться дома или уходить в не слишком людные места. То же и с нашими «добродетелями». Каждый раз, когда мы замечаем в себе какое-нибудь свойство, нам совсем ненужное, мы пробуем, не пригодится ли оно людям и торопимся его выставить напоказ. Если оно встретит одобрение – мы рады: хоть какой-нибудь прок вышел. Актеру, писателю, оратору часто до смерти противны кривлянья, без которых невозможен успех у публики, – но свою способность кривляться он считает за талант, за Божий дар и лучше согласится умереть, чем лишиться ее. И вообще «талант» считается даром Божьим только потому, что он всегда на виду, что так или иначе полезен обществу. Все наши суждения насквозь пропитаны утилитаризмом, и если бы попытаться их очистить от этого элемента, – что осталось бы от современного «мировоззрения»! Вот почему юные и неискушенные мыслители обыкновенно веруют в harmonia pr?stabilita,[25 - Предустановленная гармония (лат.).] даже если они ничего о Лейбнице и не слыхали. Они убеждают себя, что нет противоречия между идеальными стремлениями и эгоистическими, что, например, жажда славы и жажда полезной деятельности – это только разные слова для одной и той же вещи. Такая «предпосылка» часто очень живуча и сохраняется долго даже у людей с сильным и смелым умом. Мне кажется, что Пушкин, если бы он даже дожил до глубокой старости, не расстался бы с нею. Тургенев в нее верил – насколько вообще может верить человек его душевного склада. Толстой же периодически то верил, то не верил в нее, смотря по тому, что ему приходилось делать: когда нужно было разрушать чужие идеи, он сомневался, когда он защищал свои, – верил. Пример, заслуживающий серьезного внимания и, прежде всего, подражания; человеческие истины только и годны, что для служебных целей.
79
Человек настолько консервативное существо, что всякая перемена, даже перемена к лучшему, пугает его, и он обыкновенно предпочитает привычное, хотя бы дурное, старое – новому, даже хорошему. Человек, много лет подряд бывший убежденным материалистом, ни за что не согласится признать душу бессмертной, если бы ему даже это доказали more geometrico[26 - Геометрическим способом (лат.)] и если бы даже он был трусливейшим существом и боялся смерти, как шекспировский Фальстаф. Ко всему тому еще самолюбие! Люди не любят признаваться в своих заблуждениях. Это смешно, но это – так. Люди, ничтожные, жалкие существа, на каждом шагу, как это Доказывает история и обыкновенная житейская практика, заблуждающиеся, хотят считать себя непогрешимыми и всезнающими. И зачем? Отчего не признаться прямо и открыто в своем незнании? Правда, это не так легко достижимо. Подлый разум, вопреки нашему желанию, подсовывает нам мнимые истины, от которых мы не умеем отделаться даже тогда, когда замечаем их призрачность. Сократ хотел думать, что ничего не знает – и не мог: он глубоко верил в свое знание, он думал, что ничего, кроме того, чему он учит, не может быть «истиной», он принял изречение оракула и искренне считал себя мудрейшим из людей. И мы все соблазнились его мудростью, которая до сих пор держит нас в плену. Декарт понимал, что нужно во всем усомниться, но не знал, с чего начинать. И так будет до тех пор, пока философы будут считать своей обязанностью учить и спасать ближних. Кто хочет помочь людям – тот не может не лгать. Нужно усомниться не затем, чтобы потом снова вернуться к твердым убеждениям: это было бы бесцельно; опыт показал, что такой процесс приводит только от одного заблуждения к другому – в области последних вопросов, разумеется. Нужно, чтобы сомнение стало постоянной творческой силой, пропитало бы собой самое существо нашей жизни. Ибо твердое знание есть условие несовершенного восприятия. Слабый, неокрепший дух не способен к слишком быстрым, непрерывным переменам; ему всегда нужно осматриваться, приходить в себя – и для этого подольше испытывать одно и то же. Ему нужны даваемые привычкой прочность и устои. Но созревший дух презирает эти костыли. Ему надоело пресмыкаться на земле, он отрывается от «родной» почвы и уходит ввысь, вдаль, в бесконечное пространство. И ведь всякий знает, что не навсегда же мы осуждены жить в этом мире. Но страх мешает нам прямо сказать это себе, и до поры до времени мы молчим. Но приходят несчастия, болезни, старость – и страх, который мы хотели отогнать от себя, делается постоянным спутником нашей жизни. Мы уже не можем от него отделаться и поневоле с любопытством начинаем присматриваться к ненавистному спутнику. И тогда мы замечаем, что он не только пытает нас, но вместе с нами и за нас делает странное и непривычное дело: перегрызает все нити, которыми мы были привязаны к прежнему существованию. Нам кажется иногда, что еще несколько мгновений, и нас ничто не в силах будет больше удержать, что осуществится вечная мечта пресмыкающегося человека: он освободится от тяжести и уйдет далеко от проклятой земной юдоли… Предчувствие ли это или галлюцинации измученной души?..
80
На моралистов нападают за то, что они рекомендуют людям «нравственное утешение». Но, собственно говоря, эти обвинения не совсем справедливы. Моралисты, вероятно, с большей радостью заменили бы свои отвлеченные дары более реальными, если бы только могли. Толстой в молодости хотел осчастливить человеческий род и только под старость, убедившись, что осчастливить не в его силах, стал проповедовать отречение, резиньяцию и т. п. И как он сердится, когда люди не соглашаются принять его учение! А ведь может быть, что, если бы Толстой вместо того, чтобы выдавать свое учение за решение последних вопросов и за оптимизм, говорил бы о невозможности удовлетворительных ответов и выступал пессимистом, его бы охотнее слушали и меньше возражали. Теперь он раздражает преимущественно тем, что, не умея облегчить ближних, он требует, чтобы ближние считали себя или по крайней мере притворялись получившими облегчение, даже осчастливленными им. На это мало кто соглашается: с какой стати добровольно отказываться от своих прав? Ведь право браниться и проклинать судьбу – хоть и не Бог знает какое большое, но все-таки право…
81
Иванов – в драме А. Чехова того же названия – сравнивает себя с надорвавшимся рабочим: рабочий умер, и Иванову остается только умереть. Но логика, как известно, рекомендует с большой осторожностью относиться к умозаключениям по аналогии. Ведь вот же сам Чехов, вынесший, по всем видимостям, в своей душе такую же драму, как Иванов, не умер и даже не оказался лишним человеком! Он что-то делает, он борется, ищет, и его дело кажется нам таким же важным и значительным, как и другие важные человеческие дела. Иванов застрелился, потому что Чехов не кончил еще своей борьбы, а драму нужно было кончать – того требует современная эстетика, которая от аристотелевских единств отказалась, но не допускает и мысли о возможности пьесы без развязки. Еще немного времени – и драматические писатели избавятся от этого стеснения: им разрешат открыто признаться, что они не знают, как и чем кончать. В повестях уже и теперь обходятся без конца.
82
Еще о том же. Иванов говорит: «Ну, где же мое спасение? В чем? Если неглупый, образованный человек без всякой видимой причины стал петь Лазаря и покатился по наклонной плоскости, то он катит уже без удержа и нет ему спасения». Один выход: признать наклонную плоскость и движение без удержу нормальным явлением. И даже более: искать в этом доказательство своих духовных преимуществ пред другими людьми. Разумеется, при этом нужно отойти в сторону, не свататься к молодым девушкам, не брататься с теми, которые еще живут, как все, а быть одному. «Любовь – вздор, ласки – приторны, в труде нет смысла, песня и горячие речи – пошлы и стары», – продолжает Иванов. Для молодой Саши эти слова страшны, но Иванов с ними справится, справился. Это ничего, что он шатается: стреляться ему еще рано. Он будет жить, пока живет его творец, Чехов. А мы прислушаемся к шатающемуся, колеблющемуся мировоззрению. Нам стройность и законченность так же надоели, как и буржуазное самодовольство.
83
Из сказанного видно, что уже в «Иванове», одном из своих ранних произведений, Чехов выступает в роли advocatus diaboli.[27 - Адвокат дьявола (лат.).] Куда Иванов ни является, он вносит гибель и разрушение. Чехов, правда, не решается явно брать его сторону и не знает, по-видимому, что делать со своим героем, а потому отделывается от него, развязывает, так сказать, себе руки умышленно шаблонным способом: Иванов на виду у всех стреляется, – ему даже некогда было отойти в сторону и покончить с собой так, чтоб никто не видел. Единственным оправданием Иванова является карикатура на честность – доктор Львов. Львов не живая фигура – это всякому ясно. Но этим он и замечателен. Замечательно, что Чехову понадобилось воскресить забытого Стародума фонвизинской комедии – но уже не затем, чтоб принудить людей поклониться воплощению добродетели, как делали прежние драматурги, а наоборот, затем, чтобы дать возможность надругаться над ним. Посмотрите только на эту честность – Львова. По старой привычке она еще выпячивает грудь, говорит громким голосом и властным тоном, но все прежние ее верноподанные не ставят ее ни в грош. Даже не удостаивают ее насмешки, а оплевывают и нетерпеливо выталкивают за дверь, как опостылевшую и наглую приживалку. Бедная честность! До чего она дожила! Видно и добродетелям не следует слишком долго заживаться на земле.
Дядя Ваня у Чехова готов броситься на шею своему другу и сопернику, доктору, – броситься на шею и разрыдаться, как плачут маленькие дети. Но он чувствует, что и сам доктор испытывает такую же неутолимую жажду утешения и ободрения. И бедная Соня уже не имеет сил одинаково выносить свое девичье горе. Все они блуждающими, потерянными, испуганными глазами ищут человека, который мог бы снять с них часть их невыносимых страданий – но везде находят то же, что у себя. Все чрезмерно обременены, ни у кого нет сил вынести собственные ужасы, не то, что облегчить другого. И последнее утешение отнимается у бедных людей: нельзя жаловаться, нет сочувственного взгляда. На всех лицах одно выражение – безнадежности и отчаяния. Каждому приходится нести свой крест – и молчать. Никто не плачет, не говорит жалких слов – это было бы неуместно и неприлично. Когда сам дядя Ваня, не сразу давший себе отчет о безысходности своего положения, начинает кричать: пропала жизнь! – никто не хочет прислушиваться к его крику. «Пропала, пропала, – все знают, что пропала. Молчи, вопли не помогут. И выстрелы не разрешат ничего». Здесь все могли бы повторить то, что говоришь ты, – но не повторяют и не плачут:
Вы думаете, плакать стану я?
Мне есть о чем рыдать, но прежде сердце
В груди моей на тысячи кусков порвется…
Шут мой, – я с ума сойду!
Постепенно водворяется грозное, вечное молчание кладбища. Все безмолвно сходят с ума, понимают, что с ними происходит, и решаются на последнее средство: навсегда затаить от людей свое горе и говорить обыденные, незначащие слова, которые принято считать разумными, значительными, светлыми даже. И уже никто больше не станет кричать «пропала жизнь» и соваться со своими переживаниями к ближним. Каждый знает, что позорно «проворонить жизнь» и что свой позор нужно навсегда скрыть от чужих глаз. Последний закон на земле – одиночество… Rеsigne toi, mon couer, dors ton sommeil de brute![28 - Смирись, мое сердце, и спи сном бессловесной твари (фр.).]
85
Ни на чем не основанные соображения. «Ни на чем не основанные», ибо, кажется, они вызваны общим предположением об осмысленности человеческого существования, а ведь оно дитя наших желаний и дитя, вероятно, незаконное… Пушкин опоэтизировал в «Скупом рыцаре» скрягу, Гоголь в Плюшкине, наоборот, создал для скупости страшный образ. По-видимому, к действительности был ближе Гоголь. Скупой безобразен, как его ни рассматривай – снаружи или изнутри. И все-таки не следовало бы Гоголю учить людей сохранять в старости идеалы юности. Коли есть старость – нечего ее исправлять и еще меньше извиняться за нее. Нужно принять ее и стараться подсмотреть, в чем ее сущность. Плюшкин, грязный и грубый маньяк, нам противен, но, кто знает, может быть, он делает свое, возложенное на него природой серьезное и важное дело. Он весь проникнут одним стремлением – и ко всему, что происходит в мире, равнодушен. Ему все равно, что о нем скажут люди. Ему все равно, сыт ли он, или голоден, согрет или холоден, умыт или грязен. Вообще ни одно внешнее событие не может отвлечь его внимания от невидимой нам внутренней работы. Он бескорыстно скуп, если можно так выразиться. И богатство его ему вовсе не нужно. Он гноит его в отвратительной куче и даже не мечтает, как пушкинский рыцарь, о могуществе, чертогах, которые он мог бы воздвигнуть, о резвых нимфах. К чему направлены его силы? Об этом никому нет времени подумать. Все при виде Плюшкина вспоминают только о приносимом им вреде. Люди, конечно, правы: Плюшкины, гноящие богатства, очень вредны. И общественная точка зрения почти всегда уместна. Но только – почти. Иногда не мешает морали и общественным соображениям умолкнуть – авось удастся разгадать загадку скупости, безобразия, старости…
86
Есть достаточно оснований к тому, чтобы недоверчиво относиться к жизни. Она столько раз обманывала нас в самых заветных ожиданиях наших. Но еще больше оснований есть не доверять разуму: ведь если жизнь могла обмануть нас, то только потому, что бессильный разум дался в обман. Может быть, он сам себе этот обман и выдумал и только из самолюбия валит с больной головы на здоровую. Так что, в конце концов, выбирая между жизнью и разумом, отдаешь предпочтение первой. Уже не стараешься предвидеть и объяснять, а ждешь, принимая все непоправимое за должное. Поэтому, вероятно, Ницше, видя, как постепенно разрушаются его надежды, и поняв, что прошлых сил уже не вернуть, что с каждым днем ему будет все хуже и хуже, писал (частное письмо от 28 мая 1883 г.): «Ich will es so schwer haben, wie nur irgend ein Mensch es hat; erst unter diesem Drucke gewinne ich das gute Gewissen daf?r, etwas zu besitzen, das wenige Menschen haben und gehabt haben: Fl?gel, um im Gleichnisse zu reden».[29 - Мне было так тяжело, как только может быть тяжело человеку; зато лишь под этим щитом я обретаю спокойную совесть, а также нечто, что имеют и имели немногие люди: крялья, чтобы говорить притчами (нем.).] В этих простых и немногих словах ключ к философии Ницше.
87
«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон – из детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Расскажите обыкновенным языком мысль Пушкина, и получится страничка из невропатологии: все неврастеники обыкновенно переходят от состояния крайней возбужденности – к совершенной прострации. Поэты – тоже: и гордятся этим.
88
Застенчивые люди обыкновенно воспринимают впечатления задним числом. В ту минуту, когда на их глазах что-либо происходит, они ничего не замечают и только впоследствии, воспроизведши в памяти отрывок из прошлого, они дают себе отчет в том, что видели. И тогда ретроспективно в их душе возникают чувства обиды, жалости, удивления с такой живостью, как будто бы дело шло не о прошлом, а о настоящем. Поэтому застенчивые люди всегда опаздывают с делом и всегда много думают: думать никогда не поздно. Робкие при других, они доходят до большой смелости, когда остаются наедине с собой. Они плохие ораторы, но часто замечательные писатели. Их жизнь бедна и скучна, их не замечают, пока они не прославятся. Когда же приходит слава – общее внимание уже не нужно.
89
Если бы Лаевский (в «Дуэли» Чехова) был писателем и имел литературное дарование, все бы говорили, что он оригинален и занимается исследованием «мистики пола», как Габриэле д'Аннунцио, например. А теперь он – пошляк. И его праздность ставят ему в упрек: хотят, чтоб он, по крайней мере, бумаги переписывал.
90
Из наблюдений над детьми. Эгоизм в человеке нас поражает неприятно главным образом ввиду того, что он свидетельствует о нашей бедности. «Я не могу отдать ближнему от своего избытка, мне самому мало останется». Нам хотелось бы, чтобы мы могли царственно щедрой рукой разбрасывать богатства, и когда мы видим, что кто-либо прикрывает свои лохмотья фразой «собственность священна», нам обидно. Священное – от богов, а у богов всего вдоволь, и они не считают, как смертные.
91
Мы видим, что человек раскаивается в своем поступке и делаем отсюда заключение: таких поступков нужно избегать. Пример ложного, но безукоризненного на вид заключения. Проходит некоторое время, и мы видим того же человека, вновь раскаивающегося по поводу второго такого же поступка. Если мы дорожим логикой, то это утвердит нас в нашем первом выводе. Если же мы не дорожим логикой, мы скажем: человеку одинаково нужно и совершать «поступки», и каяться. Иногда, впрочем, ошибка первого заключения исправляется иначе. Сделав вывод, что раскаяние говорит за необходимость избегать известных дел, человек всю жизнь их избегает и вдруг с необыкновенной ясностью начинает испытывать раскаяние по поводу того, что он «не делал». Но тогда уже заключение практически бесполезно: жизнь окончена, и просветлевший ум не знает, как отделаться от ненужного света.
92
Версия одной из сцен «Власти тьмы» совсем напоминает одноактные метерлинковские пьесы. О заимствовании тут, конечно, не может быть и речи: в то время, когда была написана «Власть тьмы», никто еще не слышал о Метерлинке. Толстой, очевидно, хотел попытаться творить в новом роде и освободиться от собственной, выработанной десятками лет упорного труда манеры. Но риск был слишком велик. Он предпочел лечиться от сомнений обыкновенным способом – работой, гигиенической жизнью и взялся за плуг.
93
Всяк кулик свое болото хвалит: Лермонтов видел признак духовного аристократизма в ослепительной белизне белья и всегда заставлял одеваться своих любимых героев со вкусом. Достоевский, наоборот, презирал «внешность»; на Дмитрии Карамазове грязное белье, и это ставится ему в заслугу или почти в заслугу.
94
Тургенев еще в молодые годы, в ту пору, когда писал свой рассказ «Довольно», видел, что ему предстоит в жизни нечто ужасное. Видел, но не испугался, хотя понимал, что ему следует испугаться заблаговременно, что жизнь без постоянной внутренней тревоги для него уже не имеет смысла.
95
Наполеон слыл знатоком человеческой души, Шекспир тоже. И их знания не имеют меж собой ничего общего.
96
То, что мы называем фантазией и что мы так ценим в великих поэтах – есть, в сущности, разнузданное, распущенное, если даже хотите, развращенное воображение. В обыкновенных смертных мы считаем это пороком, но поэтам мы все прощаем за пользу или удовольствие, которые они нам доставляют своими произведениями. Несмотря на наши возвышенные теории, мы всегда были в своих суждениях большими практиками, утилитаристами. Только один Платон решился изгнать поэта из своего государства. Затем прошло две с половиной тысячи лет, прежде чем Толстой, в свою очередь, позволил себе предложить на выбор поэтам: либо будьте добродетельны, либо перестаньте творить и откажитесь от учительской славы. Как известно, если Толстого не подняли на смех, то единственно из уважения к его прошлому и сединам – во всяком случае, никто не принял его слова серьезно. Наоборот, никогда еще поэты не чувствовали себя столь свободными от стеснений морали, как в наше время. Если бы Шиллер стал писать теперь свои драмы и философские статьи, их бы никто, вероятно, не захотел читать. В самом Толстом нас интересуют не столько его добродетели, сколько его пороки. Все его творчество мы начинаем объяснять не столько его стремлением к идеалам, сколько несоответствием между извне навязанными ему идеями и рвавшимися на простор запросами его недобродетельной души… Николенька Иртеньев по целым часам просиживал на площадке, подсматривая, как его старший брат Володя ловеласничает с горничными девушками, но никогда не мог принудить себя подражать Володе, хотя ему этого хотелось «больше всего ни свете». Горничная говорила Володе: «Отчего Николай Петрович никогда не приходит сюда и не дурачится?» «Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтоб быть на месте шалуна Володи». «Все на свете» – повторено два раза. Толстой приводит и психологическое объяснение поведения своего маленького героя: «Я был, – рассказывает Николенька, – стыдлив от природы, но моя стыдливость еще увеличивалась убеждением в моей уродливости!» Уродство, сознание своего уродства ведет к стыдливости – что может быть хорошего в добродетели, имеющей такое подозрительное происхождение! И как можно доверять нравственности толстовских героев! Сознание уродства своего порождает стыдливость, стыдливость загоняет страсти вовнутрь и не дает им естественно проявляться. Понемногу развивается чудовищная противоположность между фантазией и ее запросами и способностью осуществлять их. Вечный голод и суженный, не проводящий пищи пищевод. Отсюда и ненависть к фантазии с ее несбывающимися и несбыточными надеждами… В наши дни никто не бичевал так любовь, как Толстой во «Власти тьмы». А между тем, подвиги деревенского Дон-Жуана вовсе не так уж обязательно должны разрешиться трагедией. Но Толстой ненавидит «больше всего на свете» Дон-Жуанов, красивых, смелых, удачливых, доверяющих себе, переводящих мысль в дело, побеждающих женщин и осмеливающихся подавать руку живым каменным статуям – и мстит им по мере сил в своих произведениях…
97
В драме будущего обстановка будет совсем иная, чем в современной драме. Прежде всего будет устранена вся сложность перипетии. У героя есть прошлое – воспоминания, но нет настоящего: ни жены, ни невесты, ни друзей, ни дела. Он один и разговаривает только с самим собой или с воображаемыми слушателями. Живет вдали от людей. Так что сцена будет изображать либо необитаемый остров, либо комнату в большом многолюдном городе, где среди миллионов обывателей можно жить так же, как на необитаемом острове. Отступить назад к людям и общественным идеалам герою нельзя. Значит, нужно идти вперед к одиночеству, абсолютному одиночеству. Даже теперь уже никто, глядя на Плюшкина, не станет, подобно Гоголю, патетически призывать людей беречь до самой старости свои юношеские идеалы. Теперь юноши пойдут к Плюшкину, но не за тем, чтоб посмеяться над ним или в его страшном образе найти для себя предостережение – а за тем, чтобы посмотреть, нет ли как раз у него, в его грязной куче, там, где менее всего ожидали, жемчужин… Ликургу удалось заморозить спартанцев на несколько столетий – но и для них наступила оттепель, с которой исчезла вся их твердость. Последние остатки дорического, окаменелого искусства поступают в музеи… Что-то будет?..
98
Довлеет дневи злоба его. Если я весной не посею, у меня не будет осенью хлеба. Каждый день несет с собой достаточно забот и хлопот для бедного, слабого человека. Стоит ему на минуту забыть о делах, и он погибнет: умрет от голода или холода. Только для того, чтоб сохранить себя, нам необходимо напрягать все свои умственные и физические силы; более – мы принуждены весь окружающий нас мир представлять себе в таком виде, который бы наиболее соответствовал возможности добыть нужные для существования средства. Об истине некогда думать – да и при чем тут истина! Оттого-то явился на свет позитивизм с теорией естественного развития. На самом деле все, что мы видим, загадочно и таинственно. Мелкая мошка и огромный слон, ласковый ветерок и снежный ураган, молодое деревцо и исполинская гора – откуда все это? Почему, отчего непрерывно напрашиваются, но не произносятся: ради нужды дня философия всегда отодвигается на задний план. Думают только те, кто не умеет, не может или, по беспечности, не хочет заботиться о самосохранении, т. е. больные, ленивые или отчаянные люди. Они вновь возвращаются к загадке, которую люди дела, в глубокой уверенности в правоте своей, обратили в «естественность».
99
Кант, а за ним Шопенгауэр особенно любили эпитет «бескорыстный» и употребляли его в тех случаях, когда уже предварительно истощили весь запас имевшихся в их распоряжении хвалебных слов. «Бескорыстное размышление» – не преследующее никакой практической цели – высший идеал, который, по Шопенгауэру, может поставить себе человек: эту истину он считал общеобязательной, априорной. Но если бы случай завел его в круг русских мужиков – ему бы пришлось изменить свое мнение. Там размышления о судьбах и смысле мира, о бесконечности и т. п. никоим образом не считались бы бескорыстными – особенно, если бы человек, им отдающийся, одновременно предъявлял – как и полагается философу – притязания на полную свободу от физического труда. Там бы философа, будь он хоть Платоном, заклеймили бы позорнейшим прозвищем лентяя. Там высшею деятельностью считается корыстная, направленная к строго определенной практической цели; и если бы мужики умели учено говорить, они бы, наверное, назвали лежащий в основании их суждения принцип априорным. Толстой, черпающий свою мораль из народных источников, тоже нападает на ученых именно ввиду того, что они не хотят работать, а бескорыстно занимаются отысканием истины.
100
Что человек – почти каждый – десять раз на день меняет свои убеждения, это ясно для всякого беспристрастного наблюдателя. Об этом много раз говорилось, это служило предметом сатирических и юмористических изображений для многих писателей. И в том, что быть неустойчивым в своих суждениях – это порок, никто не сомневался. Наше воспитание на три четверти сводится к тому, чтобы приучить нас самым тщательным образом скрывать в ce6e переменчивость в суждениях и настроениях. Человек, не умеющий сдержать свое слово, – последний человек: на него ни в чем нельзя положиться. Тоже и человек, не имеющий прочных убеждений: совместная деятельность с ним невозможна. Мораль, здесь, как и всегда, исходящая из утилитарных соображений, выдвигает «вечный» принцип: ты должен всегда оставаться верным своим убеждениям. В культурных кругах эта заповедь считается до того незыблемой, что люди даже пред собою боятся оказаться непостоянными. Они окаменевают в своих верованиях, и для них нет большего стыда, чем признаться, что они переменили свои мнения. И когда прямые люди, как Монтень, открыто рассказывают о непостоянстве своих взглядов и настроений, – это многим даже кажется неправдой, клеветой на самого себя. Не нужно ни видеть, ни слышать, ни понимать, что вокруг тебя происходит: раз ты сформировался, ты потерял право расти, ты должен оставаться статуей, о которой все знают, в чем ее качества и в чем недостатки.
101
Вcякое философское «мировоззрение» стремится, исходя из того или иного разрешения общей проблемы человеческого существования, так или иначе направить нашу жизнь. Но у нас нет ни сил, ни данных для разрешения общей проблемы, и, следовательно, все наши моральные выводы будут более или менее (т. е., говоря честно, только более) произвольны и свидетельствовать только о наших предрассудках, если мы боязливы по природе, или о наших склонностях и вкусах, если мы привыкли доверять себе. Но поддерживать предрассудки – жалкое и недостойное человека дело: кажется, никто не станет этого оспаривать. А потому перестанем огорчаться разногласиями наших суждений и пожелаем, чтоб в будущем их было как можно больше. Истины нет – остается предположить, что истина в переменчивых человеческих вкусах. Поскольку того требуют условия совместного существования (общественные), – постараемся сговориться: но ни на йоту больше. Каждое соглашение, не вызываемое необходимостью, будет преступлением против Духа Святого.
102
79
Человек настолько консервативное существо, что всякая перемена, даже перемена к лучшему, пугает его, и он обыкновенно предпочитает привычное, хотя бы дурное, старое – новому, даже хорошему. Человек, много лет подряд бывший убежденным материалистом, ни за что не согласится признать душу бессмертной, если бы ему даже это доказали more geometrico[26 - Геометрическим способом (лат.)] и если бы даже он был трусливейшим существом и боялся смерти, как шекспировский Фальстаф. Ко всему тому еще самолюбие! Люди не любят признаваться в своих заблуждениях. Это смешно, но это – так. Люди, ничтожные, жалкие существа, на каждом шагу, как это Доказывает история и обыкновенная житейская практика, заблуждающиеся, хотят считать себя непогрешимыми и всезнающими. И зачем? Отчего не признаться прямо и открыто в своем незнании? Правда, это не так легко достижимо. Подлый разум, вопреки нашему желанию, подсовывает нам мнимые истины, от которых мы не умеем отделаться даже тогда, когда замечаем их призрачность. Сократ хотел думать, что ничего не знает – и не мог: он глубоко верил в свое знание, он думал, что ничего, кроме того, чему он учит, не может быть «истиной», он принял изречение оракула и искренне считал себя мудрейшим из людей. И мы все соблазнились его мудростью, которая до сих пор держит нас в плену. Декарт понимал, что нужно во всем усомниться, но не знал, с чего начинать. И так будет до тех пор, пока философы будут считать своей обязанностью учить и спасать ближних. Кто хочет помочь людям – тот не может не лгать. Нужно усомниться не затем, чтобы потом снова вернуться к твердым убеждениям: это было бы бесцельно; опыт показал, что такой процесс приводит только от одного заблуждения к другому – в области последних вопросов, разумеется. Нужно, чтобы сомнение стало постоянной творческой силой, пропитало бы собой самое существо нашей жизни. Ибо твердое знание есть условие несовершенного восприятия. Слабый, неокрепший дух не способен к слишком быстрым, непрерывным переменам; ему всегда нужно осматриваться, приходить в себя – и для этого подольше испытывать одно и то же. Ему нужны даваемые привычкой прочность и устои. Но созревший дух презирает эти костыли. Ему надоело пресмыкаться на земле, он отрывается от «родной» почвы и уходит ввысь, вдаль, в бесконечное пространство. И ведь всякий знает, что не навсегда же мы осуждены жить в этом мире. Но страх мешает нам прямо сказать это себе, и до поры до времени мы молчим. Но приходят несчастия, болезни, старость – и страх, который мы хотели отогнать от себя, делается постоянным спутником нашей жизни. Мы уже не можем от него отделаться и поневоле с любопытством начинаем присматриваться к ненавистному спутнику. И тогда мы замечаем, что он не только пытает нас, но вместе с нами и за нас делает странное и непривычное дело: перегрызает все нити, которыми мы были привязаны к прежнему существованию. Нам кажется иногда, что еще несколько мгновений, и нас ничто не в силах будет больше удержать, что осуществится вечная мечта пресмыкающегося человека: он освободится от тяжести и уйдет далеко от проклятой земной юдоли… Предчувствие ли это или галлюцинации измученной души?..
80
На моралистов нападают за то, что они рекомендуют людям «нравственное утешение». Но, собственно говоря, эти обвинения не совсем справедливы. Моралисты, вероятно, с большей радостью заменили бы свои отвлеченные дары более реальными, если бы только могли. Толстой в молодости хотел осчастливить человеческий род и только под старость, убедившись, что осчастливить не в его силах, стал проповедовать отречение, резиньяцию и т. п. И как он сердится, когда люди не соглашаются принять его учение! А ведь может быть, что, если бы Толстой вместо того, чтобы выдавать свое учение за решение последних вопросов и за оптимизм, говорил бы о невозможности удовлетворительных ответов и выступал пессимистом, его бы охотнее слушали и меньше возражали. Теперь он раздражает преимущественно тем, что, не умея облегчить ближних, он требует, чтобы ближние считали себя или по крайней мере притворялись получившими облегчение, даже осчастливленными им. На это мало кто соглашается: с какой стати добровольно отказываться от своих прав? Ведь право браниться и проклинать судьбу – хоть и не Бог знает какое большое, но все-таки право…
81
Иванов – в драме А. Чехова того же названия – сравнивает себя с надорвавшимся рабочим: рабочий умер, и Иванову остается только умереть. Но логика, как известно, рекомендует с большой осторожностью относиться к умозаключениям по аналогии. Ведь вот же сам Чехов, вынесший, по всем видимостям, в своей душе такую же драму, как Иванов, не умер и даже не оказался лишним человеком! Он что-то делает, он борется, ищет, и его дело кажется нам таким же важным и значительным, как и другие важные человеческие дела. Иванов застрелился, потому что Чехов не кончил еще своей борьбы, а драму нужно было кончать – того требует современная эстетика, которая от аристотелевских единств отказалась, но не допускает и мысли о возможности пьесы без развязки. Еще немного времени – и драматические писатели избавятся от этого стеснения: им разрешат открыто признаться, что они не знают, как и чем кончать. В повестях уже и теперь обходятся без конца.
82
Еще о том же. Иванов говорит: «Ну, где же мое спасение? В чем? Если неглупый, образованный человек без всякой видимой причины стал петь Лазаря и покатился по наклонной плоскости, то он катит уже без удержа и нет ему спасения». Один выход: признать наклонную плоскость и движение без удержу нормальным явлением. И даже более: искать в этом доказательство своих духовных преимуществ пред другими людьми. Разумеется, при этом нужно отойти в сторону, не свататься к молодым девушкам, не брататься с теми, которые еще живут, как все, а быть одному. «Любовь – вздор, ласки – приторны, в труде нет смысла, песня и горячие речи – пошлы и стары», – продолжает Иванов. Для молодой Саши эти слова страшны, но Иванов с ними справится, справился. Это ничего, что он шатается: стреляться ему еще рано. Он будет жить, пока живет его творец, Чехов. А мы прислушаемся к шатающемуся, колеблющемуся мировоззрению. Нам стройность и законченность так же надоели, как и буржуазное самодовольство.
83
Из сказанного видно, что уже в «Иванове», одном из своих ранних произведений, Чехов выступает в роли advocatus diaboli.[27 - Адвокат дьявола (лат.).] Куда Иванов ни является, он вносит гибель и разрушение. Чехов, правда, не решается явно брать его сторону и не знает, по-видимому, что делать со своим героем, а потому отделывается от него, развязывает, так сказать, себе руки умышленно шаблонным способом: Иванов на виду у всех стреляется, – ему даже некогда было отойти в сторону и покончить с собой так, чтоб никто не видел. Единственным оправданием Иванова является карикатура на честность – доктор Львов. Львов не живая фигура – это всякому ясно. Но этим он и замечателен. Замечательно, что Чехову понадобилось воскресить забытого Стародума фонвизинской комедии – но уже не затем, чтоб принудить людей поклониться воплощению добродетели, как делали прежние драматурги, а наоборот, затем, чтобы дать возможность надругаться над ним. Посмотрите только на эту честность – Львова. По старой привычке она еще выпячивает грудь, говорит громким голосом и властным тоном, но все прежние ее верноподанные не ставят ее ни в грош. Даже не удостаивают ее насмешки, а оплевывают и нетерпеливо выталкивают за дверь, как опостылевшую и наглую приживалку. Бедная честность! До чего она дожила! Видно и добродетелям не следует слишком долго заживаться на земле.
Дядя Ваня у Чехова готов броситься на шею своему другу и сопернику, доктору, – броситься на шею и разрыдаться, как плачут маленькие дети. Но он чувствует, что и сам доктор испытывает такую же неутолимую жажду утешения и ободрения. И бедная Соня уже не имеет сил одинаково выносить свое девичье горе. Все они блуждающими, потерянными, испуганными глазами ищут человека, который мог бы снять с них часть их невыносимых страданий – но везде находят то же, что у себя. Все чрезмерно обременены, ни у кого нет сил вынести собственные ужасы, не то, что облегчить другого. И последнее утешение отнимается у бедных людей: нельзя жаловаться, нет сочувственного взгляда. На всех лицах одно выражение – безнадежности и отчаяния. Каждому приходится нести свой крест – и молчать. Никто не плачет, не говорит жалких слов – это было бы неуместно и неприлично. Когда сам дядя Ваня, не сразу давший себе отчет о безысходности своего положения, начинает кричать: пропала жизнь! – никто не хочет прислушиваться к его крику. «Пропала, пропала, – все знают, что пропала. Молчи, вопли не помогут. И выстрелы не разрешат ничего». Здесь все могли бы повторить то, что говоришь ты, – но не повторяют и не плачут:
Вы думаете, плакать стану я?
Мне есть о чем рыдать, но прежде сердце
В груди моей на тысячи кусков порвется…
Шут мой, – я с ума сойду!
Постепенно водворяется грозное, вечное молчание кладбища. Все безмолвно сходят с ума, понимают, что с ними происходит, и решаются на последнее средство: навсегда затаить от людей свое горе и говорить обыденные, незначащие слова, которые принято считать разумными, значительными, светлыми даже. И уже никто больше не станет кричать «пропала жизнь» и соваться со своими переживаниями к ближним. Каждый знает, что позорно «проворонить жизнь» и что свой позор нужно навсегда скрыть от чужих глаз. Последний закон на земле – одиночество… Rеsigne toi, mon couer, dors ton sommeil de brute![28 - Смирись, мое сердце, и спи сном бессловесной твари (фр.).]
85
Ни на чем не основанные соображения. «Ни на чем не основанные», ибо, кажется, они вызваны общим предположением об осмысленности человеческого существования, а ведь оно дитя наших желаний и дитя, вероятно, незаконное… Пушкин опоэтизировал в «Скупом рыцаре» скрягу, Гоголь в Плюшкине, наоборот, создал для скупости страшный образ. По-видимому, к действительности был ближе Гоголь. Скупой безобразен, как его ни рассматривай – снаружи или изнутри. И все-таки не следовало бы Гоголю учить людей сохранять в старости идеалы юности. Коли есть старость – нечего ее исправлять и еще меньше извиняться за нее. Нужно принять ее и стараться подсмотреть, в чем ее сущность. Плюшкин, грязный и грубый маньяк, нам противен, но, кто знает, может быть, он делает свое, возложенное на него природой серьезное и важное дело. Он весь проникнут одним стремлением – и ко всему, что происходит в мире, равнодушен. Ему все равно, что о нем скажут люди. Ему все равно, сыт ли он, или голоден, согрет или холоден, умыт или грязен. Вообще ни одно внешнее событие не может отвлечь его внимания от невидимой нам внутренней работы. Он бескорыстно скуп, если можно так выразиться. И богатство его ему вовсе не нужно. Он гноит его в отвратительной куче и даже не мечтает, как пушкинский рыцарь, о могуществе, чертогах, которые он мог бы воздвигнуть, о резвых нимфах. К чему направлены его силы? Об этом никому нет времени подумать. Все при виде Плюшкина вспоминают только о приносимом им вреде. Люди, конечно, правы: Плюшкины, гноящие богатства, очень вредны. И общественная точка зрения почти всегда уместна. Но только – почти. Иногда не мешает морали и общественным соображениям умолкнуть – авось удастся разгадать загадку скупости, безобразия, старости…
86
Есть достаточно оснований к тому, чтобы недоверчиво относиться к жизни. Она столько раз обманывала нас в самых заветных ожиданиях наших. Но еще больше оснований есть не доверять разуму: ведь если жизнь могла обмануть нас, то только потому, что бессильный разум дался в обман. Может быть, он сам себе этот обман и выдумал и только из самолюбия валит с больной головы на здоровую. Так что, в конце концов, выбирая между жизнью и разумом, отдаешь предпочтение первой. Уже не стараешься предвидеть и объяснять, а ждешь, принимая все непоправимое за должное. Поэтому, вероятно, Ницше, видя, как постепенно разрушаются его надежды, и поняв, что прошлых сил уже не вернуть, что с каждым днем ему будет все хуже и хуже, писал (частное письмо от 28 мая 1883 г.): «Ich will es so schwer haben, wie nur irgend ein Mensch es hat; erst unter diesem Drucke gewinne ich das gute Gewissen daf?r, etwas zu besitzen, das wenige Menschen haben und gehabt haben: Fl?gel, um im Gleichnisse zu reden».[29 - Мне было так тяжело, как только может быть тяжело человеку; зато лишь под этим щитом я обретаю спокойную совесть, а также нечто, что имеют и имели немногие люди: крялья, чтобы говорить притчами (нем.).] В этих простых и немногих словах ключ к философии Ницше.
87
«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон – из детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Расскажите обыкновенным языком мысль Пушкина, и получится страничка из невропатологии: все неврастеники обыкновенно переходят от состояния крайней возбужденности – к совершенной прострации. Поэты – тоже: и гордятся этим.
88
Застенчивые люди обыкновенно воспринимают впечатления задним числом. В ту минуту, когда на их глазах что-либо происходит, они ничего не замечают и только впоследствии, воспроизведши в памяти отрывок из прошлого, они дают себе отчет в том, что видели. И тогда ретроспективно в их душе возникают чувства обиды, жалости, удивления с такой живостью, как будто бы дело шло не о прошлом, а о настоящем. Поэтому застенчивые люди всегда опаздывают с делом и всегда много думают: думать никогда не поздно. Робкие при других, они доходят до большой смелости, когда остаются наедине с собой. Они плохие ораторы, но часто замечательные писатели. Их жизнь бедна и скучна, их не замечают, пока они не прославятся. Когда же приходит слава – общее внимание уже не нужно.
89
Если бы Лаевский (в «Дуэли» Чехова) был писателем и имел литературное дарование, все бы говорили, что он оригинален и занимается исследованием «мистики пола», как Габриэле д'Аннунцио, например. А теперь он – пошляк. И его праздность ставят ему в упрек: хотят, чтоб он, по крайней мере, бумаги переписывал.
90
Из наблюдений над детьми. Эгоизм в человеке нас поражает неприятно главным образом ввиду того, что он свидетельствует о нашей бедности. «Я не могу отдать ближнему от своего избытка, мне самому мало останется». Нам хотелось бы, чтобы мы могли царственно щедрой рукой разбрасывать богатства, и когда мы видим, что кто-либо прикрывает свои лохмотья фразой «собственность священна», нам обидно. Священное – от богов, а у богов всего вдоволь, и они не считают, как смертные.
91
Мы видим, что человек раскаивается в своем поступке и делаем отсюда заключение: таких поступков нужно избегать. Пример ложного, но безукоризненного на вид заключения. Проходит некоторое время, и мы видим того же человека, вновь раскаивающегося по поводу второго такого же поступка. Если мы дорожим логикой, то это утвердит нас в нашем первом выводе. Если же мы не дорожим логикой, мы скажем: человеку одинаково нужно и совершать «поступки», и каяться. Иногда, впрочем, ошибка первого заключения исправляется иначе. Сделав вывод, что раскаяние говорит за необходимость избегать известных дел, человек всю жизнь их избегает и вдруг с необыкновенной ясностью начинает испытывать раскаяние по поводу того, что он «не делал». Но тогда уже заключение практически бесполезно: жизнь окончена, и просветлевший ум не знает, как отделаться от ненужного света.
92
Версия одной из сцен «Власти тьмы» совсем напоминает одноактные метерлинковские пьесы. О заимствовании тут, конечно, не может быть и речи: в то время, когда была написана «Власть тьмы», никто еще не слышал о Метерлинке. Толстой, очевидно, хотел попытаться творить в новом роде и освободиться от собственной, выработанной десятками лет упорного труда манеры. Но риск был слишком велик. Он предпочел лечиться от сомнений обыкновенным способом – работой, гигиенической жизнью и взялся за плуг.
93
Всяк кулик свое болото хвалит: Лермонтов видел признак духовного аристократизма в ослепительной белизне белья и всегда заставлял одеваться своих любимых героев со вкусом. Достоевский, наоборот, презирал «внешность»; на Дмитрии Карамазове грязное белье, и это ставится ему в заслугу или почти в заслугу.
94
Тургенев еще в молодые годы, в ту пору, когда писал свой рассказ «Довольно», видел, что ему предстоит в жизни нечто ужасное. Видел, но не испугался, хотя понимал, что ему следует испугаться заблаговременно, что жизнь без постоянной внутренней тревоги для него уже не имеет смысла.
95
Наполеон слыл знатоком человеческой души, Шекспир тоже. И их знания не имеют меж собой ничего общего.
96
То, что мы называем фантазией и что мы так ценим в великих поэтах – есть, в сущности, разнузданное, распущенное, если даже хотите, развращенное воображение. В обыкновенных смертных мы считаем это пороком, но поэтам мы все прощаем за пользу или удовольствие, которые они нам доставляют своими произведениями. Несмотря на наши возвышенные теории, мы всегда были в своих суждениях большими практиками, утилитаристами. Только один Платон решился изгнать поэта из своего государства. Затем прошло две с половиной тысячи лет, прежде чем Толстой, в свою очередь, позволил себе предложить на выбор поэтам: либо будьте добродетельны, либо перестаньте творить и откажитесь от учительской славы. Как известно, если Толстого не подняли на смех, то единственно из уважения к его прошлому и сединам – во всяком случае, никто не принял его слова серьезно. Наоборот, никогда еще поэты не чувствовали себя столь свободными от стеснений морали, как в наше время. Если бы Шиллер стал писать теперь свои драмы и философские статьи, их бы никто, вероятно, не захотел читать. В самом Толстом нас интересуют не столько его добродетели, сколько его пороки. Все его творчество мы начинаем объяснять не столько его стремлением к идеалам, сколько несоответствием между извне навязанными ему идеями и рвавшимися на простор запросами его недобродетельной души… Николенька Иртеньев по целым часам просиживал на площадке, подсматривая, как его старший брат Володя ловеласничает с горничными девушками, но никогда не мог принудить себя подражать Володе, хотя ему этого хотелось «больше всего ни свете». Горничная говорила Володе: «Отчего Николай Петрович никогда не приходит сюда и не дурачится?» «Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтоб быть на месте шалуна Володи». «Все на свете» – повторено два раза. Толстой приводит и психологическое объяснение поведения своего маленького героя: «Я был, – рассказывает Николенька, – стыдлив от природы, но моя стыдливость еще увеличивалась убеждением в моей уродливости!» Уродство, сознание своего уродства ведет к стыдливости – что может быть хорошего в добродетели, имеющей такое подозрительное происхождение! И как можно доверять нравственности толстовских героев! Сознание уродства своего порождает стыдливость, стыдливость загоняет страсти вовнутрь и не дает им естественно проявляться. Понемногу развивается чудовищная противоположность между фантазией и ее запросами и способностью осуществлять их. Вечный голод и суженный, не проводящий пищи пищевод. Отсюда и ненависть к фантазии с ее несбывающимися и несбыточными надеждами… В наши дни никто не бичевал так любовь, как Толстой во «Власти тьмы». А между тем, подвиги деревенского Дон-Жуана вовсе не так уж обязательно должны разрешиться трагедией. Но Толстой ненавидит «больше всего на свете» Дон-Жуанов, красивых, смелых, удачливых, доверяющих себе, переводящих мысль в дело, побеждающих женщин и осмеливающихся подавать руку живым каменным статуям – и мстит им по мере сил в своих произведениях…
97
В драме будущего обстановка будет совсем иная, чем в современной драме. Прежде всего будет устранена вся сложность перипетии. У героя есть прошлое – воспоминания, но нет настоящего: ни жены, ни невесты, ни друзей, ни дела. Он один и разговаривает только с самим собой или с воображаемыми слушателями. Живет вдали от людей. Так что сцена будет изображать либо необитаемый остров, либо комнату в большом многолюдном городе, где среди миллионов обывателей можно жить так же, как на необитаемом острове. Отступить назад к людям и общественным идеалам герою нельзя. Значит, нужно идти вперед к одиночеству, абсолютному одиночеству. Даже теперь уже никто, глядя на Плюшкина, не станет, подобно Гоголю, патетически призывать людей беречь до самой старости свои юношеские идеалы. Теперь юноши пойдут к Плюшкину, но не за тем, чтоб посмеяться над ним или в его страшном образе найти для себя предостережение – а за тем, чтобы посмотреть, нет ли как раз у него, в его грязной куче, там, где менее всего ожидали, жемчужин… Ликургу удалось заморозить спартанцев на несколько столетий – но и для них наступила оттепель, с которой исчезла вся их твердость. Последние остатки дорического, окаменелого искусства поступают в музеи… Что-то будет?..
98
Довлеет дневи злоба его. Если я весной не посею, у меня не будет осенью хлеба. Каждый день несет с собой достаточно забот и хлопот для бедного, слабого человека. Стоит ему на минуту забыть о делах, и он погибнет: умрет от голода или холода. Только для того, чтоб сохранить себя, нам необходимо напрягать все свои умственные и физические силы; более – мы принуждены весь окружающий нас мир представлять себе в таком виде, который бы наиболее соответствовал возможности добыть нужные для существования средства. Об истине некогда думать – да и при чем тут истина! Оттого-то явился на свет позитивизм с теорией естественного развития. На самом деле все, что мы видим, загадочно и таинственно. Мелкая мошка и огромный слон, ласковый ветерок и снежный ураган, молодое деревцо и исполинская гора – откуда все это? Почему, отчего непрерывно напрашиваются, но не произносятся: ради нужды дня философия всегда отодвигается на задний план. Думают только те, кто не умеет, не может или, по беспечности, не хочет заботиться о самосохранении, т. е. больные, ленивые или отчаянные люди. Они вновь возвращаются к загадке, которую люди дела, в глубокой уверенности в правоте своей, обратили в «естественность».
99
Кант, а за ним Шопенгауэр особенно любили эпитет «бескорыстный» и употребляли его в тех случаях, когда уже предварительно истощили весь запас имевшихся в их распоряжении хвалебных слов. «Бескорыстное размышление» – не преследующее никакой практической цели – высший идеал, который, по Шопенгауэру, может поставить себе человек: эту истину он считал общеобязательной, априорной. Но если бы случай завел его в круг русских мужиков – ему бы пришлось изменить свое мнение. Там размышления о судьбах и смысле мира, о бесконечности и т. п. никоим образом не считались бы бескорыстными – особенно, если бы человек, им отдающийся, одновременно предъявлял – как и полагается философу – притязания на полную свободу от физического труда. Там бы философа, будь он хоть Платоном, заклеймили бы позорнейшим прозвищем лентяя. Там высшею деятельностью считается корыстная, направленная к строго определенной практической цели; и если бы мужики умели учено говорить, они бы, наверное, назвали лежащий в основании их суждения принцип априорным. Толстой, черпающий свою мораль из народных источников, тоже нападает на ученых именно ввиду того, что они не хотят работать, а бескорыстно занимаются отысканием истины.
100
Что человек – почти каждый – десять раз на день меняет свои убеждения, это ясно для всякого беспристрастного наблюдателя. Об этом много раз говорилось, это служило предметом сатирических и юмористических изображений для многих писателей. И в том, что быть неустойчивым в своих суждениях – это порок, никто не сомневался. Наше воспитание на три четверти сводится к тому, чтобы приучить нас самым тщательным образом скрывать в ce6e переменчивость в суждениях и настроениях. Человек, не умеющий сдержать свое слово, – последний человек: на него ни в чем нельзя положиться. Тоже и человек, не имеющий прочных убеждений: совместная деятельность с ним невозможна. Мораль, здесь, как и всегда, исходящая из утилитарных соображений, выдвигает «вечный» принцип: ты должен всегда оставаться верным своим убеждениям. В культурных кругах эта заповедь считается до того незыблемой, что люди даже пред собою боятся оказаться непостоянными. Они окаменевают в своих верованиях, и для них нет большего стыда, чем признаться, что они переменили свои мнения. И когда прямые люди, как Монтень, открыто рассказывают о непостоянстве своих взглядов и настроений, – это многим даже кажется неправдой, клеветой на самого себя. Не нужно ни видеть, ни слышать, ни понимать, что вокруг тебя происходит: раз ты сформировался, ты потерял право расти, ты должен оставаться статуей, о которой все знают, в чем ее качества и в чем недостатки.
101
Вcякое философское «мировоззрение» стремится, исходя из того или иного разрешения общей проблемы человеческого существования, так или иначе направить нашу жизнь. Но у нас нет ни сил, ни данных для разрешения общей проблемы, и, следовательно, все наши моральные выводы будут более или менее (т. е., говоря честно, только более) произвольны и свидетельствовать только о наших предрассудках, если мы боязливы по природе, или о наших склонностях и вкусах, если мы привыкли доверять себе. Но поддерживать предрассудки – жалкое и недостойное человека дело: кажется, никто не станет этого оспаривать. А потому перестанем огорчаться разногласиями наших суждений и пожелаем, чтоб в будущем их было как можно больше. Истины нет – остается предположить, что истина в переменчивых человеческих вкусах. Поскольку того требуют условия совместного существования (общественные), – постараемся сговориться: но ни на йоту больше. Каждое соглашение, не вызываемое необходимостью, будет преступлением против Духа Святого.
102