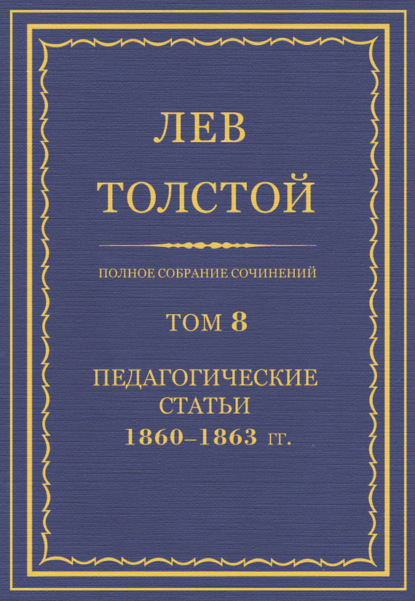По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 8. Педагогические статьи 1860–1863 гг.
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На дворе было не холодно – зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. На перекрестке мы остановились; старшие, трехлетние школьники, остановились около меня, приглашая проводить их еще; маленькие поглядели – и закатились под гору. Младшие начали учиться при новом учителе, и между мною и ими уже нет того доверия, как между мной и старшими. – «Ну, так пойдем в заказ» (небольшой лес шагах в 200 от жилья), сказал один из них. Больше всех просил Федька, мальчик лет десяти, нежная, восприимчивая, поэтическая и лихая натура. Опасность для него составляет, кажется, самое главное условие удовольствия. Летом всегда бывало страшно смотреть, как он с другими двумя ребятами выплывал на самую средину пруда, саженей в 50 ширины, и изредка пропадал в жарких отражениях летнего солнца, – плавал по глубине, перевертываясь на спину, пуская струйки воды и окликая тонким голоском товарищей на берегу, чтобы видели, какой он молодец. Теперь он знал, что в лесу есть волки, поэтому ему хотелось в заказ. Все подхватили, и мы в 4-м пошли в лес. Другой – я назову его Сёмка – здоровенный и физически, и морально, малый лет 12, прозванный Вавило, шел впереди и всё кричал и аукался с кем-то заливистым голосом. Пронька – болезненный, кроткий и чрезвычайно даровитый мальчик, сын бедной семьи, болезненный, кажется, больше всего от недостатка пищи, – шел рядом со мной. Федька шел между мной и Сёмкой и всё заговаривал особенно мягким голосом, то рассказывая, как он летом стерег здесь лошадей, то говоря, что ничего не страшно, а то спрашивая, «что? ежели какой-нибудь выскочит?» и непременно требуя, чтобы я что-нибудь сказал на это. Мы не вошли в середину леса, – это было бы уже слишком страшно, но и около леса стало темнее: дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись из виду. Сёмка остановился и стал прислушиваться. «Стой, ребята! Что такое?» вдруг сказал он. Мы замолкли, но ничего не было слышно; всё-таки страху еще прибавилось. «Ну, что же мы станем делать, как он выскочит – да за нами?» спросил Федька. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Они вспомнили кавказскую историю, которую я им рассказывал давно, и я стал опять рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате. Сёмка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачивая здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть по своей бедности всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по колено утопая в снегу.
Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк – нежных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п. Мне случалось видеть, как дама в крестьянской школе, желая обласкать мальчика, скажет: «ну, ужь я тебя поцелую, милашка!» – и поцалует, и кaк этот поцалованный мальчик стыдится, обижается и недоумевает, за что именно это с ним сделали; мальчик лет 5-ти становится ужь выше этих ласканий – он ужь «малый». Потому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший рядом со мной, в самом страшном месте рассказа, вдруг дотронулся до меня слегка рукавом; потом всей рукой ухватил меня за два пальца и уже не выпускал их. Только-что я замолкал, Федька уже требовал, чтобы я говорил еще, и таким умоляющим и взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания. – «Ну, ты, суйся под ноги!» сказал он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увлечен до жестокости, – ему было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удовольствие. «Ну, еще, еще! Вот хорошо-то!» Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне. «Пойдем еще, – заговорили все, когда уже стали видны огни, – еще пройдемся». Мы молча шли, кое-где проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной, дорожке; белая темнота как будто качалась перед глазами; тучи были низкие, как будто на нас что-то наваливало их; конца не было этому белому, в котором только мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. «Зачем же он песню запел, когда его окружили?» – спросил Сёмка. «Ведь тебе сказывали – умирать собрался!» отвечал огорченно Федька. «Я думаю, что молитву он запел!» прибавил Пронька. Все согласились. Федька остановился вдруг: «А как, вы говорили, вашу тетку зарезали?» спросил он – ему мало еще было страхов. – «Расскажи! расскажи!» Я им рассказал еще раз эту страшную историю убийства графини Толстой, и они молча стояли вокруг меня, глядя мне в лицо. – «Попался молодец!» сказал Сёмка. «То-то страшно ему было ночью ходить, как она зарезанная лежала, – сказал Федька, – я бы убежал!» – и он всё дальше забирал себе в руку мои два пальца. Мы остановились в роще, за гумнами, под самым краем деревни. Сёмка поднял хворостину из снегу и бил ею по морозному стволу липы. Иней сыпался с сучьев на шапку, и звук одиноко раздавался по лесу. «Лев Николаевич, – сказал Федька (я думал, он опять о графине), – для чего учиться пенью? Я часто думаю, право, – зачем петь?»
Как он перескочил от ужаса убийства на этот вопрос, Бог его знает, но по всему: по звуку голоса, по серьозности, с которой он добивался ответа, по молчанию интереса других двух, чувствовалась самая живая и законная связь этого вопроса с предыдущим разговором. Была ли эта связь в том, что он отвечал на мое объяснение возможности преступления необразованием (я говорил им это), или в том, что он поверял себя, переносясь в душу убийцы и вспоминая свое любимое дело (у него чудесный голос и огромный талант к музыке), или связь состояла в том, что он чувствовал, что теперь время искренней беседы, и поднялись в его душе все вопросы, требующие разрешения, – только вопрос его не удивил никого из нас. «А зачем рисованье, зачем хорошо писать?» сказал я, решительно не зная, как объяснить ему, для чего искусство. «Зачем рисование?» повторил он задумчиво. Он именно спрашивал: зачем искусство? Я не смел и не умел объяснить. – «Зачем рисованье? – сказал Сёмка. – Нарисуешь всё, всякую вещь по ней сделаешь!» – «Нет, это черченье, – сказал Федька, – а зачем фигуры рисовать?» – Здоровая натура Сёмки не затруднилась. «Зачем палка? зачем липа?» сказал он, всё постукивая по липе. – «Ну-да, зачем липа?» сказал я. «Стропила сделать», отвечал Сёмка. «А еще, летом зачем, покуда она не срублена». – «Да низачем». – «Нет, в самом деле, – упорно допрашивал Федька, – зачем растет липа?» – И мы стали говорить о том, что не всё есть польза, а есть красота, и что искусство есть красота, и мы поняли друг друга, и Федька совсем понял, зачем липа растет и зачем петь. Пронька согласился с нами, но он понимал более красоту нравственную – добро. Сёмка понимал своим большим умом, но не признавал красоты без пользы. Он сомневался, как это часто бывает с людьми большого ума, чувствующими, что искусство есть сила, но не чувствующими в своей душе потребности этой силы; он так же, как они, хотел умом придти к искусству и пытался зажечь в себе этот огонь. «Будем петь завтра Иже, я помню свой голос». У него верный слух, но нет вкуса, изящества в пении. Федька же совершенно понимал, что липа хороша в листьях, и летом хорошо смотреть на нее, и больше ничего не надо. Пронька понимал, что жалко ее срубить, потому что она тоже живая: «ведь это все равно что кровь, когда из березы сок пьем». Сёмка хотя и не говорил, но, видимо, думал, что? мало в ней проку, когда она трухлявая. – Мне странно повторить, что? мы говорили тогда, но я помню, – мы переговорили, как мне кажется, всё, что? сказать можно о пользе, о красоте пластической и нравственной.
Мы пошли к деревне. Федька всё не пускал мою руку, – теперь, мне казалось, уже из благодарности. Мы все были так близки в эту ночь, как давно уже не были. Пронька пошел рядом с нами по широкой дороге деревни. «Вишь, огонь еще у Мазановых!» – сказал он. «Я нынче в класс шел, Гаврюха из кабака ехал, – прибавил он, – пья-я-я-яный, распьяный; лошадь вся в мыле, а он-то ее ожаривает… Я всегда жалею. Право! за что ее бить». – «А надысь, батя, – сказал Сёмка, – пустил свою лошадь из Тулы, она его в сугроб и завезла, а он спит пьяный». – «А Гаврюха так по глазам свою и хлещет… и так мне жалко стало, – еще раз сказал Пронька, – зa что он ее бил? слез, да и хлещет». – Сёмка вдруг остановился. – «Наши ужь спят, – сказал он, вглядываясь в окна своей кривой черной избы. – Не пойдете еще?» – «Нет». – «Пра-а-а-щайте, Л. Н.; – крикнул он вдруг и, как будто с усилием оторвавшись от нас, рысью побежал к дому, поднял щеколду и скрылся. – «Так ты и будешь разводить нас – сперва одного, а потом другого?» сказал Федька. Мы пошли дальше. У Проньки был огонь; мы заглянули в окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина, с черными бровями и глазами, сидела за столом и чистила картошку; на средине висела люлька; математик 2-го класса, другой брат Проньки, стоял у стола и ел картошку с солью. Изба была черная, крошечная, грязная. «Пропасти на тебя нет! – закричала мать на Проньку. – Где был?» Пронька кротко и болезненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что он не один, и сейчас переменила, выражение на нехорошее, притворное выражение. Остался один Федька. «У нас портные сидят, оттого свет, – сказал он своим смягченным голосом нынешнего вечера. – Прощай, Л. Н.», прибавил он тихо и нежно и начал стучать кольцом в запертую дверь. «Отоприте!» прозвучал его тонкий голосок среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянул в окно: изба была большая; с печи и лавки виднелись ноги; отец с портными играл в карты, несколько медных денег лежало на столе. Баба, мачиха, сидела у светца и жадно глядела на деньги. Портной, прозженный ерыга, молодой мужик, держал на столе карты, согнутые лубком, и с торжеством глядел на партнера. Отец Федьки, с расстегнутым воротником, весь сморщившись от умственного напряжения и досады, переминал карты и в нерешительности сверху замахывался на них своею рабочею рукой. «Отоприте!» Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте! – еще раз повторил Федька, – всегда так давайте ходить».
Я вижу людей честных, добрых, либеральных, членов благотворительных обществ, которые готовы дать и дают одну сотую своего состояния бедным, которые учредили и учреждают школы и которые, прочтя это, скажут: «Нехорошо! – и покачают головой. – Зачем усиленно развивать их? Зачем давать им чувства и понятия, которые враждебно поставят их в своей среде? Зачем выводить их из своего быта?» скажут они. Я не говорю уже о тех, выдающих себя головою, которые скажут: «хорошо будет устройство государства, когда все захотят быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет!» Эти прямо говорят, что они не любят работать, и потому нужно, чтобы были люди, не то что неспособные для другой деятельности, а рабы, которые бы работали за других. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить их из их среды и т. д. – кто это знает? И кто может вывести их из своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дело. Хорошо ли или дурно подбавлять сахар в муку или перец в пиво? Федька не тяготится своим оборванным кафтанишком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему три рубля, катихизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он их найдет и возьмет, когда они ему понадобятся, а работать научится без вас – так же, как дышать; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять незабитых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать – дайте же ему то, что вы выстрадали, – ему этого одного и нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей. Не бойтесь: человеку ничто человеческое не вредно. Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то, что заповедала вам передать ему история, что? страданиями выработалось в вас.
Школа – бесплатная и первые по времени ученики – из деревни Ясной поляны. Многие из этих учеников вышли из школы, потому что родители их сочли ученье не хорошим; многие, выучившись читать и писать, бросили ходить, нанялись на станцию (главный промысел нашей деревни). Из соседних небогатых деревень привозили сначала, но, по неудобству ходить или отдавать на харчи (у нас берут самое дешевое 2 руб. сер. в месяц), скоро взяли назад. Из дальних деревень побогаче мужики польстились бесплатностью и распространившеюся молвой в народе, что в Ясно-полянской школе учат хорошо, отдали было детей, но в нынешнюю зиму, при открытии школ по селам, взяли их назад и поместили в платящих сельских школах. Остались в Ясно-полянской школе дети яснополянских мужиков, которые ходят по зимам, летом же, с апреля по половину октября, работают в поле, и дети дворников, приказчиков, солдат, дворовых, целовальников, дьячков и богатых мужиков, которые привезены верст за тридцать и пятьдесят.
Числом всех учеников до 40, но редко бывает больше 30 вместе. Девочек десятый, шестой процент, – от 3 до 5 у нас. Мальчики от седьмого до тринадцатого года, – самый обыкновенный, нормальный возраст. Кроме того, всякий год бывает человека 3 – 4 взрослых, которые походят месяц, иногда всю зиму – и совсем бросят. Для взрослых, по одиночке ходящих в школу, порядок школы весьма неудобен. Они, по своим годам и по чувству достоинства, не могут принять участия в оживлении школы, не могут отрешиться от презрения к ребятам и остаются совсем одиноки. Оживление школы им только мешает. Они приходят, большею частью, доучиваться, уже кое-что зная, и с убеждением, что ученье есть только то самое заучивание книжки, про которое они слыхали или которое даже испытали прежде. Для того чтобы придти в школу, ему нужно было преодолеть свой страх и дичливость, выдержать семейную грозу и насмешки товарищей. «Вишь, мерин какой – учиться ходит!» И кроме того, он постоянно чувствует, что каждый потерянный день в школе есть потерянный день для работы, составляющей его единственный капитал, и потому всё время в школе он находится в раздраженном состоянии поспешности и усердия, которые больше всего вредят ученью. За то время, про которое я пишу, было три таких взрослых, из которых один и теперь учится. Взрослые в школе – точно на пожаре: только что он кончает писать, в тот же момент, как кладет одной рукой перо, он другой захватывает книжку и стоя начинает читать; только что у него взяли книгу – он берется за грифельную доску; когда и эту отнимут у него – он совсем потерян. Был один работник, который учился и топил в школе нынешней осенью. Он в две недели выучился читать и писать, но это было не ученье, а какая-то болезнь в роде запоя. Проходя с дровами через класс, он останавливался и, с дровами в руках, перегибаясь через голову мальчика, складывал: с-к-а—ска и шел к своему месту. Когда он этого не успевал сделать, то с завистью, с злобой почти, смотрел на ребят; когда же он был свободен, то с ним нельзя было ничего сделать: он впивался в книгу, твердя б-а—ба; р-и—pu и т. д., и находясь в этом состоянии, он лишался способности понимать что-либо другое. Когда взрослым случалось петь или рисовать, или слушать рассказ истории, или смотреть опыты, – видно было, что они покорялись жестокой необходимости и, как голодные, оторванные от своего корма, ждали только минуты опять впиться в книгу с азами. Оставаясь верен своему правилу, я не заставлял как мальчика учить азбучку, когда ему этого не хотелось, так и взрослого учиться механике или черченью, когда ему хотелось азбучку. Каждый брал то, что ему было нужно.
Вообще взрослые, заученные прежде, еще не нашли себе места в Ясно-полянской школе, и их ученье идет дурно: что-то есть неестественного и болезненного в отношении их к школе. Воскресные школы, которые я видел, представляют то же самое явление относительно взрослых, и потому все сведения об успешном и свободном образовании взрослых были бы для нас драгоценнейшими приобретениями.
Взгляд народа на школу много изменился с начала ее существования. О прежнем взгляде нам придется говорить в истории Ясно-полянской школы; теперь же в народе говорят, что в Ясно-полянской школе всему учат и всем наукам, и такие дошлые есть учителя, что бяда: – гром и молнию, сказывают, приставляют! Одначе, ребята хорошо понимают – читать и писать стали. – Одни, богатые дворники, отдают детей из тщеславия, в полную науку произвесть, чтоб и делению занялся (деление есть высшее понятие о школьной премудрости); другие отцы полагают, что наука очень выгодна; большинство же отдает детей бессознательно, подчиняясь духу времени. Из этих мальчиков, составляющих большинство, самое радостное для нас явление представляют мальчики, отданные так, но до такой степени полюбившие ученье, что отцы теперь покоряются уже желанию детей и сами бессознательно чувствуют, что что-то хорошо делается с их детьми, и не решаются брать их из школы. Один отец рассказывал мне, как он целую свечу раз сжег, держа ее над книгой сына, и очень хвалил и сына, и книгу. Это было Евангелие. «Мой батя тоже, – рассказывал другой школьник, – сказку другой раз послушает, посмеется да и пойдет, а божественное, – так до полуночи сидит слушает, сам светит мне». Я был с новым учителем в гостях у одного ученика и, чтобы похвастаться пред учителем, заставил ученика решить алгебраическую задачу. Мать возилась у печи, и мы забыли ее; слушая, как сын ее озабоченно и бойко, перестраивая уравнение, говорил: 2аb – c = d, разделенному на 3, и т. п., она всё время закрывалась рукой, насилу удерживаясь, и наконец померла со смеху и не могла объяснить нам, чему она смеялась. Другой отец, солдат, приехав за сыном, застал его в классе рисованья и, увидав искусство сына, начал говорить ему «вы» и не решился в классе передать ему котелки, привезенные в гостинец. Общее мнение, мне кажется, такое: учат всему (так же, как господских детей), многому и понапрасну, но и грамоту выучивают скоро, – поэтому детей отдавать можно. Ходят и недоброжелательные слухи, но имеют теперь уже мало весу. Два славных мальчика недавно выбыли из школы на том основании, что в школе будто бы не учат писать. Другой солдат хотел отдать своего сына, но, проэкзаменовав лучшего из наших учеников и найдя, что он с запинками читал псалтырь, решил, что ученье плохая, только слава, – что хороша. Кое-кто из яснополянских крестьян еще побаивается, как бы не сбылись слухи, ходившие прежде; им кажется, что учат для какого-то употребленья и что, того и гляди, подкатят под учеников тележки да и повезут в Москву. Недовольство на то, что не бьют и нет чинности в школе, почти совсем уничтожилось, и мне часто случалось наблюдать недоумение родителя, приехавшего в школу за сыном, когда при нем начиналась беготня, возня и борьба. Он убежден, что баловство вредно, и верит, что учат хорошо, а как это соединяется, он не может понять. Гимнастика еще иногда порождает толки, и убеждение, что от нее животы откудаво-то срываются, не проходит. Как только разговеются, или осенью, когда поспеют овощи, гимнастика оказывает наибольший вред, и бабушки, накидывая горшки, объясняют, что всему причиной баловство и ломанье. Для некоторых, хотя и малого числа, родителей – даже дух равенства в школе служит предметом неудовольствий. В ноябре были две девочки, дочки богатого дворника, в салопчиках и чепчиках, сначала державшиеся особняком, но потом свыкшиеся и забывшие чай и чищенье зубов табаком и начавшие славно учиться. Приехавший родитель, в крымском тулупе нараспашку, войдя в школу, застал их раз в толпе грязных лапотников-ребят, которые, облокотившись рукой на чепчики девочек, слушали учителя; родитель обиделся и взял своих девочек из школы, хотя и не признался в причине своего неудовольствия. Есть еще, наконец, ученики, которые выбывают из школы, потому что родители, отдавшие их в школу для того, чтобы подольститься к кому-нибудь, берут детей назад, когда надобность подольститься миновалась.
Итак – предметов 12, классов 3, учеников всех 40, учителей 4, уроков в продолжение дня от 5 до 7. Учителя составляют дневники своих занятий, которые сообщают друг другу по воскресеньям, и сообразно тому составляют себе планы преподавания на будущую неделю. Планы эти каждую неделю не исполняются, а изменяются сообразно требованиям учеников.
Чтение механическое. Чтение составляет часть преподавания языка. Задача преподавания языка состоит, по нашему мнению, в руководстве учеников к пониманию содержания книг, написанных литературным языком. Знание литературного языка необходимо, потому что только на этом языке есть хорошие книги.
Прежде, с самого основания школы, не было подразделения чтения на механическое и постепенное, – ученики читали только то, что могли понимать: собственные сочинения, слова и фразы, писанные мелом на стенах, потом сказки Худякова и Афанасьева. Я полагал, что для того, чтобы дети выучились читать, им надо было полюбить чтение, а для того чтобы полюбить чтение, нужно было, чтобы читанное было понятно и занимательно. Казалось, как рационально и ясно, – а эта мысль была ложна. Во-первых, для того чтобы перейти от чтения по стенам к чтению по книгам, нужно было отдельно заняться механическим чтением с каждым учеником по какой бы то ни было книге. При небольшом числе учеников и отсутствии подразделений предметов это было возможно, и мне удалось без большого труда перевести первых учеников с чтения по стенам на чтение по книге, но с новыми учениками это стало невозможно. Младшие не в силах были читать и понимать сказки: единовременный труд складыванья слов и понимания смысла был слишком велик для них. Другое неудобство состояло в том, что постепенное чтение обрывалось этими сказками, и какую мы ни брали книгу «Народное», «Солдатское чтение», Пушкина, Гоголя, Карамзина – оказывалось, что старшие ученики при чтении Пушкина, так же как младшие при чтении сказок, не могли вместе соединять труда – читать и понимать читанное, хотя кое-что и понимали при нашем чтении.
Мы думали сначала, что затруднение только в недостаточности механизма чтения учеников, и придумали механическое чтение, чтение для процесса чтения, – учитель читал с учениками попеременкам, – но дело не подвигалось, и при чтении «Робинзона» являлась такая же несостоятельность. Летом, во время переходного состояния школ, мы думали победить эту трудность самым простым и употребительным способом. Отчего не сознаться: мы поддались ложному стыду перед посетителями. (Ученики наши читали много хуже учеников, учившихся столько же времени у дьячка.) Новый учитель предложил ввести чтение вслух по одним и тем же книжкам, и мы согласились. Задавшись раз ложной мыслью, что ученикам необходимо нужно бегло читать в нынешнем же году, мы написали в росписании: чтение механическое и постепенное, и заставили их читать по два часа в день, по одним и тем же книжкам, и нам было очень удобно. Но одно отступление от правила свободы учеников повело за собой ложь и одну ошибку за другой. Куплены были книжечки – сказочки Пушкина и Ершова; мальчиков сажали на лавки, и один должен был читать громко, а другие следить за его чтением; для того чтобы поверять, действительно ли все следят, учитель попеременно спрашивает то того, то другого. Первое время нам казалось это очень хорошо. Приходишь в школу – чинно сидят на лавочках, один читает, все следят. Читающий произносит: «смилу?йся, государыня рыбка», другие, или учитель, поправляют: «смИлуйся» – все следят. «Иванов, читай!» Иванов поищет немного и читает. Все заняты, учителя слышно, каждое слово выговаривают верно и читают довольно бегло. Кажется, хорошо, а вникните хорошенько, – тот, который читает, читает уже то же самое в тридцатый или сороковой раз. (Лист печатный хватит не больше, как на неделю; покупать же всякий раз новые книги страшно дорого, да и книг, понятных для крестьянских детей, только есть две: сказки Худякова и Афанасьева. Кроме того, книга, раз зачитанная одним классом и запомненная наизусть некоторыми, уже знакома не только всем школьникам, но надоела и домашним.) Читающий робеет, слушая свой одиноко раздающийся голос в тишине комнаты, все силы его устремлены на соблюдение знаков и ударений, и он усвоивает себе привычку читать, не стараясь понять смысла, ибо обременен другими требованиями. Слушающие делают то же самое и, надеясь всегда попасть на настоящее место, когда их спросят, равномерно водят пальцами по строкам, скучают и увлекаются посторонними развлечениями. Смысл прочитанного, как постороннее дело, против их воли иногда укладывается, иногда не укладывается в их голове. Главный же вред состоит в этой вечной школьной борьбе хитрости и уловок между учениками и учителем, которая развивается при таком порядке и которой до этого не было в нашей школе; единственная же выгода этого приема чтения, состоящая в правильном выговоре слов, не имела для наших учеников никакого значения. Ученики наши начали читать по стенам писанные и произнесенные ими самими фразы, и все знали, что пишется кого, а говорится каво; выучивать же остановкам и переменам голоса по знакам препинания я полагаю бесполезным, ибо всякий пятилетний ребенок верно употребляет знаки препинания голосом, когда понимает, что? говорит. Стало быть, легче его выучить понимать, что он говорит с книги (чего рано или поздно он должен достигнуть), чем выучить его по знакам препинания петь, как по нотам. А кажется, как удобно для учителя!
Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобнее для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики.
Эти три закона в преподавании, самым осязательным образом отразилися в Ясно-полянской школе на механическом чтении.
Благодаря живучести духа школы, особенно когда вернулись в нее старые ученики с сельских работ, чтение это упало само собой: стали скучать, шалить, отлынивать от урока. Главное же – чтение с рассказами, поверявшее успехи механического, доказало, что успехов этих нет, что за пять недель ни на шаг не подвинулись в чтении, многие же отстали. Лучший математик первого класса, Р., делающий в голове извлечение квадратных корней, до такой степени разучился читать за это время, что пришлось с ним читать, занимаясь складами. Мы бросили чтение по книжкам и ломали себе голову, придумывая способ механического чтения. Та же простая мысль, что не пришло еще время хорошего механического чтения, и что нет никакой необходимости в нем в настоящее время, что ученики сами найдут наилучший способ, когда явится потребность, только недавно пришла нам в голову. Во время этого искания само собой сложилось следующее. Во время классов чтения, уже только по имени разделяющегося на постепенное и механическое, самые плохие чтецы берут подвое книжки (иногда сказки, иногда Евангелие, иногда сборник песен, нумер «Народного чтения») и читают вдвоем только для процесса чтения, а когда эта книжка понятная сказка, – с пониманием, и требуют, чтобы учитель прослушал их, хотя класс и называется механическим чтением. Иногда, большею частью самые плохие, по нескольку раз берут ту же книгу, открывают на той же странице, читают одну и ту же сказку и запоминают ее наизусть не только без приказания, но даже несмотря на запрещение учителя; иногда эти плохие приходят к учителю или к старшему и просят прочесть с ними вместе. Читающие получше, из второго класса, меньше любят читать в компании, реже читают для процесса чтения и, ежели запоминают наизусть – то стихи, а не сказку в прозе. У старших повторяется то же явление с одною, поразившею меня в прошлом месяце, особенностью. В их классе постепенного чтения дается им одна какая-нибудь книга, которую они читают попеременкам и потом все вместе рассказывают ее содержание. К ним с этой осени присоединился, чрезвычайно талантливая натура, ученик Ч., учившийся два года у пономаря и потому обогнавший их всех в чтении; он читает так же, как мы, и потому при постепенном чтении ученики понимают, хотя и немного, только тогда, когда Ч. читает, и вместе с тем каждому из них хочется читать самому. Но как только начинает читать плохой чтец, все выражают свое неудовольствие, – особенно когда история интересна, – смеются, сердятся, плохой чтец стыдится, и возникают бесконечные споры. В прошлом месяце один из них объявил, что во что бы то ни стало добьется того, чтобы через неделю читать так же, как Ч.; другие обещались тоже, и вдруг механическое чтение сделалось любимым занятием. По часу, по полтора они стали сидеть, не отрываясь от книжки, которую не понимали, стали брать на дом книжки и действительно сделали в три недели такие успехи, которых нельзя было ожидать.
С ними случилось совершенно противное тому, что бывает обыкновенно с грамотеями. Обыкновенно бывает, что человек выучится читать, а читать и понимать нечего; тут же вышло, что ученики убедились в том, что есть чт? читать и понимать, и что для этого не достает у них уменья, и они сами стали добиваться беглого чтения. Теперь у нас оставлено совершенно механическое чтение, а ведется дело так, как описано выше, – предоставляется каждому ученику употреблять все те приемы, которые ему удобны, и замечательно, что каждый употребляет все мне известные приемы: и 1) чтение с учителем, и 2) чтение для процесса чтения, и 3) чтение с заучиваньем наизусть, и 4) чтение сообща, и 5) чтение с пониманием читанного.
Первый, употребляемый матерями всего света, вообще не школьный, а семейный прием состоит в том, что ученик приходит и просит почитать с ним; учитель читает, руководя каждым его складом и словом, – самый первый, рациональный и незаменимый способ, которого сам требует прежде всего ученик и на который невольно нападает учитель. Несмотря на все средства, будто бы механизирующие преподавание и мнимо облегчающие дело учителя с большим числом учеников, этот способ останется лучшим и единственным для обучения читать и читать бегло. Второй прием обучения чтению, и тоже весьма любимый, через который прошел всякий, выучившийся бегло читать, состоит в том, что ученику дается книга, и он предоставляется вполне самому себе складывать и понимать, как ему угодно. Ученик, выучившийся складывать настолько, что не чувствует потребности просить дяденьку почитать с ним, а надеется на себя, всегда получает, столь осмеянную в Гоголевском Петрушке, страсть к процессу чтения и вследствие этой страсти идет дальше. Каким образом укладывается в его голове такого рода чтение, – Бог его знает, но он таким путем привыкает к очертанию букв, к процессу складов, к произношению слов и даже к уразумению, и я не раз опытом убеждался, как отдвигала нас назад настойчивость на том, чтобы ученик непременно понимал читанное. Есть много самоучек, выучившихся читать хорошо таким способом, хотя каждому должны быть очевидны недостатки его. Третий способ обучения чтению состоит в заучивании наизусть молитв, стихов, вообще всякой печатной страницы и в произнесении заученного, следя за книгой. Четвертый способ состоит именно в том, чт? оказалось так вредно в Ясно-полянской школе, – в чтении по одним книгам. Он возник сам собою в нашей школе. Сначала книг не доставало, и садилось по два ученика за одну книжку; потом им самим это полюбилось, и когда скажут: «Читать!» – товарищи, совершенно равные по силам, отбираются по два, иногда по три, садятся за одну книжку, и один читает, а другие следят за ним и поправляют. И вы всё расстроите, ежели будете их рассаживать, – они сами знают, кто с кем ровня, и Тараска требует непременно Дуньку: – «Ну, иди сюда читать, а ты к своим иди». – Некоторые же вовсе не любят такого совместного чтения, потому что оно им не нужно. Выгода такого общего чтения состоит в большей точности выговора, в большем просторе для понимания тому, который не читает, а следит; но вся польза, приносимая таким способом, делается вредом, как только этот способ, или всякий другой, распространяется на всю школу. Наконец, еще любимый нами, пятый способ – есть чтение постепенное, т. е. чтение книг с интересом и пониманием всё более и более сложными. Все эти приемы сами собою, как сказано выше, вошли в употребление в школе, и дело в один месяц значительно подвинулось.
Дело учителя только предлагать выбор всех известных и неизвестных способов, которые могут облегчить ученика в деле учения. Оно, правда, при известном методе – хоть чтения по одинаким книжкам – преподавание делается легко, удобно для учителя, имеет вид степенности и правильности; при нашем же порядке представляется не только трудным, но многим покажется невозможным. Как, скажут, угадать, чт? именно нужно каждому ученику, и решить, законно ли требование каждого? Как, скажут, не растеряться в этой разнородной толпе, не подведенной под общее правило? На это отвечу: трудность представляется только потому, что мы не можем отрешиться от старого взгляда на школу, как на дисциплинированную роту солдат, которою нынче командует один, завтра другой поручик. Для учителя, вжившегося в свободу школы, каждый ученик представляется особым характером, заявляющим особые потребности, удовлетворить которые может только свобода выбора. Не будь свободы и внешнего беспорядка, который кажется столь странным и невозможным для некоторых, мы не только бы никогда не напали на эти пять способов чтения, но мы бы никогда не сумели употреблять и соразмерять их сообразно требованиям учеников и потому никогда бы не достигли тех блестящих результатов, которых мы достигли в чтении последнее время. Сколько раз нам случалось видеть недоумение посетителей нашей школы, хотевших в два часа времени изучить методу преподавания, которой у нас нет, и еще в продолжение этих двух часов рассказывавших нам свою методу; сколько раз случалось слышать советы таких посетителей ввести тот самый прием, который, неузнаваемый ими, на их же глазах, употреблялся в школе, но только не в виде распространенного на всех деспотического правила.
Чтение постепенное. Хотя, как мы сказали, чтение механическое и постепенное в действительности слились в одно, – для нас же эти два предмета всё еще подразделяются по их цели; нам кажется, что цель первого есть искусство из известных знаков бегло составлять слова, цель второго – знание литературного языка. Для узнания литературного языка нам естественно представилось средство, кажущееся самым простым, но в действительности самое трудное. Нам казалось, что после чтения учениками самими написанных фраз на досках надобно было им дать сказки Худякова и Афанасьева, потом что-нибудь потруднее, по-сложнее по языку, потом еще потруднее и т. д. – до языка Карамзина, Пушкина и свода законов; но это предположение, как и б?льшая часть наших и вообще всех предположений, не осуществилось. С своего, записанного ими самими на досках, языка мне удалось перевести их на язык сказок, а чтобы перевести с языка сказок на высшую ступень, этого переходного «чего-нибудь» – не было в литературе. Мы попробовали «Робинзона» – дело не пошло: некоторые ученики плакали с досады, что не могут понимать и рассказывать; я стал им рассказывать своими словами – они начали верить в возможность понять эту премудрость, стали добираться до смысла и в месяц прочли «Робинзона», но со скукой и под конец почти с отвращением. Труд этот был слишком велик для них. Они брали больше памятью и, рассказывая тотчас же по прочтении одного вечера, запоминали отрывки; всего же содержания никто не усвоил. Запомнили только, к несчастью, некоторые непонятные для них слова и стали их употреблять вкривь и вкось, как это делают полуграмотные люди. Я видел, что что-то не хорошо; но как помочь этому горю, – не знал Для проверки себя и очистки совести я начал давать читать, хотя и знал наперед, что не понравятся, разные народные подделки, как: «дяди Наумы» и «тетушки Натальи», – и предположение мое оправдывалось. Эти книги были для учеников скучнее всего, если бы требовалось, чтоб они рассказали содержание. После «Робинзона» я попробовал Пушкина, именно «Гробовщика»; но без помощи они могли его рассказать еще меньше, чем «Робинзона», и «Гробовщик» показался им еще скучнее. Обращения к читателю, несерьозное отношение автора к лицам, шуточные характеристики, недосказанность – всё это до такой степени несообразно с их требованиями, что я окончательно отказался от Пушкина, повести которого мне прежде, по предположениям, казались самыми правильно построенными, простыми и потому понятными для народа. Я попробовал еще Гоголя: «Ночь перед Рождеством». При моем чтении она сначала понравилась, особенно взрослым, но как только я оставил их одних, – они ничего не могли понять и скучали. Даже и при моем чтении не требовали продолжения. Богатство красок, фантастичность и капризность постройки противны их требованиям. Я пробовал еще читать «Илиаду» Гнедича, и чтение это породило только какое-то странное недоумение: они предполагали, что это написано по-французски, и ничего не понимали, покуда я не пересказал им содержание своими словами; но и тогда самая фабула поэмы не укладывалась в их головах. Скептик Сёмка, здоровая логическая натура, был поражен картиной Феба, с звучащими за спиной стрелами, слетевшего с Олимпа, но видимо не знал, куда уложить этот образ. «Как же он слетел с горы и не разбился?» всё спрашивал он у меня. «Да ведь он по ихнему бог», отвечал я ему. «Как же Бог! ведь их много? – стало-быть незаправской бог. Легко ли – с такой горы слетел; потому ему надобно расшибиться» – доказывал он мне, разводя руками. Я пробовал «Грибуля» Жорж Занда, «Народное» и «Солдатское чтение» – и всё напрасно. Мы пробуем всё, что можем найти, и всё, что присылают нам, но пробуем теперь почти безнадежно. Сидишь в школе и распечатываешь принесенную с почты мнимо-народную книгу. «Дяденька, мне дай почитать, мне! – кричат несколько голосов, протягивая руки, – да чтобы попонятнее было!» Открываешь книгу и читаешь: «Жизнь великого Святителя Алексия представляет нам пример пламенной веры, благочестия, неутомимой деятельности и горячей любви к отечеству своему, которому этот святый муж оказал важные услуги»; или: «Давно уже замечено частое явление в России даровитых самоучек, но не всеми оно одинаково объясняется»; или: «Триста лет прошло с тех пор, как Чехия сделалась зависимою от немецкой Империи»; или: «Село Карачарово, разметнувшись по уступу гор, лежит в одной из самых хлебородных Российских губерний»; или «Широко пролегала, залегала путь-дороженька»; или популярное изложение какой-нибудь естественной науки на одном печатном листе, наполненном до половины ласками и обхождением автора с мужичком. Дашь кому-нибудь из ребят такую книжку, – глаза начинают потухать, начинают позевывать. «Нет, непонятно, Лев Николаевич», скажет он и возвращает книгу. И для кого, и кем пишутся эти народные книги? – остается для нас тайною. Из всех прочитанных нами такого рода книг, за исключением «дедушки-расскащика» Золотова, имевшего большой успех в школе и дома, ничего не осталось.
Одни – просто плохие сочинения, написанные плохим литературным языком и не находящие читателей в обыкновенной публике, а потому посвященные народу; другие – еще более плохие сочинения, написанные каким-то не русским, а вновь изобретенным, будто народным, языком, в роде языка басен Крылова; третьи – переделки с иностранных, назначенных для народа, но не народных книг. Единственные же книги, понятные для народа и по его вкусу, суть книги, писанные не для народа, а из народа, а именно: сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок, в последнее время сборник Водовозова и т. п. Нельзя поверить, не испытав этого, с какою постоянной новой охотой читаются все без исключения подобного рода книги – даже «Сказания Русского народа», былины и песенники, пословицы Снегирева, летописи и все без исключения памятники древней литературы. Я заметил, что дети имеют более охоты, чем взрослые, к чтению такого рода книг; они перечитывают их по нескольку раз, заучивают наизусть, с наслаждением уносят на дом и в играх и разговорах дают друг другу прозвища из древних былин и песен. Взрослые – оттого ли, что они не так естественны, или уже входят во вкус щегольства книжным языком, или оттого, что бессознательно чувствуют потребность знания литературного языка – менее пристрастны к такого рода книгам, а предпочитают те, в которых наполовину слова, образы и мысли для них непонятны. Но как ни любимы учениками подобного рода книги, цель, которую мы, может быть ошибочно, поставили себе, ими не достигается: между этими книгами и литературным языком остается та же пучина. Выдти из этого ложного круга мы не видим до сих пор никакого средства, хотя делали и постоянно делаем новые попытки, новые предположения, – стараемся отыскать свою ошибку и просим всех тех, кому это дело близко к сердцу, сообщить нам свои предположения, опыты и решения вопроса. Неразрешимый для нас вопрос состоит в следующем: для образования народа необходима возможность и охота читать хорошие книги, – хорошие книги писаны языком, которого народ не понимает. Для того чтобы выучиться понимать, нужно много читать; для того чтобы охотно читать – нужно понимать...... В чем тут ошибка, и как выдти из этого положения?
Может быть, есть переходная литература, которой мы не признаем только по недостатку знания; может быть, изучение книг, ходящих в народе, и взгляд народа на эти книги откроют нам те пути, которыми люди из народа достигают понимания литературного языка.
Такому изучению мы посвящаем особый отдел в журнале и просим всех, понимающих важность этого дела, присылать нам свои статьи по этому предмету.
Может быть, причиной тому наша оторванность от народа, насильственное образование высшего класса, и делу может помочь только время, которое породит не христоматию, а целую переходную литературу, составившуюся из всех появляющихся теперь книг и которая сама собою органически уляжется в курс постепенного чтения. Может быть и то, что народ не понимает и не хочет понимать нашего литературного языка, потому что нечего ему понимать, потому что вся наша литература для него не годится, и он выработывает сам для себя свою литературу. Наконец, последнее предположение, которое кажется нам более всех вероятным, состоит в том, что кажущийся недостаток лежит не в сущности дела, а в нашей заданности той мыслью, что цель преподавания языка есть возведение учеников на степень знания литературного языка, и главное – в поспешности к достижению этой цели. Очень может быть, что постепенное чтение, о котором мы мечтаем, явится само собою, и что знание литературного языка придет в свое время каждому ученику само собою, как это мы беспрестанно видим у людей, читающих под ряд без понимания – псалтырь, романы, судейские бумаги и этим путем как-то доходящих до знания книжного языка. При этом предположении нам непонятно только то, почему появляющиеся книги все так дурны и не по вкусу народа, и чт? должны делать школы, дожидаясь этого времени? – ибо только одного предположения мы не можем допустить, чтобы, решив в своем уме, что знание литературного языка полезно, можно бы было насильственными объяснениями, заучиваниями и повторениями выучить народ против его воли литературному языку, как выучивают французскому. Мы должны признаться, что неоднократно пробовали это в последние два месяца и всегда встречали в учениках непреодолимое отвращение, доказывающее ложность принятого нами пути. При этих опытах я убедился только в том, что объяснения смысла слова и речи совершенно невозможны даже для талантливого учителя, не говоря уже о столь любимых бездарными учителями объяснениях, что «сонмище есть некий малый синедрион» и т. п. Объясняя какое бы то ни было слово, хоть например, слово «впечатление», вы или вставляете на место объясняемого другое, столько же непонятное слово, или целый ряд слов, связь которых столь же непонятна, как и самое слово.
Почти всегда непонятно не самое слово, а вовсе нет у ученика того понятия, которое выражает слово. Слово почти всегда готово, когда готово понятие. Притом отношение слова к мысли и образование новых понятий есть такой сложный, таинственный и нежный процесс души, что всякое вмешательство является грубой, нескладной силой, задерживающей процесс развития. Легко сказать – понимать, но разве непонятно каждому, сколько различных вещей можно понимать в одно время, читая одну и ту же книгу? Ученик, не понимая двух-трех слов в фразе, может понимать тонкий оттенок мысли или отношение ее к предыдущему. Вы, учитель, налегаете на одну сторону понимания, а ученику вовсе не нужно того, что вы хотите объяснить ему. Иногда он понял, только не умеет доказать вам того, что понял вас, сам же в то же время смутно догадывается и воспринимает совершенно другое и весьма для него полезное и важное. Вы пристаете к нему, чтобы он объяснился, но ведь он словами должен объяснить то впечатление, которое произвели на него слова, и он молчит или же начинает говорить, вздор, лжет, обманывает, пытается отыскать то, что вам нужно, подделаться под ваши желания или выдумывает несуществующую трудность и бьется над ней; общее же впечатление, произведенное книгой, поэтическое чутье, помогавшее ему угадывать смысл, забито и спряталось. Мы читали «Вия» Гоголя, повторяя своими словами каждый период. Всё шло хорошо до 3-й страницы, – там есть следующий период: «Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив, так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за ужином галушек, было бы совершенно невозможное дело, и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны».
Учитель. Ну, что вы прочли? (Почти все эти ученики очень развитые дети.)
Лучший ученик. В бурсе народ обжора всё был, бедный, и за ужином уписывал галушки.
Учитель. Еще что?
Ученик(плут и памятливый, говорит, что в голову пришло). Невозможное дело, доброхотные жертвовали.
Учитель(с досадой). Надо подумать. Не то. Что же невозможное дело?
Молчание.
Учитель. Прочтите еще раз.
Прочли. Один, памятливый, прибавил еще несколько запомненных слов: семинария, прокормление зажиточных владельцев, не могли быть достаточны. Никто ничего не понял. Стали говорить совершенный вздор. Учитель пристал к ним.
Учитель. Что же невозможное дело?
Ему хотелось, чтобы они сказали, что невозможно сосчитать.
Один ученик. Бурса – невозможное дело.
Другой ученик. Очень беден, невозможно.
Снова перечли. Как иголки искали того слова, которое нужно было учителю, попадали на всё, кроме слова сосчитать, и пришли в окончательное уныние. Я – этот самый учитель – не отстал и добился того, что они разложили весь период, но поняли уже гораздо хуже, чем тогда, когда повторил первый ученик. Впрочем и понимать-то было нечего. Небрежно связанный, растянутый период, ничего не дающий читателю, сущность которого была понята сразу: народ бедный и прожорливый уписывал галушки, – больше ничего и не хотел сказать автор. Я бился только из-за формы, которая была дурна, и, добиваясь ее, испортил весь класс на целое после-обеда, погубил и перемял пропасть только что распускавшихся цветков разностороннего понимания. В другой раз я так же грешно и безобразно бился над истолкованием слова орудие, и так же тщетно. В тот же день в классе рисования ученик Ч. протестовал против учителя, требовавшего, чтобы написано было на тетрадках: Рисованье Ромашки. Он говорил, что рисовали мы сами на тетрадках, а фигуру выдумывал только Ромашка, и потому надо писать не рисование, а сочинение Ромашки. Каким образом различие этих понятий пришло ему в голову, точно так же, каким образом являются, хотя и редко, причастия и вводные предложения в их сочинениях, – остается для меня таинством, в которое лучше не пытаться проникать.
Нужно давать ученику случаи приобретать новые понятия и слова из общего смысла речи. Раз он услышит или прочтет непонятное слово в понятной фразе, другой раз в другой фразе, ему смутно начнет представляться новое понятие, и он почувствует наконец, случайно, необходимость употребить это слово, – употребит раз, и слово и понятие делаются его собственностью. И тысячи других путей. Но давать сознательно ученику новые понятия и формы слова, по моему убеждению, так же невозможно и напрасно, как учить ребенка ходить по законам равновесия.
Всякая такая попытка не подвигает, а удаляет ученика от предположенной цели, как грубая рука человека, которая, желая помочь распуститься цветку, стала бы развертывать цветок за лепестки, и перемяла бы всё кругом.
Писание, грамматика и каллиграфия. Писание велось следующим образом: ученики выучивались одновременно узнавать и чертить буквы, складывать и писать слова, понимать прочитанное и писать. Они становились около стены, расчеркивая мелом отделы, и один из них диктовал то, что ему приходило в голову, другие писали. Ежели их было много, то они разделялись на несколько групп. Потом по очереди диктовали другие, и все перечитывали друг у друга. Писали печатными буквами и сначала поправляли ошибки неверностей складов и отделения слов, потом ошибки о – а, а потом ? – е, и т. д. Класс этот образовался сам собою. Каждый выучившийся писать буквы ученик бывает одержим страстью писать, и первое время двери, наружные стены школы и изб, где живут ученики, бывают исписаны буквами и словами. Написать же целую фразу (в роде того, что нынче Марфутка подралась с Ольгушкой) доставляет ему еще большее удовольствие. Чтобы организировать этот класс, учителю стоило только научить детей, как вести дело вместе, так же как взрослый научает ребят какой-нибудь детской игре. И в самом деле, – класс этот без изменений велся два года и каждый раз так же весело и живо, как хорошая игра. Тут и чтение, и выговор, и писанье, и грамматика. При этом письме достигается само собою труднейшее дело для начала изучения языка – вера в непоколебимость формы слова, не одного печатного, но и устного, своего слова. Я думаю, что каждый учитель, преподававший язык не по одной грамматике Востокова, встречался с этою первою трудностью. Вы хотите обратить внимание ученика на какое-нибудь слово – меня, положим. Вы ловите его фразу: «Микишка столкнул меня с крыльца», сказал он. «Кого столкнул?» говорите вы, прося его повторить фразу и надеясь найти «меня». «Нас», отвечает он. «Нет, как ты сказал?» спрашиваете вы. «Мы упали с крыльца от Микишки», или: «Как он то?ркнет нас – Праскутка полетела, и я за ней», отвечает он. Вы ищете тут ваш винительный падеж единственного числа и его окончание. А он не может понять, чтобы было что-нибудь различное в сказанных им словах. Ежели же вы возьмете книжку или станете повторять его фразу, то он будет разбирать с вами не живое слово, а что-то совсем другое. Когда же он диктует, каждое слово его ловится налету другими учениками и пишется. – «Как ты сказал? как?» и ужь ему не дадут изменить ни одной буквы. При этом беспрестанно бывают споры из-за того, что один написал так, а другой иначе, и весьма скоро диктующий начинает задумываться, ка?к сказать, и начинает понимать, что есть в речи две вещи: форма и содержание. Он скажет какую-нибудь фразу, думая только о содержании, – быстро, как одно слово, вылетит из него эта фраза. Его начинают допрашивать: как? что? – и он, сам себе повторяя ее по нескольку раз, уясняет форму и составные части речи и закрепляет их словом.
Так пишут в 3-м, т. е. низшем классе, – кто умеет писать скорописными, кто печатными. Мы не только не настаиваем на писаньи скорописными, но ежели бы позволяли себе что-нибудь запрещать ученикам, мы бы не позволяли им писать скорописными, которые портят руку и нечетки. Скорописные буквы входят в их писанье сами собой: один выучится у старшего – одну, две буквы, – другие перенимают и часто пишут слова таким образом: дяденька, и не пройдет недели, как все пишут скорописными. С каллиграфией случилось нынешним летом совершенно то же, что с механическим чтением. Ученики писали очень дурно, и новый учитель ввел писанье с прописей (тоже весьма степенное и покойное для учителя упражнение). Ученики стали скучать, мы принуждены были бросить каллиграфию и не могли придумать средства для исправления почерка. Старший класс сам нашел это средство. Окончив писать священную историю, старшие ученики стали просить домой свои тетради. Тетрадки были испачканы, растерзаны, уродливо написаны. Аккуратный математик Р. попросил бумажки и стал переписывать свою историю. Всем это понравилось. «И мне бумажки, и мне тетрадку!» и нашла мода каллиграфии, продолжающаяся до сих пор в высшем классе. Они берут тетрадь, кладут перед собой азбуку прописей, списывают каждую букву, хвастаются друг перед другом и сделали в две недели большие успехи. Почти каждого из нас заставляли маленького есть за столом непременно с хлебом, и почему-то тогда не хотелось, а теперь хочется есть с хлебом. Почти каждого из нас заставляли держать перо вытянутыми пальцами, и мы все держали перо скрючивши пальцы, потому что они были коротки, а теперь вытягиваем пальцы. Спрашивается: за что нас так мучали, тогда как это пришло само собою, когда понадобилось? Не придет ли эта охота и потребность знания во всём точно так же?
Во 2-м классе пишут сочинения с устного рассказа из священной истории на аспидных досках, потом переписывают на бумагу. В 3-м, меньшем классе пишут, что? вздумают. Кроме того, меньшие по вечерам пишут поодиночке фразы, составленные всеми вместе. Один пишет, а другие перешептываются между собой, замечая его ошибки, и ждут только окончания, чтоб уличить его в ? или в отставленном не на месте предлоге, а иногда, чтобы и самим соврать. Правильно писать и поправлять ошибки у других составляет для них большое удовольствие. Старшие схватывают каждое попавшееся письмо, упражняются в поправлении ошибок, стараются из всех сил писать хорошо, но грамматику и анализ языка терпеть не могут и, несмотря на наше бывшее пристрастие к анализу, допускают его в очень малых размерах, засыпают или уклоняются от классов.
Мы делали различные попытки преподавания грамматики и должны сознаться, что ни одна из них не достигла цели – сделать это преподавание занимательным. Во втором и первом классах было начато летом новым учителем объяснение частей предложения, и дети – и то сначала некоторые – интересовались им, как шарадами и загадками. Часто, по окончании урока, они нападали на мысль загадок и забавлялись загадыванием друг другу то того: где будет сказуемое? то того: что? сидит на ложке, свесивши ножки? Приложений же к верному письму никаких не было, а ежели и были, то более ошибочные, чем верные. Точно так же, как это бывает с буквой о, вместо а, – скажешь, что выговаривается a, a пишется о: он и пишет: робота, молина: скажешь, что два сказуемых разделяются запятою, он пишет: хочу, сказать, и т. п. Требовать от него, чтобы он дал себе всякий раз отчет, что? в каждом предложении дополнительное, что? сказуемое – невозможно. Ежели же он и даст себе отчет, то при отыскивании утратит всё чутье, необходимое ему для того, чтобы правильно написать остальное, не говоря уже о том, что при синтаксическом разборе учитель беспрестанно бывает принужден хитрить перед учениками и обманывать их, что? они чувствуют очень хорошо. Нам попалось, например, предложение: на земле не было гор. Один сказал, что подлежащее – земля, другой, что подлежащее – горы, а мы сказали, что это безличное предложение, и хорошо видели, что ученики замолчали только из приличия, но поняли очень хорошо, что наш ответ был гораздо глупее их ответов, в чем и мы внутренно согласились. – Убедившись в неудобстве анализа синтаксического, попробовали мы также этимологический разбор – части речи, склонения и спряжения, и также загадывали друг другу загадки о дательном неокончательном и наречии, и результатом вышла та же скука, то же злоупотребление приобретенного нами влияния и та же неприложимость. В старшем классе всегда ставят ? в дательном и предложном падежах, но когда они поправляют ту же ошибку у младших, они никогда не могут ответить – почему, и должны быть наведены на загадки падежей, чтобы вспомнить правило: в дательном ?. Самые младшие, еще ничего не слыхавшие о частях речи, очень часто кричат: себ? – ?, сами не зная почему и, видимо, наслаждаясь тем, что угадали. Пробовал я в последнее время во втором классе упражнение своего изобретения, которым я увлекся, как и все изобретатели, и которое мне казалось необыкновенно удобным и рациональным до тех пор, пока я не убедился в несостоятельности его из практики. Не называя частей речи предложения, я заставлял их писать что-нибудь, иногда задавая предмет, т. е. подлежащее, и вопросами заставлял их расширять предложение, вставляя определения, новые сказуемые, подлежащие, обстоятельства и дополнения. «Волки бегают». Когда? где? как? какие волки бегают? кто еще бегают? бегают и еще что делают? Мне казалось, что, привыкая к ответам на вопросы, требующие той или другой части, они усвоят себе различие частей предложения и речи. Они и усвоивали себе их, но скучали и внутренно спрашивали себя: зачем? —что? и я должен был спросить у себя и не нашел ответа. Никак не отдает без борьбы человек и ребенок свое живое слово на механическое разложение и уродование. Есть какое-то чувство самосохранения в этом живом слове. Ежели должно ему развиваться, то оно стремится развиваться самостоятельно и сообразно только со всеми жизненными условиями. Только что вы хотите поймать это слово, завинтить его в верстак, обтесать и дать ему нужные, по вашему мнению, украшения, как это слово, с живою мыслью и содержанием, сжалось, спряталось, и у вас в руках остается одна шелуха, над которой вы можете делать свои ухищрения, не вредя и не принося пользы тому слову, которое вы хотели образовывать.
До сих пор во втором классе продолжаются синтаксический и грамматический анализ, упражнение в расширении предложений, но идут вяло и, полагаю, скоро падут сами собою. Кроме того, как упражнение в языке, хотя и вовсе не грамматическое, мы употребляем следующее.
1) Из заданных слов мы предлагаем составлять периоды; например, мы пишем: Николай, дрова, учиться, а они пишут – один: «ежели бы Николай не рубил дрова, то пришел бы учиться», а другой: «Николай хорошо дрова рубит, надо у него поучиться» и т. д.
2) Сочиняем стихи на заданный размер, и это упражнение более всех других занимает старших учеников. Стихи выходят в роде следующих:
У окна сидит старик
В прорванном тулупе,
А на улице мужик
Красны яйца лупит.