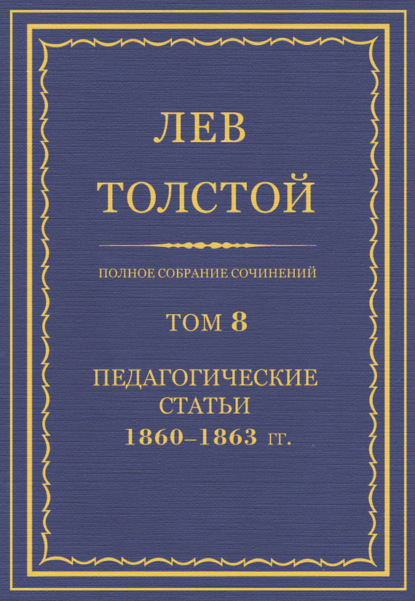По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 8. Педагогические статьи 1860–1863 гг.
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3) Упражнение, имеющее большой успех в низшем классе: задается какое-нибудь слово – сначала существительное, потом прилагательное, наречие, предлог. Один выходит за дверь, а из оставшихся каждый должен составить фразу, в которой бы находилось заданное слово. Выходивший должен угадывать.
Все эти упражнения – писание фраз по данным словам, стихосложение и угадывание слов – имеют одну общую цель: убедить ученика в том, что слово есть слово, имеющее свои непоколебимые законы, изменения, окончания и соотношения между этими окончаниями, – убеждение, которое долго не приходит им в голову и которое необходимо прежде грамматики. Все эти упражнения нравятся; все упражнения в грамматике порождают скуку. Страннее, знаменательнее всего то, что грамматика скучна, несмотря на то, что нет ничего легче ее. Как только вы не станете учить ее по книге, начиная с определений, шестилетний ребенок через полчаса начинает склонять, спрягать, узнавать роды, числа, времена, подлежащие и сказуемые, и вы чувствуете, что он знает всё это точно так же хорошо, как и вы сами. (В нашей местности нет среднего рода: ружье, сено, масло, окно – всё она, большая и дурная, и тут грамматика ничего не помогает. Старшие ученики третий год знают все правила склонения и окончаний родов, а всё-таки пишут: в этой сене много щавельнику – и отвыкают только настолько, насколько их поправляешь и насколько помогает чтение.) Чему же я их учу, спрашиваешь себя, когда они всё это знают так же, как я? Спрошу ли я у них, как будет «большой» множественного числа родительного падежа женского рода? спрошу ли, где сказуемое, где дополнение? спрошу ли – от какого слова происходит «распахнулся»? – ему трудна только номенклатура, а прилагательное, в каком хотите падеже и числе, он употребит всегда без ошибки. Стало быть, он знает склонение. Речи он никогда не скажет без сказуемого и дополнения не смешает с ним. «Распахнуться» – он чувствует, что родственно с словом «пах», и сознает законы образования слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает новых слов, как дети. К чему же эта номенклатура и требование философских определений, которые свыше его сил? Единственное объяснение необходимости грамматики, кроме требования на экзаменах, может быть найдено в приложении ее к правильному изложению мыслей. В своем личном опыте я не нашел этого приложения, не нахожу его в примерах жизни людей, не знающих грамматики и пишущих правильно, и кандидатов филологии, пишущих неправильно, и не нахожу почти ни одного намека на то, чтобы знания грамматики Ясно-полянских школьников прилагались ими к какому-нибудь употреблению. Мне кажется, что грамматика идет сама собой, как умственное небесполезное гимнастическое упражнение, а язык – уменье писать, читать и понимать – идет сам собой. Геометрия и вообще математика представляются сначала тоже только умственной гимнастикой, но разница в том, что каждое положение геометрии, каждое математическое определение ведет за собой дальнейшие и бесконечные выводы и приложения; в грамматике же, ежели бы даже согласиться с теми, которые видят в ней приложение к языку, есть весьма тесная граница этих выводов и приложений. Как только ученик тем или другим путем овладел языком, все приложения из грамматики обрываются, отпадают, как что-то мертвое и отжитое.
Мы лично всё еще не можем вполне отрешиться от предания, что грамматика, в смысле законов языка, необходима для правильного изложения мыслей; нам даже кажется, что есть потребность грамматики в учащихся, что в них бессознательно лежат законы грамматики; но мы убеждены, что грамматика, которую мы знаем, совсем не та, какая нужна учащимся, и что в этом обычае преподавания грамматики есть какое-то большое историческое недоразумение. Ребенок узнае?т, что надо писать ?в слове «себ?» не потому, что оно в дательном падеже, сколько бы раз вы это ему ни говорили, и не потому только, что он слепо подражает тому, что? видел написанным несколько раз, – он обобщает эти примеры, но только не в форме дательного падежа, а как-то иначе. У нас есть ученик из другого училища, прекрасно знающий грамматику и никогда не умеющий отличить 3-е лицо от неопределенного наклонения в возвратном залоге, и другой ученик, Федька, не имеющий понятия о неокончательном и никогда не ошибающийся и объясняющий себе и другим дело посредством прибавления слова «будет», т. е. «довольно». Я не хочу учиться. Он сомневается и говорит: ты не хочешь учиться? Ну, так будет учиться. Значит ерь. – А ежели такая речь: Сёмка дурно учится! Он говорит: дурно учится? Так будет учится. И это не выходит, по его мнению, и он не ставит ерь. Мы в Ясно-полянской школе, точно так же как и в обучении грамоте, признаем в обучении языка все известные способы небесполезными и употребляем их по мере того, как они охотно принимаются учениками, и по мере наших знаний; вместе с тем, мы не признаем ни одного из этих приемов исключительным и постоянно пытаемся отыскивать новые приемы. Мы столь же мало согласны с способом г-на Перевлесского, который не выдержал двухдневного опыта в Ясно-полянской школе, сколько и с весьма распространенным мнением, что единственный способ для изучения языка – есть писание, несмотря на то, что писание составляет в Ясно-полянской школе главный способ изучения языка. Мы ищем и надеемся найдти.
Писание сочинений. В первом и втором классе выбор сочинений предоставляется самим ученикам. Любимый предмет сочинений для первого и второго класса есть история Ветхого Завета, которую они пишут два месяца после того, как ее им рассказал учитель. Первый класс начал недавно писать Новый Завет, но далеко не так успешно, как Ветхий, даже орфографических ошибок они делали больше, – они хуже понимали. В первом классе мы попробовали сочинения на заданные темы. Первые темы, которые самым естественным путем пришли нам в голову, были описания простых предметов, как-то: хлеба, избы, дерева и т. д.; но, к крайнему удивлению нашему, требования эти доводили учеников почти до слез, и, несмотря на помощь учителя, подразделявшего описание хлеба на описание о его произрастании, о его производстве, об употреблении, – они решительно отказывались писать на темы такого рода и, ежели писали, то делали непонятные, безобразнейшие ошибки в орфографии, в языке и смысле. Мы попробовали задать описание каких-нибудь событий, и все обрадовались, как будто им сделали подарок. Столь любимое в школах описание так называемых простых предметов: свиньи, горшка, стола, оказалось без сравнения труднее, чем целые, из воспоминаний взятые рассказы. Одна и та же ошибка повторилась при этом, как и во всех других предметах преподавания: учителю кажется легким самое простое и общее, а для ученика только сложное и живое кажется легким. Все учебники естественных наук начинаются с общих законов, учебники языка – с определений, истории – с разделений на периоды, даже геометрия – с определения понятия пространства и математической точки. Почти всякий учитель, руководясь тем же путем мышления, первым сочинением задает определение стола или лавки и не хочет убедиться, что для того, чтобы определить стол или лавку, нужно стоять на высокой степени философско-диалектического развития, и что тот же ученик, который плачет над сочинением о лавке, прекрасно опишет чувство любви или злобы, встречи Иосифа с братьями, или драки с товарищем. Предметами сочинений выбирались сами собою описания событий, отношения к лицам и передача слышанных рассказов.
Писать сочинения составляет их любимое занятие. Как только вне школы старшим ученикам попадется бумага и карандаш; они пишут не Милос. Милостивой, а пишут из головы сказку своего сочинения. В первое время меня смущала нескладность, непропорциональность постройки сочинений; я внушал то, что? мне казалось нужно, но они понимали меня навыворот, и дело шло худо, – они всё как будто не признавали другой потребности, как той, чтобы не было ошибок. Теперь же пришло само собой время, и часто слышатся неудовольствия, когда сочинение растянуто или встречаются частые повторения, скачки от одного предмета к другому. В чем состоят их требования – трудно определить, но требования эти законны. – Нескладно! кричат некоторые, слушая сочинение товарища; некоторые не хотят читать своего после того, как прочтенное сочинение товарища хорошо; некоторые вырывают тетрадку из рук учителя, недовольные, что не так выходит, как они хотели, и читают сами. Личные характеры начинают выражаться так резко, что мы делали опыт заставлять их угадывать, чье мы читали сочинение, и в первом классе угадывают без ошибки.
По недостатку места, мы откладываем описание преподавания языка и других предметов и выписки из дневников учителей до другого нумера; здесь же приводим образцы сочинений двух учеников 1-го класса, без изменений орфографии и знаков препинания, расставленных ими самими. Сочинения же их из священной истории надеемся поместить в следующей книжке.
Сочинения Б. (самого плохого ученика, но оригинального и бойкого мальчика) о Туле и об ученьи. Сочинение об ученьи имело большой успех между ребятами. Б. 11 лет, он учится третью зиму в Ясно-полянской школе, но учился прежде.
«О Тул?. На другое Воскресенье я опять по?халъ въ Тулу. Когда прi?хали, то Владимiръ Александровичъ намъ говоритъ съ Васькой Ждановымъ ступайте въ Воскресную школу. Мы пошли, шли, шли, насилушка нашли, приходимъ и видимъ, что вс? учителя с?дятъ. И тамъ я вид?лъ учителя тотъ который училъ насъ ботаники. Тутъ я говорю здравствуйте господа! они говорятъ здрастуй. Потомъ я взошелъ въ классъ, сталъ возл? стола такъ мн? стало скучно, я взялъ и пошелъ по Тул?. Ходилъ, ходилъ и вижу что одна баба торгуетъ калачами. Я сталъ доставать изъ кармана деньги, когда вынулъ и сталъ покупать калачи, купилъ и пошелъ. А еще я вид?лъ на башн? ходитъ челов?къ и смотритъ не горитъ ли гд?. Я объ Тул? кончилъ».
«Сочиненье о томъ какъ я учился».
«Когда мн? было восемь л?тъ, то меня отдали на Грумы къ скотницы. Тамъ я учился хорошо. А потомъ пришла скука на меня, я сталъ плакать. А бабка возьметъ палку и ну меня бить. А я еще больше кричу. И черезъ несколько дней я по?халъ домой и все расказалъ. И меня оттуда взяли и отдали къ дунькиной матери. Я тамъ учился хорошо и меня тамъ никогда не били, и я тамъ выучилъ всю азбуку. Потомъ меня отдали къ Фоки Демидовичу. Онъ меня очень больно билъ. Однажды я отъ него убижалъ, а онъ меня вил?лъ поимать. Когда меня поймали и повели къ нему. Онъ меня взялъ, разложилъ на скамейк? и взялъ въ руки пукъ розокъ и началъ меня бить. А я кричу на всю глотку, и когда онъ меня высикъ и заставилъ читать. А самъ слушаетъ и говоритъ: ахъ? ты сукинъ сынъ ишъ какъ скверно читаетъ! ишъ какой свинья».
Вот два образца сочинений Федьки: одно – на заданную тему о хлебе, как он растет; другое выбранное им самим, о поездке в Тулу. (Федька учится третью зиму. Ему 10 лет.)
«О хл?б?. Хл?бъ растетъ изъ земли. Съ начала онъ зеленый бываетъ хл?бъ. А когда она подростетъ, то изъ ней выростутъ колосья и ихъ жнутъ бабы. Еще бываетъ хл?бъ какъ трава, то скотина его ?стъ очень хорошо».
Этим всё кончилось. Он чувствовал, что нехорошо, и был огорчен. О Туле же написал следующее, без поправок.
«О Тул?. Когда я еще былъ малъ, мн?, было годовъ пять; то я слышалъ народъ ходилъ въ какую-то Тулу и я самъ не зналъ, что за такая Тула. Вотъ я спросилъ батю. Бать! въ какую это Тулу вы ?здиете, ай она хороша? Батя говоритъ: хороша. Вотъ я говорю, Бать! возьми меня съ собой, я посмотрю Тулу. Батя говоритъ ну что-жь, пусть придетъ воскресенье я тебя возьму. Я обрадовался сталъ по лавк? б?гать и прыгать. Посл? этихъ дней пришло воскресенье. Я только всталъ по утру а батя уже запрягаетъ лошадей на двор?, я скор?е сталъ обуваться и од?ваться. Только я од?лся и вышелъ на дворъ, а батя ужь запрегъ лошадей. Я с?лъ въ сани и по?халъ. ?хали, ?хали, про?хали четырнадцать верстъ. Я увидалъ высокую церковь и закричалъ: батюшка! вонъ какая церковь высокая. Батюшка говоритъ: есть церковь ниже да красивей, я сталъ его просить, батюшка пойдемъ туда, я помолюсь Богу. Батюшка пошелъ. Когда мы пришли, то вдругъ ударили въ колоколъ, я испугался и спросилъ батюшку, что это такое, или играютъ въ бубны. Батюшка говоритъ: н?тъ это начинаетъ об?дня. Потомъ мы пошли въ церковь молиться Богу. Когда мы помолились, то мы пошли на торгъ. Вотъ я иду, иду а самъ спотыкаюсь, все смотрю по сторонамъ. Вотъ мы пришли на базаръ, я увидалъ продаютъ калачи и хот?лъ взять безъ денегъ. A мн? батюшка говоритъ, не бери, а то шапку снимутъ. Я говорю за что снимутъ, а батюшка говоритъ, нe бери без денегъ, я говорю ну дай мне гривну, я куплю себ? калачика. Батя мн? далъ, я купилъ три калача и съ?лъ и говорю: батюшка, какiе калачи хорошiе. Когда мы закупили все, мы пошли къ лошадямъ и напоили ихъ, дали имъ с?на, когда они по?ли, мы запрегли лошадей и по?хали домой, я взошелъ въ избу и разд?лся и началъ расказывать вс?мъ, какъ я былъ въ Тул?, и какъ мы съ батюшкой были въ церкви, молились Богу. Потомъ я заснулъ и вижу во сн? будто батюшка ?дитъ опять въ Тулу. Тотчасъ я проснулся, и вижу все спятъ, я взялъ и заснулъ».
ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ.
Священная история. Русская история. География.
Священная история. С самого основания школы и даже в настоящее время, занятия по предмету священной и русской истории идут таким образом: дети собираются около учителя, и учитель, руководствуясь только Библией, а для русской истории – «Норманским периодом» Погодина и сборником Водовозова, рассказывает, потом спрашивает, и все начинают говорить вдруг. Когда слишком много голосов вместе, учитель останавливает, заставляя говорить одного; как только один заминается, он снова вызывает других. Когда учитель замечает, что некоторые ничего не поняли, он заставляет повторить одного из лучших для непонявших. Это не было выдумано, а сделалось само собою и повторяется при 5 и при 30 учениках всегда одинаково успешно, ежели учитель следит за всеми, не позволяет кричать, повторяя уже сказанные слова, не позволяет разгораться крику до неистовства, а регулирует этот поток веселой оживленности и соревнования настолько, насколько ему нужно.
Летом, во время частых посещений и перемены учителей, порядок этот изменился, и преподавание истории пошло гораздо хуже. Общий крик был непонятен для нового учителя; ему казалось, что рассказывающие в крике не расскажут одни; ему казалось, что кричат только для крику, главное же – было жарко и тесно в толпе лезущих ему на спину и к самому рту учеников. (Чтобы лучше понимать, детям необходимо быть близко к тому человеку, который говорит, видеть всякую перемену выражения его лица, всякое его движение. Я не раз замечал, что лучше всего помнятся всегда те места, где рассказывающему удалось сделать верный жест или верную интонацию.)
Новый учитель ввел сидение на лавках и отвечание поодиночке. Вызываемый молчал, мучился стыдом, а учитель, глядя в сторону, с милым видом покорности своей судьбе или кроткой улыбкой говорил: «ну… а потом? хорошо, очень хорошо» и т. д. – столь известный всем нам учительский прием.
Мало того, что я опытом убедился в том, что нет ничего вреднее для развития ребенка такого рода одиночного спрашивания и вытекающего из него начальнического отношения учителя к ученику, для меня нет ничего возмутительнее такого зрелища. Большой человек мучает маленького, не имея на то никакого права. Учитель знает, что ученик мучается, краснея и потея, стоя перед ним; ему самому скучно и тяжело, но у него есть правило, по которому нужно приучать ученика говорить одного.
А для чего приучать говорить одного, этого никто не знает. Нешто для того, чтобы заставить прочесть басенку при его или ее превосходительстве. Мне скажут, может быть, что без этого нельзя определить степени его знания. А я отвечу, что действительно нельзя постороннему лицу определить в час времени знания ученика, учитель же без отвечания ученика и экзамена всегда чувствует меру этих знаний. Мне кажется, что прием этот одиночного спрашивания есть остаток старого суеверия. В старину учитель, заставлявший всё учить наизусть, не мог иначе определить знания своего ученика, как приказав ему повторить всё от слова до слова. Потом нашли, что повторение наизусть слов не есть знание, и стали заставлять учеников повторять своими словами; но прием вызывания по одиночке и требования отвечать тогда, когда захочется учителю, не изменили. Было совершенно упущено из вида то, что можно потребовать от знающего наизусть повторения известных слов псалтыря, басни во всякое время и при всяких условиях, но что для того, чтобы быть в состоянии уловить содержание речи и передать ее своеобразно, ученик должен находиться в известном удобном для того настроении.
Не только в низших школах и гимназиях, но и в университетах я не понимаю экзаменов по вопросам иначе, как при заучивании наизусть, слово в слово или предложение в предложение. В мое время (я вышел из университета в 45 году) я перед экзаменами выучивал наизусть не слово в слово, но предложение в предложение и получал по 5 только у тех профессоров, тетрадки которых выучил наизусть.
Посетители, так много вредившие преподаванию в Ясно-полянской школе, принесли с одной стороны мне большую пользу. Они окончательно убедили меня, что отвечание уроков и экзамены есть остаток суеверия средневековой школы и при настоящем порядке вещей решительно невозможный и только вредный. Часто, увлекаясь ребяческим самолюбием, я хотел уважаемому мною посетителю в час времени показать знания учеников, и выходило или то, что посетитель убеждался в том, что ученики знают то, чего они не знали (я удивлял его каким-нибудь фокусом), или то, что посетитель полагал, что они не знают того, что? они очень хорошо знали. И такая путаница недоразумений происходила в это время между мной и посетителем – умным, талантливым и специалистом дела и при совершенной свободе отношений. Что же должно происходить при ревизиях директоров и т. п., не говоря уже о том расстройстве в ходе ученья и сбивчивости понятий, производимой такими экзаменами в учениках?
В настоящее время я убедился в следующем: резюмировать все знания ученика для учителя, как и для постороннего, невозможно, точно так же, как невозможно резюмировать мои, ваши знания из какой бы то ни было науки. Ежели бы сорокалетнего образованного человека повели на экзамен географии, было бы точно так же глупо и странно, как и когда ведут на такой экзамен 10-летнего человека. Как тот, так и другой должны отвечать не иначе, как наизусть, а в час времени действительных их знаний узнать нельзя. Чтобы узнать знания того и другого, надобно пожить с ними месяцы.
Там, где введены экзамены (под экзаменом я разумею всякое требование отвечания на вопрос), является только новый бесполезный предмет, требующий особенного труда, особенных способностей, и предмет этот называется приготовлением к экзаменам или урокам. Ученик гимназии учится истории, математике и еще главное – искусству отвечания на экзаменах. Я не считаю этого искусства полезным предметом преподавания. Я, учитель, оценяю степень знания своих учеников так же верно, как оценяю степень своих собственных знаний, хотя бы ни ученик, ни я не докладывали мне уроков, а ежели посторонний хочет оценять эту степень знания, то пускай он поживет с нами, изучит результаты и приложения к жизни наших знаний. Другого средства нет, и все попытки экзамена суть только обман, ложь и препятствия преподаванию. В деле преподавания один самостоятельный судья – учитель, и контролировать могут его только сами ученики.
В преподавании истории ученики отвечали все вместе не для того, чтобы поверять их знания, но потому, что в них есть потребность словом закреплять полученные впечатления. Летом ни новый учитель, ни я этого не поняли; мы видели в этом только поверку их знаний и потому нашли удобнее поверять по одиночке. Я не обдумал тогда еще, отчего было скучно и нехорошо, но вера моя в правило свободы учеников спасла меня. Большинство стало скучать, человека три самых смелых постоянно одни отвечали, человека три самых робких постоянно молчали, плакали и получали нули. В продолжение лета я неглижировал классами священной истории, и учитель, любитель порядка, имел полный простор рассаживать по лавкам, мучить по одиночкам и негодовать на закоснелость детей. Я несколько раз советовал в классе истории спустить детей с лавок, но мой совет принимался учителем за милую и простительную оригинальность (как, я вперед знаю, совет этот будет принят и большинством читателей-учителей), и до тех пор, пока не поступил старый учитель, порядок прежний всё держался, и только в дневнике учителя являлись отметки в роде следующих: «от Савина не могу добиться ни одного слова ; Гришин ничего не рассказал; упорство Петьки меня удивляет: не сказал ни одного слова; Савин еще хуже, чем прежде» и т. п.
Савин – это румяный, пухлый, с масляными глазками и длинными ресницами, сын дворника или купца, в дубленом тулупчике, в сапожках по ногам (а не отцовских), в александрийской рубашке и портках. Симпатическая и красивая личность этого мальчика поразила меня в особенности тем, что в классе арифметики он был первый по силе соображения и веселому оживлению. Читает и пишет он тоже недурно. Но как только спросят его, он подожмет на бок свою хорошенькую кудрявую головку, слезы выступают на большие ресницы, и он как будто спрятаться хочет от всех и видно страдает невыносимо. Заставишь его выучить, он расскажет, но сам складывать речь он не может, или не смеет. Нагнанный ли страх прежним учителем (он уже учился прежде у лица духовного звания), недоверие ли к самому себе, самолюбие ли, неловкость ли между мальчиками ниже его, по его мнению, аристократизм или досада, что в этом одном он сзади других, что он уже раз показал себя в дурном свете учителю, оскорблена ли эта маленькая душа каким-нибудь неловким словом, вырвавшимся у учителя, или всё это вместе – Бог его знает, но эта стыдливость, ежели сама по себе и нехорошая черта, то наверно нераздельно связана со всем лучшим в детской душе его. Выбить это всё палкой физической или моральной можно, но опасно, чтобы не выбить вместе и драгоценных качеств, без которых плохо придется учителю вести его дальше.
Новый учитель послушал моего совета, спустил учеников с лавок, позволил лезть, куда они хотят, даже себе на спину, и в тот же урок все стали рассказывать несравненно лучше, и в дневнике учителя значилось, что даже «закоснелый Савин сказал несколько слов».
Есть в школе что-то неопределенное, почти не подчиняющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения, – это дух школы. Этот дух подчинен известным законам и отрицательному влиянию учителя, т. е. что учитель должен избегать некоторых вещей, для того чтобы не уничтожить этот дух.... Дух школы, например, находится всегда в обратном отношении к принуждению и порядку школы, в обратном отношении к вмешательству учителя в образ мышления учеников, в прямом отношении к числу учеников, в обратном отношении к продолжительности урока и т. п. Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования, – что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее, и потому долженствующее быть целью всякого учителя. Как слюна во рту необходима для пищеварения, но неприятна и излишня без пищи, так и этот дух напряженного оживления, скучный и неприятный вне класса, есть необходимое условие принятия умственной пищи. Настроение это выдумывать и искусственно приготавливать нельзя, да и ненужно, ибо оно всегда само собой является.
В начале школы я делал такие ошибки. Как скоро мальчик начинал плохо и неохотно понимать, находило на него столь обыкновенное школьное состояние тупика, я говорил: попрыгай, попрыгай! – Мальчик начинал прыгать, другие и он сам смеялись, и после прыганья ученик был другой. Но, повторив несколько раз это прыганье, оказалось, что как скажешь: Попрыгай! – на ученика находит еще бо?льшая тоска, он начинает плакать. Он видит, что душевное состояние его не то, какое должно бы было быть и нужно, а управлять своею душой не может и никому не хочет позволить. Ребенок и человек воспринимает только в раздраженном состоянии, поэтому смотреть на веселый дух школы, как на врага, как на помеху, есть грубейшая ошибка, которую мы слишком часто делаем.
Но когда оживление это в большом классе так сильно, что мешает учителю руководить классом, что учителя уже не слышно и не слушают, как же тогда, кажется, не прикрикнуть на детей и не подавить этого духа? Ежели оживление это имеет предметом урок, то лучше и желать нечего. Ежели же оживление это перешло на другой предмет, то виноват был учитель, не руководивший этим оживлением. Задача учителя, которую почти каждый исполняет бессознательно, состоит в том, чтобы постоянно давать пищу этому оживлению и постепенно отпускать поводья ему. Вы спрашиваете одного, другому хочется рассказать, – он знает, он, перегнувшись к вам, смотрит на вас во все глаза, насилу может удержать свои слова, жадно следит за рассказчиком и не пропустит ему ни одной ошибки. Спросите его, и он расскажет страстно, и то, что? он расскажет, навсегда врежется в его памяти, но продержите его в таком напряжении, не позволяя ему рассказывать полчаса, он станет заниматься щипаньем соседа.
Другой пример: выдьте из класса уездного училища или немецкой школы, где было тихо, приказав продолжать занятия, и чрез полчаса послушайте у двери: класс оживлен, но предмет оживления другой, так называемые шалости. В наших классах мы часто делали этот опыт. Выдя в середине класса, когда уже много накричались, вы подойдете к двери и услышите, что мальчики продолжают рассказывать, поправляя, поверяя друг друга, и часто вместо того, чтобы без вас начать шалить, без вас вовсе затихают.
Как при порядке рассаживанья по скамьям и одиночного спрашиванья, так и при этом порядке есть свои приемы, не трудные, но которые надо знать и без которых первый опыт может быть неудачен. Надо следить за тем, чтобы не было крикунов, повторяющих последние сказанные слова, только для радости шума. Надобно, чтобы эта прелесть шума не была бы главной их целью и задачей. Надобно поверять некоторых, могут ли они одни всё рассказать и усвоили ли себе смысл. Ежели учеников слишком много, то разделять на несколько отделений и заставлять рассказывать по отделениям друг другу.
Не надобно бояться того, что вновь пришедший ученик иногда с месяц не откроет рта. Надобно только следить за ним, занят ли он рассказом или чем другим. Обыкновенно вновь пришедший ученик сначала схватывает только вещественную сторону дела и весь погружается в наблюдение над тем, как сидят, лежат, как шевелятся губы у учителя, как вдруг все закричат, и он аккуратно садится так, как другие, и смелый, так же как другие, начинает кричать, ничего не запомнив и только повторяя слова соседа. Его останавливают учитель и товарищи, и он понимает, что требуется что-то другое. Пройдет несколько времени, и он сам кое-что начинает рассказывать. Как в нем распустился цветок понимания и когда, – узнать трудно.
Недавно мне удалось подметить такое расцветание понимания у одной забитой девочки, с месяц молчавшей. Рассказывал г-н У., а я был посторонним зрителем и наблюдал. Когда все принялись рассказывать, я заметил, что Марфутка слезла с лавки с тем жестом, с которым рассказчики переменяют положение слушающего на положение рассказывающего, и подошла поближе. Когда все закричали, я оглянулся на нее: она чуть заметно шевелила губами, и глаза ее были полны мысли и оживления. Встретившись со мной взглядом, она потупилась. Через минуту я снова оглянулся, – она опять шептала что-то про себя. Я попросил ее рассказать, она совсем растерялась. Через два дня она прекрасно рассказывала целую историю.
В нашей школе лучшая поверка того, что? ученики запоминают при таких рассказах, – рассказы, записанные ими самими из головы и с поправкою только орфографических ошибок.
Выписка из тетради 10-летнего М. «Бог велел Аврааму принесть своего сына Исаака на жертву. Авраам взял двух слуг, Исаак нес дрова и огонь, а Авраам нес нож. Когда они пришли к горе Ор, там Авраам поставил своих слуг, а сам пошел с Исааком на гору. Исаак говорит: батюшка! у нас всё есть, где же жертва? Авраам говорит: мне Бог тебя велел принесть. Вот Авраам разжег костер и положил своего сына. Исаак говорит: батюшка! свяжи меня, а то я встрепыхнусь и тебя убью. Авраам взял его и связал. Только размахнулся, а Ангел слетел с небес и удержал его руку и говорит: Авраам, не воскладывай на своего сына отрока руку, Бог видит твою веру. Потом Ангел говорит ему: ступай в куст, там запутался баран, принеси его вместо сына – и Авраам принес Богу жертву. Потом Аврааму пришло время женить своего сына. У них был работник Елиезер. Авраам призвал работника и говорит: поклянись мне, что ты не возьмешь в нашем городе невесту, а туда пойдешь, куда я тебя пошлю. Авраам послал его в землю Месопотамию к Нахору. Елиезер взял верблюдов и поехал. Когда приехал к колодцу, то стал говорить: Господи! дай мне такую невесту, какая прежде придет, напоит меня и верблюдов моих напоит, та моего господина Исаака невеста. Только Елиезер успел эти слова проговорить, идет девица. Елиезер стал просить у ней пить. Она дала ему пить и говорит: небось твои верблюды хотят пить. Елиезер говорит: пожалуй, напой. Она напоила и верблюдов, тогда Елиезер дал ей ожерелье и говорит: нельзя ли мне у вас переночевать. Она говорит: можно. Когда пришли они в дом, ее родные ужинают и стали сажать Елиезера ужинать. Елиезер говорит: я до сих пор не буду есть, пока слово скажу. Елиезер им сказал. Они говорят: мы согласны, как она? Спросили у ней, – она согласна. Потом отец с матерью благословили Ревекку, Елиезер сел с ней и поехали, а Исаак ходил по полю. Ревекка увидала Исаака и закрылась полотенцем. Исаак подошел к ней, взял ее за руку и повел к себе в дом, они и перевенчались».
Из тетради мальчика И. Ф. о Иакове. «Ревекка была девятнадцать лет неплодна, после родила двух близнецов, – Исава и Иакова. Исав занимался звероловством, а Иаков помогал матери. Один раз Исав пошел зверей бить и ничего не убил и пришел сердитый; а Иаков хлебает чечевичную похлебку. Исав пришел и говорит: дай мне этой похлебки. Иаков говорит: отдай мне свое первенство. Исав говорит: возьми. – Поклянись! Исав поклялся. Потом Иаков дал Исаву похлебки. Когда Исаак ослеп, то говорит: Исав! поди убей мне какую-нибудь дичинку. Исав пошел, Ревекка услыхала это, говорит Иакову: поди убей двух козлят. Иаков пошел и убил двух козлят и принес матери. Она изжарила и обернула Иакова кожею, а пищу Иаков понес своему отцу и говорит: я тебе любимое кушанье принес. Исаак говорит: подойди ко мне поближе. Иаков подошел. Исаак стал щупать за тело и говорит: голос Иакова, а тело Исава. Потом благословил Иакова. Иаков только выходит из дверей, а Исав в дверь и говорит: на, батюшка, тебе любимое кушанье. Исаак говорит: у меня был Исав. Нет, батюшка, это тебя Иаков обманул, и пошел сам из дверей, заплакал и говорит: дай батюшка умрет, я тебе тогда отплачу. Ревекка говорит Иакову: поди попроси у отца благословения и ступай к дяде Лавану. Исаак благословил Иакова и он пошел к дяде Лавану. Тут Иакова пристигла ночь. Он стал в поле ночевать, нашел камень, положил в головы и заснул. Вдруг видит во сне будто от земли до неба стоит лестница, по ней вниз и вверх ходят Ангелы, а сверху сам Господь стоит и говорит: Иаков! землю, на которой ты лежишь, я тебе отдаю и твоему потомству. Иаков встал и говорит: как тут страшно, знать тут Божий дом, я оттуда возвращусь и построю церковь здесь; потом затеплил лампаду, и пошел дальше, – видит пастухи стерегут скот. Иаков стал у них спрашивать, где тут дядя Лаван живет? Пастухи говорят: вон его дочь гонит овец поить. Иаков подошел к ней, она не отвалит камня от колодца. Иаков отвалил камень и напоил овец и говорит: ты чья дочь? Она отвечает: Лавана. – Я тебе двоюродный брат. – Они поцеловались и пошли домой. Дядя Лаван принял его и говорит: Иаков, живи у меня, я тебе буду плату давать. Иаков говорит: я не буду жить за плату, а отдай за меня младшую дочь Рахиль. Лаван говорит: проживи у меня семь лет, тогда я отдам за тебя дочь Рахиль. Иаков прожил семь лет и дядя Лаван отдал Иакову вместо Рахили Лию. Иаков и говорит: дядя Лаван, на что ты меня обманул? Лаван говорит: проживи у меня еще семь лет, тогда я отдам за тебя младшую дочь Рахиль, а то у нас нет права отдавать младшую дочь прежде. Иаков прожил у дяди еще семь лет, тогда ужь Лаван отдал ему Рахиль».
Из тетради 8-летнего мальчика Т. Ф. О Иосифе. «У Иакова было двенадцать сыновей. Он больше всех любил Иосифа и сшил ему разноцветное платье. Тут Иосиф видел два сна и рассказывает братьям своим: «будто бы жали в поле рожь и нажали двенадцать снопов. Мой сноп прямо стоит и одиннадцать снопов моему снопу поклоняются». А братья говорят: неужели мы тебе будем поклоняться? А другой сон видел: «будто на небе одиннадцать звезд, солнце и месяц моей звезде поклоняются». А мать с отцом говорят: неужели мы тебе будем поклоняться? Братья пошли в даль скотину стеречь, потом отец посылает Иосифа братьям пищу несть; братья увидели его да и говорят: вот наш сновидец идет; давай его в бездонный колодезь посадим. Рувим себе и думает: как они куда отлучатся, я его вытащу. А тут едут купцы. Рувим говорит – продадим его купцам египетским. Иосифа и продали, а купцы продали Пентефрию царедворцу. Пентефрий его любил и жена его любила. Пентефрий куда-то отлучился, а его жена и говорит Иосифу: «Иосиф! давай моего мужа убьем и я за тебя замуж выйду». Иосиф говорит: «ежели ты в другой раз скажешь, я твоему мужу скажу». Она его за платье взяла и закричала. Слуги услыхали и пришли. Потом Пентефрий приехал. Жена ему рассказала, что Иосиф будто хотел его убить, а на ней жениться. Пентефрий велел его посадить в острог. Как Иосиф был добрый человек, он и там заслужил, и ему велено над острогом глядеть. Однажды Иосиф шел по темнице и видит, что двое сидят пригорюнившись. Иосиф подошел к ним и говорит: «что вы пригорюнившись?» Они и говорят: «мы вот в одну ночь видели два сна и некому нам разгадать». Иосиф говорит: «какой же?» Стал виночерпий рассказывать: «будто я сорвал три ягодки, нажал соку и подавал царю». Иосиф говорит: «ты через три дня будешь опять на своем месте». Потом стал хлебодар рассказывать: «будто я нес двенадцать в корзине хлебов и птицы разлетаются и клюют хлеб». Иосиф сказал: «ты через три дня будешь повешен и птицы разлетятся и будут твое тело клевать». Так и сбылось. Однажды царь Фараон видел в одну ночь два сна и всех собрал своих мудрецов и никто ему не разгадал. Виночерпий вспомнил и говорит: у меня есть человек на примете. Царь послал за ним коляску. Когда его привезли, царь стал рассказывать: «будто я стоял на берегу реки и вышли семь коров жирных, а семь худых, и худые бросились на жирных и поели и не стали жирными». А другой сон видел: «будто росли на одном стебле семь колосьев полные, а семь пустых: пустые бросились на полных, поели и не стали полными». Иосиф говорит: «это вот к чему, – семь годов будут хлебородных, а семь голодных». Царь отдал Иосифу золотую цепь через плечо и с правой руки перстень и велел строить анбары».
Всё сказанное относится до преподавания как священной, так и русской истории, естественной истории, географии, отчасти физики, химии, зоологии, вообще всех предметов, исключая пения, математики и рисованья. О преподавании же собственно священной истории за это время должен сказать следующее.
Во-первых о том, почему выбран первоначально Ветхий Завет? Не говоря о том, что знание священной истории требовалось как самими учениками, так и их родителями, из всех изустных передач, которые я пробовал в продолжение трех лет, ничто так не приходилось по понятиям и складу ума мальчиков, как Библия. То же самое повторилось во всех других школах, которые мне случалось наблюдать. Я пробовал вначале Новый Завет, пробовал и русскую историю и географию; пробовал столь любимые в наше время объяснения явлений природы, но всё это забывалось и слушалось неохотно. Ветхий Завет запомнился сразу и рассказывался страстно, с восторгом и в классе, и дома и запоминался так, что через два месяца после рассказа дети из головы писали священную историю в тетрадках с весьма незначительными пропусками.
Мне кажется, что книга детства рода человеческого всегда будет лучшей книгой детства всякого человека. Заменить эту книгу мне кажется невозможным. Изменять, сокращать Библию, как это делают священные истории Зонтаг и т. п., мне кажется вредным. Всё, каждое слово в ней справедливо, как откровение, и справедливо, как художество. – Прочтите по Библии о сотворении мира и по краткой священной истории, и переделка Библии в священной истории вам представится совершенно непонятной; по священной истории нельзя иначе, как заучивать наизусть, по Библии ребенку представляется живая и величественная картина, которую он никогда не забудет. Выпуски в священной истории совершенно непонятны и только нарушают характер и красоту священного писания. Зачем, например, во всех священных историях выпущено, что, когда не было ничего, дух Божий носился над бездной, что Бог, сотворив, оглядывает свое творенье и видит, что оно хорошо, и что тогда становится утро и вечер дня такого-то? Зачем выпущено то, что Бог вдунул в ноздри душу бессмертную, что, вынув у Адама ребро, заложил место мясом, и т. д.? Надобно читать Библию неиспорченным детям, чтобы понять, до какой степени все это необходимо и истинно. Как обыкновенно слышать шуточки, что Библия неприличная книга, что ее нельзя давать в руки барышням. – Может быть, испорченным барышням нельзя давать Библии в руки, но, читая ее крестьянским детям, я не изменял и не выпускал ни одного слова. И никто не хихикал за спиной друг друга, и все слушали ее с замиранием сердца и естественным благоговением. История Лота и его дочерей, история сына Иуды возбуждают ужас, а не смех…
Как всё понятно и ясно, особенно для ребенка, и вместе с тем как строго и серьезно!.... Я не могу себе представить, какое возможно было бы образование, ежели бы не было этой книги? – А кажется, когда только в детстве узнал эти рассказы, отчасти забыл их впоследствии, – к чему они нам? И разве не то же ли самое было бы, ежели бы и вовсе не знал их?
Так оно кажется до тех пор, пока, начиная учить, не проверяешь над другими детьми всех элементов своего собственного развития. Кажется, можно выучить детей писать, читать, считать, можно дать им понятие об истории, географии и явлениях природы без Библии и прежде Библии, а однако нигде это не делается, – везде прежде всего ребенок узнает Библию, рассказы, выдержки из нее. Первое отношение учащегося к учащему основывается на этой книге. Такое всеобщее явление не случайно. Совершенно свободное мое отношение к ученикам, при начале Ясно-полянской школы, помогло мне разъяснить это явление.
Ребенок, или человек, вступающий в школу (я не делаю никакого различия между 10 и 30 или 70-летним человеком), вносит с собой свой известный, вынесенный им из жизни и любимый им взгляд на вещи. Для того чтобы человек какого бы то ни было возраста стал учиться, надобно, чтобы он полюбил ученье. Для того чтобы он полюбил ученье, нужно, чтобы он сознал ложность, недостаточность своего взгляда на вещи и чутьем бы предчувствовал то новое миросозерцание, которое ему откроет ученье. Ни один человек и ребенок не был бы в силах учиться, ежели бы будущность его ученья представлялась ему только искусством писать, читать или считать; ни один учитель не мог бы учить, ежели бы он не имел в своей власти миросозерцания выше того, которое имеют ученики. Для того чтобы ученик мог отдаться весь учителю, нужно открыть ему одну сторону того покрова, который скрывал от него всю прелесть того мира мысли, знания и поэзии, в которой должно ввести его ученье. Только находясь под постоянным обаянием этого впереди его блещущего света, ученик в состоянии так работать над собой, как мы того от него требуем.
Какие же средства имеем мы для того, чтобы поднять перед учениками этот край завесы?.... Как я говорил, я думал, как и многие думают, что, находясь сам в том мире, в который мне надо вести учеников, мне легко будет это сделать, и я учил грамоте, я объяснял явления природы, я рассказывал, как в азбучках, что плоды ученья сладки, но ученики не верили мне и всё чуждались. Я попробовал читать им Библию и вполне завладел ими. Край завесы был поднят, и они отдались мне совершенно. Они полюбили и книгу, и ученье, и меня. Мне оставалось только руководить ими дальше. После Ветхого Завета я рассказал им Новый Завет, – они всё больше и больше любили ученье и меня. Потом я рассказывал им всеобщую, русскую, естественную историю: после Библии, они всё слушали, всему верили, всё дальше и дальше просились, и дальше и дальше раскрывались перед ними перспективы мысли, знания и поэзии. Может быть, это была случайность. Может быть, начав другим способом, в другой школе достигнуты были бы те же результаты. Может быть, – но случайность эта повторялась слишком неизменно во всех школах и во всех семьях, и объяснение этого явления слишком для меня ясно, чтобы я согласился признать его случайностью. Для того чтобы открыть ученику новый мир и без знания заставить его полюбить знания, нет книги, кроме Библии. Я говорю даже для тех, которые не смотрят на Библию, как на откровение. Нет, по крайней мере я не знаю произведения, которое бы соединяло в себе в столь сжатой поэтической форме все те стороны человеческой мысли, какие соединяет в себе Библия. Все вопросы из явлений природы объяснены этою книгой, все первоначальные отношения людей между собой, семьи, государства, религии в первый раз сознаются по этой книге. Обобщения мыслей, мудрость, в детски простой форме, в первый раз захватывает своим обаянием ум ученика. Лиризм псалмов Давида действует не только на умы взрослых учеников, но сверх того каждый из этой книги в первый раз узнает всю прелесть эпоса в неподражаемой простоте и силе. Кто не плакал над историей Иосифа и встречей его с братьями, кто с замиранием сердца не рассказывал историю связанного и остриженного Самсона, который, отмщая врагам, сам гибнет, казня врагов, под развалинами разрушенного дворца, и еще сотни других впечатлений, которыми мы воспитаны, как молоком матери?… Пускай те, которые отрицают воспитательное значение Библии, которые говорят, что Библия отжила, пускай они выдумают такую книгу, такие рассказы, объясняющие явления природы, или из общей истории, или из воображения, которые бы воспринимались так же, как библейские, и тогда мы согласимся, что Библия отжила.
Педагогия служит поверкою многих и многих жизненных явлений, общественных и отвлеченных вопросов.
Материялизм тогда только будет иметь право объявить себя победителем, когда будет написана Библия матерьялизма и детство будет воспитываться по этой Библии. Попытка Овэна не может служить доказательством такой возможности, как произрастание лимонного дерева в московской теплице не есть доказательство того, что деревья могут расти без открытого неба и солнца.
Я повторяю свое, выведенное, может быть, из одностороннего опыта, убеждение. Без Библии немыслимо в нашем обществе, так же, как не могло быть мыслимо без Гомера в греческом обществе, развитие ребенка и человека. Библия есть единственная книга для первоначального и детского чтения. Библия как по форме, так и по содержанию, должна служить образцом всех детских руководств и книг для чтения. Простонародный перевод Библии был бы лучшая народная книга. Появление такого перевода в наше время составило бы эпоху в истории русского народа.
Теперь о способе преподавания священной истории. Все краткие священные истории на русском языке я считаю двояким преступлением: и против святыни, и против поэзии. Все эти переделки, имея в виду облегчать ученье священной истории, затрудняют его. Библия читается, как удовольствие, дома, облокотившись головой на руку. Историйки учатся с указкой наизусть. Мало того, что историйки эти скучны, непонятны, – они портят способность понимать поэзию Библии. Не раз замечал я, как дурной, непонятный язык нарушал воспринятие внутреннего смысла Библии. Непонятные слова, как «отрок, пучина, попрал» и т. п., запоминаются наравне с событиями, останавливают внимание учеников по своей новизне и служат для них как бы вехами, по которым они руководствуются в рассказе.
Все эти упражнения – писание фраз по данным словам, стихосложение и угадывание слов – имеют одну общую цель: убедить ученика в том, что слово есть слово, имеющее свои непоколебимые законы, изменения, окончания и соотношения между этими окончаниями, – убеждение, которое долго не приходит им в голову и которое необходимо прежде грамматики. Все эти упражнения нравятся; все упражнения в грамматике порождают скуку. Страннее, знаменательнее всего то, что грамматика скучна, несмотря на то, что нет ничего легче ее. Как только вы не станете учить ее по книге, начиная с определений, шестилетний ребенок через полчаса начинает склонять, спрягать, узнавать роды, числа, времена, подлежащие и сказуемые, и вы чувствуете, что он знает всё это точно так же хорошо, как и вы сами. (В нашей местности нет среднего рода: ружье, сено, масло, окно – всё она, большая и дурная, и тут грамматика ничего не помогает. Старшие ученики третий год знают все правила склонения и окончаний родов, а всё-таки пишут: в этой сене много щавельнику – и отвыкают только настолько, насколько их поправляешь и насколько помогает чтение.) Чему же я их учу, спрашиваешь себя, когда они всё это знают так же, как я? Спрошу ли я у них, как будет «большой» множественного числа родительного падежа женского рода? спрошу ли, где сказуемое, где дополнение? спрошу ли – от какого слова происходит «распахнулся»? – ему трудна только номенклатура, а прилагательное, в каком хотите падеже и числе, он употребит всегда без ошибки. Стало быть, он знает склонение. Речи он никогда не скажет без сказуемого и дополнения не смешает с ним. «Распахнуться» – он чувствует, что родственно с словом «пах», и сознает законы образования слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает новых слов, как дети. К чему же эта номенклатура и требование философских определений, которые свыше его сил? Единственное объяснение необходимости грамматики, кроме требования на экзаменах, может быть найдено в приложении ее к правильному изложению мыслей. В своем личном опыте я не нашел этого приложения, не нахожу его в примерах жизни людей, не знающих грамматики и пишущих правильно, и кандидатов филологии, пишущих неправильно, и не нахожу почти ни одного намека на то, чтобы знания грамматики Ясно-полянских школьников прилагались ими к какому-нибудь употреблению. Мне кажется, что грамматика идет сама собой, как умственное небесполезное гимнастическое упражнение, а язык – уменье писать, читать и понимать – идет сам собой. Геометрия и вообще математика представляются сначала тоже только умственной гимнастикой, но разница в том, что каждое положение геометрии, каждое математическое определение ведет за собой дальнейшие и бесконечные выводы и приложения; в грамматике же, ежели бы даже согласиться с теми, которые видят в ней приложение к языку, есть весьма тесная граница этих выводов и приложений. Как только ученик тем или другим путем овладел языком, все приложения из грамматики обрываются, отпадают, как что-то мертвое и отжитое.
Мы лично всё еще не можем вполне отрешиться от предания, что грамматика, в смысле законов языка, необходима для правильного изложения мыслей; нам даже кажется, что есть потребность грамматики в учащихся, что в них бессознательно лежат законы грамматики; но мы убеждены, что грамматика, которую мы знаем, совсем не та, какая нужна учащимся, и что в этом обычае преподавания грамматики есть какое-то большое историческое недоразумение. Ребенок узнае?т, что надо писать ?в слове «себ?» не потому, что оно в дательном падеже, сколько бы раз вы это ему ни говорили, и не потому только, что он слепо подражает тому, что? видел написанным несколько раз, – он обобщает эти примеры, но только не в форме дательного падежа, а как-то иначе. У нас есть ученик из другого училища, прекрасно знающий грамматику и никогда не умеющий отличить 3-е лицо от неопределенного наклонения в возвратном залоге, и другой ученик, Федька, не имеющий понятия о неокончательном и никогда не ошибающийся и объясняющий себе и другим дело посредством прибавления слова «будет», т. е. «довольно». Я не хочу учиться. Он сомневается и говорит: ты не хочешь учиться? Ну, так будет учиться. Значит ерь. – А ежели такая речь: Сёмка дурно учится! Он говорит: дурно учится? Так будет учится. И это не выходит, по его мнению, и он не ставит ерь. Мы в Ясно-полянской школе, точно так же как и в обучении грамоте, признаем в обучении языка все известные способы небесполезными и употребляем их по мере того, как они охотно принимаются учениками, и по мере наших знаний; вместе с тем, мы не признаем ни одного из этих приемов исключительным и постоянно пытаемся отыскивать новые приемы. Мы столь же мало согласны с способом г-на Перевлесского, который не выдержал двухдневного опыта в Ясно-полянской школе, сколько и с весьма распространенным мнением, что единственный способ для изучения языка – есть писание, несмотря на то, что писание составляет в Ясно-полянской школе главный способ изучения языка. Мы ищем и надеемся найдти.
Писание сочинений. В первом и втором классе выбор сочинений предоставляется самим ученикам. Любимый предмет сочинений для первого и второго класса есть история Ветхого Завета, которую они пишут два месяца после того, как ее им рассказал учитель. Первый класс начал недавно писать Новый Завет, но далеко не так успешно, как Ветхий, даже орфографических ошибок они делали больше, – они хуже понимали. В первом классе мы попробовали сочинения на заданные темы. Первые темы, которые самым естественным путем пришли нам в голову, были описания простых предметов, как-то: хлеба, избы, дерева и т. д.; но, к крайнему удивлению нашему, требования эти доводили учеников почти до слез, и, несмотря на помощь учителя, подразделявшего описание хлеба на описание о его произрастании, о его производстве, об употреблении, – они решительно отказывались писать на темы такого рода и, ежели писали, то делали непонятные, безобразнейшие ошибки в орфографии, в языке и смысле. Мы попробовали задать описание каких-нибудь событий, и все обрадовались, как будто им сделали подарок. Столь любимое в школах описание так называемых простых предметов: свиньи, горшка, стола, оказалось без сравнения труднее, чем целые, из воспоминаний взятые рассказы. Одна и та же ошибка повторилась при этом, как и во всех других предметах преподавания: учителю кажется легким самое простое и общее, а для ученика только сложное и живое кажется легким. Все учебники естественных наук начинаются с общих законов, учебники языка – с определений, истории – с разделений на периоды, даже геометрия – с определения понятия пространства и математической точки. Почти всякий учитель, руководясь тем же путем мышления, первым сочинением задает определение стола или лавки и не хочет убедиться, что для того, чтобы определить стол или лавку, нужно стоять на высокой степени философско-диалектического развития, и что тот же ученик, который плачет над сочинением о лавке, прекрасно опишет чувство любви или злобы, встречи Иосифа с братьями, или драки с товарищем. Предметами сочинений выбирались сами собою описания событий, отношения к лицам и передача слышанных рассказов.
Писать сочинения составляет их любимое занятие. Как только вне школы старшим ученикам попадется бумага и карандаш; они пишут не Милос. Милостивой, а пишут из головы сказку своего сочинения. В первое время меня смущала нескладность, непропорциональность постройки сочинений; я внушал то, что? мне казалось нужно, но они понимали меня навыворот, и дело шло худо, – они всё как будто не признавали другой потребности, как той, чтобы не было ошибок. Теперь же пришло само собой время, и часто слышатся неудовольствия, когда сочинение растянуто или встречаются частые повторения, скачки от одного предмета к другому. В чем состоят их требования – трудно определить, но требования эти законны. – Нескладно! кричат некоторые, слушая сочинение товарища; некоторые не хотят читать своего после того, как прочтенное сочинение товарища хорошо; некоторые вырывают тетрадку из рук учителя, недовольные, что не так выходит, как они хотели, и читают сами. Личные характеры начинают выражаться так резко, что мы делали опыт заставлять их угадывать, чье мы читали сочинение, и в первом классе угадывают без ошибки.
По недостатку места, мы откладываем описание преподавания языка и других предметов и выписки из дневников учителей до другого нумера; здесь же приводим образцы сочинений двух учеников 1-го класса, без изменений орфографии и знаков препинания, расставленных ими самими. Сочинения же их из священной истории надеемся поместить в следующей книжке.
Сочинения Б. (самого плохого ученика, но оригинального и бойкого мальчика) о Туле и об ученьи. Сочинение об ученьи имело большой успех между ребятами. Б. 11 лет, он учится третью зиму в Ясно-полянской школе, но учился прежде.
«О Тул?. На другое Воскресенье я опять по?халъ въ Тулу. Когда прi?хали, то Владимiръ Александровичъ намъ говоритъ съ Васькой Ждановымъ ступайте въ Воскресную школу. Мы пошли, шли, шли, насилушка нашли, приходимъ и видимъ, что вс? учителя с?дятъ. И тамъ я вид?лъ учителя тотъ который училъ насъ ботаники. Тутъ я говорю здравствуйте господа! они говорятъ здрастуй. Потомъ я взошелъ въ классъ, сталъ возл? стола такъ мн? стало скучно, я взялъ и пошелъ по Тул?. Ходилъ, ходилъ и вижу что одна баба торгуетъ калачами. Я сталъ доставать изъ кармана деньги, когда вынулъ и сталъ покупать калачи, купилъ и пошелъ. А еще я вид?лъ на башн? ходитъ челов?къ и смотритъ не горитъ ли гд?. Я объ Тул? кончилъ».
«Сочиненье о томъ какъ я учился».
«Когда мн? было восемь л?тъ, то меня отдали на Грумы къ скотницы. Тамъ я учился хорошо. А потомъ пришла скука на меня, я сталъ плакать. А бабка возьметъ палку и ну меня бить. А я еще больше кричу. И черезъ несколько дней я по?халъ домой и все расказалъ. И меня оттуда взяли и отдали къ дунькиной матери. Я тамъ учился хорошо и меня тамъ никогда не били, и я тамъ выучилъ всю азбуку. Потомъ меня отдали къ Фоки Демидовичу. Онъ меня очень больно билъ. Однажды я отъ него убижалъ, а онъ меня вил?лъ поимать. Когда меня поймали и повели къ нему. Онъ меня взялъ, разложилъ на скамейк? и взялъ въ руки пукъ розокъ и началъ меня бить. А я кричу на всю глотку, и когда онъ меня высикъ и заставилъ читать. А самъ слушаетъ и говоритъ: ахъ? ты сукинъ сынъ ишъ какъ скверно читаетъ! ишъ какой свинья».
Вот два образца сочинений Федьки: одно – на заданную тему о хлебе, как он растет; другое выбранное им самим, о поездке в Тулу. (Федька учится третью зиму. Ему 10 лет.)
«О хл?б?. Хл?бъ растетъ изъ земли. Съ начала онъ зеленый бываетъ хл?бъ. А когда она подростетъ, то изъ ней выростутъ колосья и ихъ жнутъ бабы. Еще бываетъ хл?бъ какъ трава, то скотина его ?стъ очень хорошо».
Этим всё кончилось. Он чувствовал, что нехорошо, и был огорчен. О Туле же написал следующее, без поправок.
«О Тул?. Когда я еще былъ малъ, мн?, было годовъ пять; то я слышалъ народъ ходилъ въ какую-то Тулу и я самъ не зналъ, что за такая Тула. Вотъ я спросилъ батю. Бать! въ какую это Тулу вы ?здиете, ай она хороша? Батя говоритъ: хороша. Вотъ я говорю, Бать! возьми меня съ собой, я посмотрю Тулу. Батя говоритъ ну что-жь, пусть придетъ воскресенье я тебя возьму. Я обрадовался сталъ по лавк? б?гать и прыгать. Посл? этихъ дней пришло воскресенье. Я только всталъ по утру а батя уже запрягаетъ лошадей на двор?, я скор?е сталъ обуваться и од?ваться. Только я од?лся и вышелъ на дворъ, а батя ужь запрегъ лошадей. Я с?лъ въ сани и по?халъ. ?хали, ?хали, про?хали четырнадцать верстъ. Я увидалъ высокую церковь и закричалъ: батюшка! вонъ какая церковь высокая. Батюшка говоритъ: есть церковь ниже да красивей, я сталъ его просить, батюшка пойдемъ туда, я помолюсь Богу. Батюшка пошелъ. Когда мы пришли, то вдругъ ударили въ колоколъ, я испугался и спросилъ батюшку, что это такое, или играютъ въ бубны. Батюшка говоритъ: н?тъ это начинаетъ об?дня. Потомъ мы пошли въ церковь молиться Богу. Когда мы помолились, то мы пошли на торгъ. Вотъ я иду, иду а самъ спотыкаюсь, все смотрю по сторонамъ. Вотъ мы пришли на базаръ, я увидалъ продаютъ калачи и хот?лъ взять безъ денегъ. A мн? батюшка говоритъ, не бери, а то шапку снимутъ. Я говорю за что снимутъ, а батюшка говоритъ, нe бери без денегъ, я говорю ну дай мне гривну, я куплю себ? калачика. Батя мн? далъ, я купилъ три калача и съ?лъ и говорю: батюшка, какiе калачи хорошiе. Когда мы закупили все, мы пошли къ лошадямъ и напоили ихъ, дали имъ с?на, когда они по?ли, мы запрегли лошадей и по?хали домой, я взошелъ въ избу и разд?лся и началъ расказывать вс?мъ, какъ я былъ въ Тул?, и какъ мы съ батюшкой были въ церкви, молились Богу. Потомъ я заснулъ и вижу во сн? будто батюшка ?дитъ опять въ Тулу. Тотчасъ я проснулся, и вижу все спятъ, я взялъ и заснулъ».
ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ.
Священная история. Русская история. География.
Священная история. С самого основания школы и даже в настоящее время, занятия по предмету священной и русской истории идут таким образом: дети собираются около учителя, и учитель, руководствуясь только Библией, а для русской истории – «Норманским периодом» Погодина и сборником Водовозова, рассказывает, потом спрашивает, и все начинают говорить вдруг. Когда слишком много голосов вместе, учитель останавливает, заставляя говорить одного; как только один заминается, он снова вызывает других. Когда учитель замечает, что некоторые ничего не поняли, он заставляет повторить одного из лучших для непонявших. Это не было выдумано, а сделалось само собою и повторяется при 5 и при 30 учениках всегда одинаково успешно, ежели учитель следит за всеми, не позволяет кричать, повторяя уже сказанные слова, не позволяет разгораться крику до неистовства, а регулирует этот поток веселой оживленности и соревнования настолько, насколько ему нужно.
Летом, во время частых посещений и перемены учителей, порядок этот изменился, и преподавание истории пошло гораздо хуже. Общий крик был непонятен для нового учителя; ему казалось, что рассказывающие в крике не расскажут одни; ему казалось, что кричат только для крику, главное же – было жарко и тесно в толпе лезущих ему на спину и к самому рту учеников. (Чтобы лучше понимать, детям необходимо быть близко к тому человеку, который говорит, видеть всякую перемену выражения его лица, всякое его движение. Я не раз замечал, что лучше всего помнятся всегда те места, где рассказывающему удалось сделать верный жест или верную интонацию.)
Новый учитель ввел сидение на лавках и отвечание поодиночке. Вызываемый молчал, мучился стыдом, а учитель, глядя в сторону, с милым видом покорности своей судьбе или кроткой улыбкой говорил: «ну… а потом? хорошо, очень хорошо» и т. д. – столь известный всем нам учительский прием.
Мало того, что я опытом убедился в том, что нет ничего вреднее для развития ребенка такого рода одиночного спрашивания и вытекающего из него начальнического отношения учителя к ученику, для меня нет ничего возмутительнее такого зрелища. Большой человек мучает маленького, не имея на то никакого права. Учитель знает, что ученик мучается, краснея и потея, стоя перед ним; ему самому скучно и тяжело, но у него есть правило, по которому нужно приучать ученика говорить одного.
А для чего приучать говорить одного, этого никто не знает. Нешто для того, чтобы заставить прочесть басенку при его или ее превосходительстве. Мне скажут, может быть, что без этого нельзя определить степени его знания. А я отвечу, что действительно нельзя постороннему лицу определить в час времени знания ученика, учитель же без отвечания ученика и экзамена всегда чувствует меру этих знаний. Мне кажется, что прием этот одиночного спрашивания есть остаток старого суеверия. В старину учитель, заставлявший всё учить наизусть, не мог иначе определить знания своего ученика, как приказав ему повторить всё от слова до слова. Потом нашли, что повторение наизусть слов не есть знание, и стали заставлять учеников повторять своими словами; но прием вызывания по одиночке и требования отвечать тогда, когда захочется учителю, не изменили. Было совершенно упущено из вида то, что можно потребовать от знающего наизусть повторения известных слов псалтыря, басни во всякое время и при всяких условиях, но что для того, чтобы быть в состоянии уловить содержание речи и передать ее своеобразно, ученик должен находиться в известном удобном для того настроении.
Не только в низших школах и гимназиях, но и в университетах я не понимаю экзаменов по вопросам иначе, как при заучивании наизусть, слово в слово или предложение в предложение. В мое время (я вышел из университета в 45 году) я перед экзаменами выучивал наизусть не слово в слово, но предложение в предложение и получал по 5 только у тех профессоров, тетрадки которых выучил наизусть.
Посетители, так много вредившие преподаванию в Ясно-полянской школе, принесли с одной стороны мне большую пользу. Они окончательно убедили меня, что отвечание уроков и экзамены есть остаток суеверия средневековой школы и при настоящем порядке вещей решительно невозможный и только вредный. Часто, увлекаясь ребяческим самолюбием, я хотел уважаемому мною посетителю в час времени показать знания учеников, и выходило или то, что посетитель убеждался в том, что ученики знают то, чего они не знали (я удивлял его каким-нибудь фокусом), или то, что посетитель полагал, что они не знают того, что? они очень хорошо знали. И такая путаница недоразумений происходила в это время между мной и посетителем – умным, талантливым и специалистом дела и при совершенной свободе отношений. Что же должно происходить при ревизиях директоров и т. п., не говоря уже о том расстройстве в ходе ученья и сбивчивости понятий, производимой такими экзаменами в учениках?
В настоящее время я убедился в следующем: резюмировать все знания ученика для учителя, как и для постороннего, невозможно, точно так же, как невозможно резюмировать мои, ваши знания из какой бы то ни было науки. Ежели бы сорокалетнего образованного человека повели на экзамен географии, было бы точно так же глупо и странно, как и когда ведут на такой экзамен 10-летнего человека. Как тот, так и другой должны отвечать не иначе, как наизусть, а в час времени действительных их знаний узнать нельзя. Чтобы узнать знания того и другого, надобно пожить с ними месяцы.
Там, где введены экзамены (под экзаменом я разумею всякое требование отвечания на вопрос), является только новый бесполезный предмет, требующий особенного труда, особенных способностей, и предмет этот называется приготовлением к экзаменам или урокам. Ученик гимназии учится истории, математике и еще главное – искусству отвечания на экзаменах. Я не считаю этого искусства полезным предметом преподавания. Я, учитель, оценяю степень знания своих учеников так же верно, как оценяю степень своих собственных знаний, хотя бы ни ученик, ни я не докладывали мне уроков, а ежели посторонний хочет оценять эту степень знания, то пускай он поживет с нами, изучит результаты и приложения к жизни наших знаний. Другого средства нет, и все попытки экзамена суть только обман, ложь и препятствия преподаванию. В деле преподавания один самостоятельный судья – учитель, и контролировать могут его только сами ученики.
В преподавании истории ученики отвечали все вместе не для того, чтобы поверять их знания, но потому, что в них есть потребность словом закреплять полученные впечатления. Летом ни новый учитель, ни я этого не поняли; мы видели в этом только поверку их знаний и потому нашли удобнее поверять по одиночке. Я не обдумал тогда еще, отчего было скучно и нехорошо, но вера моя в правило свободы учеников спасла меня. Большинство стало скучать, человека три самых смелых постоянно одни отвечали, человека три самых робких постоянно молчали, плакали и получали нули. В продолжение лета я неглижировал классами священной истории, и учитель, любитель порядка, имел полный простор рассаживать по лавкам, мучить по одиночкам и негодовать на закоснелость детей. Я несколько раз советовал в классе истории спустить детей с лавок, но мой совет принимался учителем за милую и простительную оригинальность (как, я вперед знаю, совет этот будет принят и большинством читателей-учителей), и до тех пор, пока не поступил старый учитель, порядок прежний всё держался, и только в дневнике учителя являлись отметки в роде следующих: «от Савина не могу добиться ни одного слова ; Гришин ничего не рассказал; упорство Петьки меня удивляет: не сказал ни одного слова; Савин еще хуже, чем прежде» и т. п.
Савин – это румяный, пухлый, с масляными глазками и длинными ресницами, сын дворника или купца, в дубленом тулупчике, в сапожках по ногам (а не отцовских), в александрийской рубашке и портках. Симпатическая и красивая личность этого мальчика поразила меня в особенности тем, что в классе арифметики он был первый по силе соображения и веселому оживлению. Читает и пишет он тоже недурно. Но как только спросят его, он подожмет на бок свою хорошенькую кудрявую головку, слезы выступают на большие ресницы, и он как будто спрятаться хочет от всех и видно страдает невыносимо. Заставишь его выучить, он расскажет, но сам складывать речь он не может, или не смеет. Нагнанный ли страх прежним учителем (он уже учился прежде у лица духовного звания), недоверие ли к самому себе, самолюбие ли, неловкость ли между мальчиками ниже его, по его мнению, аристократизм или досада, что в этом одном он сзади других, что он уже раз показал себя в дурном свете учителю, оскорблена ли эта маленькая душа каким-нибудь неловким словом, вырвавшимся у учителя, или всё это вместе – Бог его знает, но эта стыдливость, ежели сама по себе и нехорошая черта, то наверно нераздельно связана со всем лучшим в детской душе его. Выбить это всё палкой физической или моральной можно, но опасно, чтобы не выбить вместе и драгоценных качеств, без которых плохо придется учителю вести его дальше.
Новый учитель послушал моего совета, спустил учеников с лавок, позволил лезть, куда они хотят, даже себе на спину, и в тот же урок все стали рассказывать несравненно лучше, и в дневнике учителя значилось, что даже «закоснелый Савин сказал несколько слов».
Есть в школе что-то неопределенное, почти не подчиняющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения, – это дух школы. Этот дух подчинен известным законам и отрицательному влиянию учителя, т. е. что учитель должен избегать некоторых вещей, для того чтобы не уничтожить этот дух.... Дух школы, например, находится всегда в обратном отношении к принуждению и порядку школы, в обратном отношении к вмешательству учителя в образ мышления учеников, в прямом отношении к числу учеников, в обратном отношении к продолжительности урока и т. п. Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования, – что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее, и потому долженствующее быть целью всякого учителя. Как слюна во рту необходима для пищеварения, но неприятна и излишня без пищи, так и этот дух напряженного оживления, скучный и неприятный вне класса, есть необходимое условие принятия умственной пищи. Настроение это выдумывать и искусственно приготавливать нельзя, да и ненужно, ибо оно всегда само собой является.
В начале школы я делал такие ошибки. Как скоро мальчик начинал плохо и неохотно понимать, находило на него столь обыкновенное школьное состояние тупика, я говорил: попрыгай, попрыгай! – Мальчик начинал прыгать, другие и он сам смеялись, и после прыганья ученик был другой. Но, повторив несколько раз это прыганье, оказалось, что как скажешь: Попрыгай! – на ученика находит еще бо?льшая тоска, он начинает плакать. Он видит, что душевное состояние его не то, какое должно бы было быть и нужно, а управлять своею душой не может и никому не хочет позволить. Ребенок и человек воспринимает только в раздраженном состоянии, поэтому смотреть на веселый дух школы, как на врага, как на помеху, есть грубейшая ошибка, которую мы слишком часто делаем.
Но когда оживление это в большом классе так сильно, что мешает учителю руководить классом, что учителя уже не слышно и не слушают, как же тогда, кажется, не прикрикнуть на детей и не подавить этого духа? Ежели оживление это имеет предметом урок, то лучше и желать нечего. Ежели же оживление это перешло на другой предмет, то виноват был учитель, не руководивший этим оживлением. Задача учителя, которую почти каждый исполняет бессознательно, состоит в том, чтобы постоянно давать пищу этому оживлению и постепенно отпускать поводья ему. Вы спрашиваете одного, другому хочется рассказать, – он знает, он, перегнувшись к вам, смотрит на вас во все глаза, насилу может удержать свои слова, жадно следит за рассказчиком и не пропустит ему ни одной ошибки. Спросите его, и он расскажет страстно, и то, что? он расскажет, навсегда врежется в его памяти, но продержите его в таком напряжении, не позволяя ему рассказывать полчаса, он станет заниматься щипаньем соседа.
Другой пример: выдьте из класса уездного училища или немецкой школы, где было тихо, приказав продолжать занятия, и чрез полчаса послушайте у двери: класс оживлен, но предмет оживления другой, так называемые шалости. В наших классах мы часто делали этот опыт. Выдя в середине класса, когда уже много накричались, вы подойдете к двери и услышите, что мальчики продолжают рассказывать, поправляя, поверяя друг друга, и часто вместо того, чтобы без вас начать шалить, без вас вовсе затихают.
Как при порядке рассаживанья по скамьям и одиночного спрашиванья, так и при этом порядке есть свои приемы, не трудные, но которые надо знать и без которых первый опыт может быть неудачен. Надо следить за тем, чтобы не было крикунов, повторяющих последние сказанные слова, только для радости шума. Надобно, чтобы эта прелесть шума не была бы главной их целью и задачей. Надобно поверять некоторых, могут ли они одни всё рассказать и усвоили ли себе смысл. Ежели учеников слишком много, то разделять на несколько отделений и заставлять рассказывать по отделениям друг другу.
Не надобно бояться того, что вновь пришедший ученик иногда с месяц не откроет рта. Надобно только следить за ним, занят ли он рассказом или чем другим. Обыкновенно вновь пришедший ученик сначала схватывает только вещественную сторону дела и весь погружается в наблюдение над тем, как сидят, лежат, как шевелятся губы у учителя, как вдруг все закричат, и он аккуратно садится так, как другие, и смелый, так же как другие, начинает кричать, ничего не запомнив и только повторяя слова соседа. Его останавливают учитель и товарищи, и он понимает, что требуется что-то другое. Пройдет несколько времени, и он сам кое-что начинает рассказывать. Как в нем распустился цветок понимания и когда, – узнать трудно.
Недавно мне удалось подметить такое расцветание понимания у одной забитой девочки, с месяц молчавшей. Рассказывал г-н У., а я был посторонним зрителем и наблюдал. Когда все принялись рассказывать, я заметил, что Марфутка слезла с лавки с тем жестом, с которым рассказчики переменяют положение слушающего на положение рассказывающего, и подошла поближе. Когда все закричали, я оглянулся на нее: она чуть заметно шевелила губами, и глаза ее были полны мысли и оживления. Встретившись со мной взглядом, она потупилась. Через минуту я снова оглянулся, – она опять шептала что-то про себя. Я попросил ее рассказать, она совсем растерялась. Через два дня она прекрасно рассказывала целую историю.
В нашей школе лучшая поверка того, что? ученики запоминают при таких рассказах, – рассказы, записанные ими самими из головы и с поправкою только орфографических ошибок.
Выписка из тетради 10-летнего М. «Бог велел Аврааму принесть своего сына Исаака на жертву. Авраам взял двух слуг, Исаак нес дрова и огонь, а Авраам нес нож. Когда они пришли к горе Ор, там Авраам поставил своих слуг, а сам пошел с Исааком на гору. Исаак говорит: батюшка! у нас всё есть, где же жертва? Авраам говорит: мне Бог тебя велел принесть. Вот Авраам разжег костер и положил своего сына. Исаак говорит: батюшка! свяжи меня, а то я встрепыхнусь и тебя убью. Авраам взял его и связал. Только размахнулся, а Ангел слетел с небес и удержал его руку и говорит: Авраам, не воскладывай на своего сына отрока руку, Бог видит твою веру. Потом Ангел говорит ему: ступай в куст, там запутался баран, принеси его вместо сына – и Авраам принес Богу жертву. Потом Аврааму пришло время женить своего сына. У них был работник Елиезер. Авраам призвал работника и говорит: поклянись мне, что ты не возьмешь в нашем городе невесту, а туда пойдешь, куда я тебя пошлю. Авраам послал его в землю Месопотамию к Нахору. Елиезер взял верблюдов и поехал. Когда приехал к колодцу, то стал говорить: Господи! дай мне такую невесту, какая прежде придет, напоит меня и верблюдов моих напоит, та моего господина Исаака невеста. Только Елиезер успел эти слова проговорить, идет девица. Елиезер стал просить у ней пить. Она дала ему пить и говорит: небось твои верблюды хотят пить. Елиезер говорит: пожалуй, напой. Она напоила и верблюдов, тогда Елиезер дал ей ожерелье и говорит: нельзя ли мне у вас переночевать. Она говорит: можно. Когда пришли они в дом, ее родные ужинают и стали сажать Елиезера ужинать. Елиезер говорит: я до сих пор не буду есть, пока слово скажу. Елиезер им сказал. Они говорят: мы согласны, как она? Спросили у ней, – она согласна. Потом отец с матерью благословили Ревекку, Елиезер сел с ней и поехали, а Исаак ходил по полю. Ревекка увидала Исаака и закрылась полотенцем. Исаак подошел к ней, взял ее за руку и повел к себе в дом, они и перевенчались».
Из тетради мальчика И. Ф. о Иакове. «Ревекка была девятнадцать лет неплодна, после родила двух близнецов, – Исава и Иакова. Исав занимался звероловством, а Иаков помогал матери. Один раз Исав пошел зверей бить и ничего не убил и пришел сердитый; а Иаков хлебает чечевичную похлебку. Исав пришел и говорит: дай мне этой похлебки. Иаков говорит: отдай мне свое первенство. Исав говорит: возьми. – Поклянись! Исав поклялся. Потом Иаков дал Исаву похлебки. Когда Исаак ослеп, то говорит: Исав! поди убей мне какую-нибудь дичинку. Исав пошел, Ревекка услыхала это, говорит Иакову: поди убей двух козлят. Иаков пошел и убил двух козлят и принес матери. Она изжарила и обернула Иакова кожею, а пищу Иаков понес своему отцу и говорит: я тебе любимое кушанье принес. Исаак говорит: подойди ко мне поближе. Иаков подошел. Исаак стал щупать за тело и говорит: голос Иакова, а тело Исава. Потом благословил Иакова. Иаков только выходит из дверей, а Исав в дверь и говорит: на, батюшка, тебе любимое кушанье. Исаак говорит: у меня был Исав. Нет, батюшка, это тебя Иаков обманул, и пошел сам из дверей, заплакал и говорит: дай батюшка умрет, я тебе тогда отплачу. Ревекка говорит Иакову: поди попроси у отца благословения и ступай к дяде Лавану. Исаак благословил Иакова и он пошел к дяде Лавану. Тут Иакова пристигла ночь. Он стал в поле ночевать, нашел камень, положил в головы и заснул. Вдруг видит во сне будто от земли до неба стоит лестница, по ней вниз и вверх ходят Ангелы, а сверху сам Господь стоит и говорит: Иаков! землю, на которой ты лежишь, я тебе отдаю и твоему потомству. Иаков встал и говорит: как тут страшно, знать тут Божий дом, я оттуда возвращусь и построю церковь здесь; потом затеплил лампаду, и пошел дальше, – видит пастухи стерегут скот. Иаков стал у них спрашивать, где тут дядя Лаван живет? Пастухи говорят: вон его дочь гонит овец поить. Иаков подошел к ней, она не отвалит камня от колодца. Иаков отвалил камень и напоил овец и говорит: ты чья дочь? Она отвечает: Лавана. – Я тебе двоюродный брат. – Они поцеловались и пошли домой. Дядя Лаван принял его и говорит: Иаков, живи у меня, я тебе буду плату давать. Иаков говорит: я не буду жить за плату, а отдай за меня младшую дочь Рахиль. Лаван говорит: проживи у меня семь лет, тогда я отдам за тебя дочь Рахиль. Иаков прожил семь лет и дядя Лаван отдал Иакову вместо Рахили Лию. Иаков и говорит: дядя Лаван, на что ты меня обманул? Лаван говорит: проживи у меня еще семь лет, тогда я отдам за тебя младшую дочь Рахиль, а то у нас нет права отдавать младшую дочь прежде. Иаков прожил у дяди еще семь лет, тогда ужь Лаван отдал ему Рахиль».
Из тетради 8-летнего мальчика Т. Ф. О Иосифе. «У Иакова было двенадцать сыновей. Он больше всех любил Иосифа и сшил ему разноцветное платье. Тут Иосиф видел два сна и рассказывает братьям своим: «будто бы жали в поле рожь и нажали двенадцать снопов. Мой сноп прямо стоит и одиннадцать снопов моему снопу поклоняются». А братья говорят: неужели мы тебе будем поклоняться? А другой сон видел: «будто на небе одиннадцать звезд, солнце и месяц моей звезде поклоняются». А мать с отцом говорят: неужели мы тебе будем поклоняться? Братья пошли в даль скотину стеречь, потом отец посылает Иосифа братьям пищу несть; братья увидели его да и говорят: вот наш сновидец идет; давай его в бездонный колодезь посадим. Рувим себе и думает: как они куда отлучатся, я его вытащу. А тут едут купцы. Рувим говорит – продадим его купцам египетским. Иосифа и продали, а купцы продали Пентефрию царедворцу. Пентефрий его любил и жена его любила. Пентефрий куда-то отлучился, а его жена и говорит Иосифу: «Иосиф! давай моего мужа убьем и я за тебя замуж выйду». Иосиф говорит: «ежели ты в другой раз скажешь, я твоему мужу скажу». Она его за платье взяла и закричала. Слуги услыхали и пришли. Потом Пентефрий приехал. Жена ему рассказала, что Иосиф будто хотел его убить, а на ней жениться. Пентефрий велел его посадить в острог. Как Иосиф был добрый человек, он и там заслужил, и ему велено над острогом глядеть. Однажды Иосиф шел по темнице и видит, что двое сидят пригорюнившись. Иосиф подошел к ним и говорит: «что вы пригорюнившись?» Они и говорят: «мы вот в одну ночь видели два сна и некому нам разгадать». Иосиф говорит: «какой же?» Стал виночерпий рассказывать: «будто я сорвал три ягодки, нажал соку и подавал царю». Иосиф говорит: «ты через три дня будешь опять на своем месте». Потом стал хлебодар рассказывать: «будто я нес двенадцать в корзине хлебов и птицы разлетаются и клюют хлеб». Иосиф сказал: «ты через три дня будешь повешен и птицы разлетятся и будут твое тело клевать». Так и сбылось. Однажды царь Фараон видел в одну ночь два сна и всех собрал своих мудрецов и никто ему не разгадал. Виночерпий вспомнил и говорит: у меня есть человек на примете. Царь послал за ним коляску. Когда его привезли, царь стал рассказывать: «будто я стоял на берегу реки и вышли семь коров жирных, а семь худых, и худые бросились на жирных и поели и не стали жирными». А другой сон видел: «будто росли на одном стебле семь колосьев полные, а семь пустых: пустые бросились на полных, поели и не стали полными». Иосиф говорит: «это вот к чему, – семь годов будут хлебородных, а семь голодных». Царь отдал Иосифу золотую цепь через плечо и с правой руки перстень и велел строить анбары».
Всё сказанное относится до преподавания как священной, так и русской истории, естественной истории, географии, отчасти физики, химии, зоологии, вообще всех предметов, исключая пения, математики и рисованья. О преподавании же собственно священной истории за это время должен сказать следующее.
Во-первых о том, почему выбран первоначально Ветхий Завет? Не говоря о том, что знание священной истории требовалось как самими учениками, так и их родителями, из всех изустных передач, которые я пробовал в продолжение трех лет, ничто так не приходилось по понятиям и складу ума мальчиков, как Библия. То же самое повторилось во всех других школах, которые мне случалось наблюдать. Я пробовал вначале Новый Завет, пробовал и русскую историю и географию; пробовал столь любимые в наше время объяснения явлений природы, но всё это забывалось и слушалось неохотно. Ветхий Завет запомнился сразу и рассказывался страстно, с восторгом и в классе, и дома и запоминался так, что через два месяца после рассказа дети из головы писали священную историю в тетрадках с весьма незначительными пропусками.
Мне кажется, что книга детства рода человеческого всегда будет лучшей книгой детства всякого человека. Заменить эту книгу мне кажется невозможным. Изменять, сокращать Библию, как это делают священные истории Зонтаг и т. п., мне кажется вредным. Всё, каждое слово в ней справедливо, как откровение, и справедливо, как художество. – Прочтите по Библии о сотворении мира и по краткой священной истории, и переделка Библии в священной истории вам представится совершенно непонятной; по священной истории нельзя иначе, как заучивать наизусть, по Библии ребенку представляется живая и величественная картина, которую он никогда не забудет. Выпуски в священной истории совершенно непонятны и только нарушают характер и красоту священного писания. Зачем, например, во всех священных историях выпущено, что, когда не было ничего, дух Божий носился над бездной, что Бог, сотворив, оглядывает свое творенье и видит, что оно хорошо, и что тогда становится утро и вечер дня такого-то? Зачем выпущено то, что Бог вдунул в ноздри душу бессмертную, что, вынув у Адама ребро, заложил место мясом, и т. д.? Надобно читать Библию неиспорченным детям, чтобы понять, до какой степени все это необходимо и истинно. Как обыкновенно слышать шуточки, что Библия неприличная книга, что ее нельзя давать в руки барышням. – Может быть, испорченным барышням нельзя давать Библии в руки, но, читая ее крестьянским детям, я не изменял и не выпускал ни одного слова. И никто не хихикал за спиной друг друга, и все слушали ее с замиранием сердца и естественным благоговением. История Лота и его дочерей, история сына Иуды возбуждают ужас, а не смех…
Как всё понятно и ясно, особенно для ребенка, и вместе с тем как строго и серьезно!.... Я не могу себе представить, какое возможно было бы образование, ежели бы не было этой книги? – А кажется, когда только в детстве узнал эти рассказы, отчасти забыл их впоследствии, – к чему они нам? И разве не то же ли самое было бы, ежели бы и вовсе не знал их?
Так оно кажется до тех пор, пока, начиная учить, не проверяешь над другими детьми всех элементов своего собственного развития. Кажется, можно выучить детей писать, читать, считать, можно дать им понятие об истории, географии и явлениях природы без Библии и прежде Библии, а однако нигде это не делается, – везде прежде всего ребенок узнает Библию, рассказы, выдержки из нее. Первое отношение учащегося к учащему основывается на этой книге. Такое всеобщее явление не случайно. Совершенно свободное мое отношение к ученикам, при начале Ясно-полянской школы, помогло мне разъяснить это явление.
Ребенок, или человек, вступающий в школу (я не делаю никакого различия между 10 и 30 или 70-летним человеком), вносит с собой свой известный, вынесенный им из жизни и любимый им взгляд на вещи. Для того чтобы человек какого бы то ни было возраста стал учиться, надобно, чтобы он полюбил ученье. Для того чтобы он полюбил ученье, нужно, чтобы он сознал ложность, недостаточность своего взгляда на вещи и чутьем бы предчувствовал то новое миросозерцание, которое ему откроет ученье. Ни один человек и ребенок не был бы в силах учиться, ежели бы будущность его ученья представлялась ему только искусством писать, читать или считать; ни один учитель не мог бы учить, ежели бы он не имел в своей власти миросозерцания выше того, которое имеют ученики. Для того чтобы ученик мог отдаться весь учителю, нужно открыть ему одну сторону того покрова, который скрывал от него всю прелесть того мира мысли, знания и поэзии, в которой должно ввести его ученье. Только находясь под постоянным обаянием этого впереди его блещущего света, ученик в состоянии так работать над собой, как мы того от него требуем.
Какие же средства имеем мы для того, чтобы поднять перед учениками этот край завесы?.... Как я говорил, я думал, как и многие думают, что, находясь сам в том мире, в который мне надо вести учеников, мне легко будет это сделать, и я учил грамоте, я объяснял явления природы, я рассказывал, как в азбучках, что плоды ученья сладки, но ученики не верили мне и всё чуждались. Я попробовал читать им Библию и вполне завладел ими. Край завесы был поднят, и они отдались мне совершенно. Они полюбили и книгу, и ученье, и меня. Мне оставалось только руководить ими дальше. После Ветхого Завета я рассказал им Новый Завет, – они всё больше и больше любили ученье и меня. Потом я рассказывал им всеобщую, русскую, естественную историю: после Библии, они всё слушали, всему верили, всё дальше и дальше просились, и дальше и дальше раскрывались перед ними перспективы мысли, знания и поэзии. Может быть, это была случайность. Может быть, начав другим способом, в другой школе достигнуты были бы те же результаты. Может быть, – но случайность эта повторялась слишком неизменно во всех школах и во всех семьях, и объяснение этого явления слишком для меня ясно, чтобы я согласился признать его случайностью. Для того чтобы открыть ученику новый мир и без знания заставить его полюбить знания, нет книги, кроме Библии. Я говорю даже для тех, которые не смотрят на Библию, как на откровение. Нет, по крайней мере я не знаю произведения, которое бы соединяло в себе в столь сжатой поэтической форме все те стороны человеческой мысли, какие соединяет в себе Библия. Все вопросы из явлений природы объяснены этою книгой, все первоначальные отношения людей между собой, семьи, государства, религии в первый раз сознаются по этой книге. Обобщения мыслей, мудрость, в детски простой форме, в первый раз захватывает своим обаянием ум ученика. Лиризм псалмов Давида действует не только на умы взрослых учеников, но сверх того каждый из этой книги в первый раз узнает всю прелесть эпоса в неподражаемой простоте и силе. Кто не плакал над историей Иосифа и встречей его с братьями, кто с замиранием сердца не рассказывал историю связанного и остриженного Самсона, который, отмщая врагам, сам гибнет, казня врагов, под развалинами разрушенного дворца, и еще сотни других впечатлений, которыми мы воспитаны, как молоком матери?… Пускай те, которые отрицают воспитательное значение Библии, которые говорят, что Библия отжила, пускай они выдумают такую книгу, такие рассказы, объясняющие явления природы, или из общей истории, или из воображения, которые бы воспринимались так же, как библейские, и тогда мы согласимся, что Библия отжила.
Педагогия служит поверкою многих и многих жизненных явлений, общественных и отвлеченных вопросов.
Материялизм тогда только будет иметь право объявить себя победителем, когда будет написана Библия матерьялизма и детство будет воспитываться по этой Библии. Попытка Овэна не может служить доказательством такой возможности, как произрастание лимонного дерева в московской теплице не есть доказательство того, что деревья могут расти без открытого неба и солнца.
Я повторяю свое, выведенное, может быть, из одностороннего опыта, убеждение. Без Библии немыслимо в нашем обществе, так же, как не могло быть мыслимо без Гомера в греческом обществе, развитие ребенка и человека. Библия есть единственная книга для первоначального и детского чтения. Библия как по форме, так и по содержанию, должна служить образцом всех детских руководств и книг для чтения. Простонародный перевод Библии был бы лучшая народная книга. Появление такого перевода в наше время составило бы эпоху в истории русского народа.
Теперь о способе преподавания священной истории. Все краткие священные истории на русском языке я считаю двояким преступлением: и против святыни, и против поэзии. Все эти переделки, имея в виду облегчать ученье священной истории, затрудняют его. Библия читается, как удовольствие, дома, облокотившись головой на руку. Историйки учатся с указкой наизусть. Мало того, что историйки эти скучны, непонятны, – они портят способность понимать поэзию Библии. Не раз замечал я, как дурной, непонятный язык нарушал воспринятие внутреннего смысла Библии. Непонятные слова, как «отрок, пучина, попрал» и т. п., запоминаются наравне с событиями, останавливают внимание учеников по своей новизне и служат для них как бы вехами, по которым они руководствуются в рассказе.