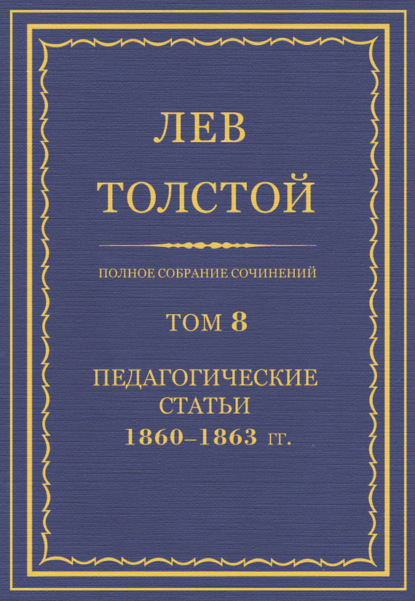По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 8. Педагогические статьи 1860–1863 гг.
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ответ этот удовлетворяет всех учеников и даже скептика Сёмку.
Учитель, видя необходимость перейдти к объяснению сословий, спрашивает, какие они знают сословия. Ученики начинают пересчитывать: дворяне, мужики, попы, солдаты. – Еще? – спрашивает учитель. – Дворовые, козюки[12 - Козюками называются у нас мещане.], самоварщики. – Учитель спрашивает о различии этих сословий.
Ученики. Крестьяне пашут, дворовые господам служат, купцы торгуют, солдаты служат, самоварщики самовары делают, попы обедни служат, дворяне ничего не делают.
Учитель объясняет действительное различие сословий, но тщетно старается объяснить необходимость солдат, когда ни с кем не воюют – только в виду обеспечения государства от нападений, – и занятия дворян на службе. Учитель пытается уже объяснить отличие России от других государств географически; он говорит, что вся земля разделена на различные государства. Русские, французы, немцы разделили всю землю и сказали себе: по сих пор мое, по сих пор твое, так что Россия, как и другие народы, имеет свои границы.
Учитель. Понимаете, что такое границы? Скажи кто-нибудь пример границы.
Ученик(умный мальчик). А вон за Туркиным в?рхом граница (граница эта есть каменный столб, который стоит на дороге между Тулой и Ясною поляной, означающий начало Тульского уезда).
Все ученики согласны с определением.
Учитель видит необходимость показать границы на знакомой местности. Он рисует план двух комнат и показывает границу, разделяющую их, приносит план деревни, и ученики сами узнают некоторые границы. Учитель объясняет, т. е. ему кажется, что он объясняет, что как земля Ясной поляны имеет свои границы, так и Россия. Он льстит себя надеждой, что все его поняли, но когда спрашивает, как узнать, сколько от нашего места до границы России, то ученики, нисколько не затрудняясь, отвечают, что это очень легко, надо только смерить аршином отсюда до границы.
Учитель. В какую же сторону?
Ученик. Прямо отсюда гнать на границу и записать, сколько выйдет.
Снова переходим к чертежам, планам и картам. Является необходимость отсутствующего понятия масштаба. Учитель предлагает нарисовать план деревни, расположенной улицей. Начинаем рисовать на черной доске, но воя деревня не выходит, потому что масштаб взят велик. Стираем и вновь начинаем рисовать в малом масштабе, на грифельной доске. Масштаб, план, границы понемногу уясняются. Учитель повторяет всё сказанное, спрашивает, что такое Россия и где ей конец?
Ученик. Земля, в которой мы живем и в которой живут немцы и татары.
Другой ученик. Земля, что под русским царем.
Учитель. Где же ей конец?
Девочка. Там, где нехристи немцы пойдут.
Учитель. Немцы не нехристи. Немцы тоже веруют в Христа. (Объяснение религий и вероисповеданий.)
Ученик(с рвением, видимо радуясь тому, что вспомнил). В России законы есть, кто убьет, того в острог посадят, и еще всякий народ есть: духовенцы, солдаты, дворяне.
Сёмка. Кто солдат кормит?
Учитель. Царь. На то деньги со всех собирают, потому что они за всех служат.
Учитель объясняет еще, что? такое казна, и с грехом пополам заставляет их повторить то, что сказано о границах.
Урок продолжается часа два; учитель уверен, что дети удержали многое из сказанного, и в таком же роде продолжает следующие уроки, но только впоследствии убеждается, что приемы эти были неверны и что всё, чт? он делал, был совершенный вздор.
Я невольно впал во всегдашнюю ошибку сократического метода, дошедшего в немецком Anschauungsunterricht[13 - [наглядном обучении]] до последней степени уродливости. Я не давал в этих уроках никаких новых понятий ученикам, воображая, что я это делал, и только своим моральным влиянием заставлял детей отвечать так, как мне хотелось. Расея, Руской, остались всё теми же бессознательными признаками своего, нашего, чего-то расплывающегося, неопределенного. Закон остался тем же непонятным словом. Месяцев шесть тому назад я делал эти опыты и первое время был чрезвычайно доволен и горд ими. Те, кому я их читал, говорили, что это чрезвычайно хорошо и интересно; но после трех недель, во время которых я не мог заниматься сам в школе, я попробовал продолжать начатое и убедился, что всё прежнее было пустяки и самообманывание. Ни один ученик не умел мне сказать, чт? такое граница, что такое Россия, русский, что такое закон и какие границы Крапивенского уезда; всё, что они выучили, забыли, но вместе с тем всё это знали по-своему. Я убедился в своей ошибке; не решено для меня только то, состояла ли ошибка в дурном приеме преподавания или в самой мысли его; может быть, и нет никакой возможности до известного периода общего развития и без помощи газет и путешествий пробудить в ребенке исторический и географический интерес; может быть, будет найден (я постоянно пытаюсь и ищу) тот прием, посредством которого это можно будет сделать. Я знаю только одно, что прием этот никак не будет состоять в так называемой истории и географии, т. е. в учении по книгам, которое убивает, а не возбуждает эти интересы.
Делал я еще другие опыты преподавания истории с настоящего времени, и опыты чрезвычайно удачные. Я рассказывал историю Крымской кампании, рассказывал царствование императора Николая и историю 12-го года. Всё это в почти сказочном тоне, большею частию исторически неверно и группируя события вокруг одного лица. Самый большой успех имел, как и надо было ожидать, рассказ о войне с Наполеоном.
Этот класс остался памятным часом в нашей жизни. Я никогда не забуду его. Давно уже было обещано детям, что я буду им рассказывать с конца, а другой учитель с начала, что так мы и сойдемся. Мои вечерние ученики разбрелись; я пришел в класс русской истории, – рассказывалось о Святославе. Им было скучно. На высокой лавке, как всегда, рядом сидели три крестьянские девочки, обвязанные платками. Одна заснула. Мишка толкнул меня: «глянь-ка, кукушки наши сидят, одна заснула». И точно, кукушки. – «Расскажи лучше с конца!» сказал кто-то, и все привстали.
Я сел и стал рассказывать. Как всегда, минуты две продолжались возня, стоны, толкотня: кто под стол, кто на стол, кто под лавки, кто на плечи и на колени другому, – и всё затихло. Я надеюсь поместить этот рассказ в отделе «Книжки» и потому не стану повторять его здесь. Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, о успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дошло дело до нас, со всех сторон послышались звуки и слова живого участия. «Что жь он и нас завоюет?» – «Небось Александр ему задаст!» сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать – не пришло еще время; и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту. «Погоди же ты»! проговорил Петька с угрожающим жестом. «Ну, ну, рассказывай! Ну!» Когда не покорился ему Александр, т. е. объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон с 12 языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, – все замерли от волнения.
Немец, мой товарищ, стоял в комнате. – «А, и вы на нас!» сказал ему Петька (лучший рассказчик). «Ну, молчи!» закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей, так что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? и ругали Кутузова и Барклая. «Плох твой Кутузов». – «Ты погоди», говорил другой. – «Да что жь он сдался?» спрашивал третий. Когда пришла Бородинская битва, и когда в конце ее я должен был сказать, что мы всё-таки не победили, мне жалко было их: видно было, что я страшный удар наношу всем. «Хоть не наша, да и не ихняя взяла!» Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, – всё загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество – отступление. – «Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить», сказал я. – «Окарячил его!» поправил меня. Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его привычка. Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, и никто не замечал. – «Так-то лучше! Вот-те и ключи», и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали Француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упустили его, Петька, даже крякнул: «Я б его расстрелял, сукина сына, зачем он опоздал!» – Потом немножко мы пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу и Немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. – «А, вы, так-то? то на нас, а как сила не берет, так с нами?», и вдруг все поднялись и начали ухать на Немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали. Только воспоминанье Крымской войны испортило нам всё дело. «Погоди же ты, – проговорил Петька, потрясая кулаками: – дай я выросту, я же им задам!» Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили.
Ужь было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это. время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горели. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня. «Как ты сюда залез?» «Он с самого начала», сказал кто-то. Нечего было и спрашивать – понял ли он, видно было по лицу. «Что, ты расскажешь?» спросил я. «Я-то? – он подумал: – всю расскажу». – «Я дома расскажу. – И я тоже. – И я». – «Больше не будет?» – Нет. – И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать Французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил.
«Sie haben ganz Russisch erz?hlt» (вы совершенно по-русски рассказывали, сказал мне вечером Немец, на которого ухали. – Вы бы послушали, как у нас совершенно иначе рассказывают эту историю. Вы ничего не сказали о немецких битвах за свободу. «Sie haben nichts gesagt von den deutschen Freiheitsk?mpfen».
Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ – не была история, а сказка, возбуждающая народное чувство.
Стало быть, как преподавание истории, и эта попытка была неудачна еще более, чем первые.
По преподаванию географии я делал то же самое. Прежде всего я начал с физической географии. – Помню первый урок. Я начал его и тотчас же сбился. Оказалось то, чего я совершенно не предполагал, именно, я не знал того, что я желал, чтобы узнали 10-летние крестьянские дети. Я умел объяснить день и ночь, но в объяснении зимы и лета сбился. Устыдившись своего невежества, я повторил и потом спрашивал многих из моих знакомых, образованных людей, и никто, кроме недавно вышедших из школы или учителей, не умел мне без глобуса рассказать хорошенько. Я прошу всех читающих проверить это замечание. Я утверждаю, что из 100 людей один знает это, а все дети учатся. Протвердивши хорошенько, я снова принялся за объяснение и с помощью свечки и глобуса объяснил, как мне показалось, отлично. Меня слушали с большим вниманием и интересом. (Особенно интересно им было знать то, во что не верят их отцы, и по возможности похвастаться своею мудростью.)
В конце моего объяснения о зиме и лете скептик Сёмка, самый понятливый из всех, остановил меня вопросом: как же земля ходит, а изба наша всё на том же месте стоит? и она бы должна была с места сойдти! Я увидал, что я от самого умного на 1000 верст ушел вперед в своем объяснении, – что? же должны были понять самые непонятливые?..
Я воротился назад, – толковал, рисовал, приводил все доказательства круглости земли: путешествия вокруг света, показыванье мачты корабля прежде палубы и др., и, утешая себя мыслию, что теперь-то поняли, я заставил их написать урок. Все написали: «Земля как шар – первая доказательства.... другая доказательства», и забыли третью доказательству и спрашивали у меня. Видно было, что главное дело для них – помнить доказательства. Не раз и не десять раз, а сотни раз возвращался я к этим объяснениям и всегда безуспешно. На экзамене все ученики ответили бы и теперь ответят удовлетворительно; но я чувствую, что они не понимают, и вспоминая, что и сам я хорошенько не понимал дела до 30 лет, я извинил им это непонимание. Как я в детстве, так и они теперь верили на слово, что земля кругла и т. д., и ничего не понимали. Мне еще легче было понять, – мне нянька в первом детстве внушила, что на конце света небо с землею сходятся, и там бабы на краю земли в море белье моют, а на небо скалки кладут. Наши ученики давно утвердились и теперь постоянно остаются в понятиях, совершенно противных тем, которые мне хочется передать им. Надо долго еще разрушать те объяснения, которые они имеют, и то воззрение на мир, которое ничем еще не нарушалось, прежде чем они поймут. Законы физики, механики – первые основательно разрушат эти старые воззрения. А они, как и я, как и все, прежде физики начали физическую географию.
В преподавании географии, как и во всех других предметах, самая обыкновенная, грубая и вредная ошибка – поспешность. Точно мы так обрадовались, что знаем, что будто земля кругла и ходит вокруг солнца, что спешим как можно скорее передать это ученику. А не то дорого знать, что земля круглая, а дорого знать, как дошли до этого. Очень часто детям рассказывают, что солнце от земли на столько-то бильонов верст, а это ребенку вовсе не удивительно и не интересно. Ему интересно знать, как дошли до этого. Кто хочет говорить об этом, лучше пусть расскажет о параллаксах. Это очень возможно. Я за тем остановился долго на круглоте земли, что т?, что сказано о ней, относится ко всей географии. Из тысячи образованных людей, кроме учителей и учеников, один знает хорошенько, отчего зима и лето, и знает, где Гваделупа, из тысячи детей ни один в детстве не понимает объяснений круглоты земли и ни один не верит в действительное существование Гваделупы, а всех продолжают обучать с самого детства как тому, так и другому.
После физической географии я начал части света с характеристиками, и ничего из этого не осталось, как то, что когда спросишь, наперерыв кричат: – Азия, Африка, Австралия! – а спросишь вдруг: в какой части света Франция? (когда за минуту перед тем сказал, что в Европе Англия, Франция), закричит кто-нибудь, что Франция в Африке. Вопрос: зачем? так и видится в каждом потухшем взгляде, в каждом звуке голоса, когда начнешь географию, – и нет ответа на этот печальный вопрос: зачем?
Как в истории обыкновенная мысль начинать с конца, так и в географии явилась и стала обыкновенной мысль начинать со школьной комнаты, со своей деревни. Я видел эти опыты в Германии и сам, обезнадеженный неудачею обыкновенной географии, принялся за описание комнаты, дома, деревни. Как рисование планов, такие упражнения не лишены пользы, но знать, какая земля за нашею деревней, не интересно, потому что все они знают, что там Телятинки. А знать, что? за Телятинками, – не интересно, потому что там такая же, верно, деревня, как Телятинки, а Телятинки с своими полями совсем не интересны. Пробовал я им ставить географические вехи, как Москва, Киев, но всё это укладывалось в их головах так бессвязно, что они учили наизусть. Пробовал я рисовать карты, и это занимало их и, действительно, помогало памяти, но опять являлся вопрос: зачем помогать памяти? Пробовал я еще рассказывать о полярных и экваториальных странах; они слушали с удовольствием и рассказывали, но запоминали в этих рассказах всё, кроме того, что было в них географического. Главное то, что рисованье планов деревни было рисованье планов, а не география; рисованье карт было рисованье карт, а не география; рассказы о зверях, лесах, львах и городах были сказки, а не география. География была только ученье наизусть. Из всех новых книжек – Грубе, Биернадский – ни одна не была интересна. Одна, забытая всеми книжечка, похожая на географию, читалась лучше других и, по моему мнению, есть лучший образец того, что? должно делать для того, чтобы приготовить детей к изучению географии, возбудить в них географический интерес. Книжка эта – Парлей, русский перевод 1837 года. – Книжка эта читается, но больше служит путеводною нитью для учителя, который по ней рассказывает, что? знает о каждой земле и городе. Дети рассказывают, но удерживают редко какое-нибудь название и место на карте, относящееся к описываемому событию, – остаются большею частью одни события. Класс этот, впрочем, относится к разряду бесед, о которых мы будем говорить в своем месте. В последнее время однако, несмотря на все искусство, с которым замаскировано в этой книжке заучиванье ненужных имен, несмотря на всю осторожность, с которою мы обращались с нею, дети пронюхали, что их только заманивают историйками, и получили решительное отвращение от этого класса.
Я пришел, наконец, к убеждению, что относительно истории не только нет необходимости знать скучную русскую историю, но Кир, Александр Македонский, Кесарь и Лютер также не. нужны для развития какого бы то ни было ребенка. Все эти лица и события интересны для учащегося не по мере их значения в истории, а по мере художественности склада их деятельности, по мере художественности обработки ее историком, и большею частью не историком, а народным преданием.
История Ромула и Рема интересна не потому, что эти братья основали могущественнейшее государство в мире, а потому, что забавно, чудно и красиво, как их кормила волчица и т. п. История Гракхов интересна потому, что художественна, так же, как история Григория VII и униженного императора, и есть возможность заинтересовать ею; но история переселения народов будет скучна и бесцельна, потому что содержание ее не художественно, точно так же и история изобретения книгопечатания, как бы ни старались мы внушить ученику, что это есть период в истории и что Гуттенберг великий человек. Расскажите хорошо, как выдуманы зажигательные спички, и ученик никогда не согласится, чтоб изобретатель зажигательных спичек был менее великий человек, чем Гуттенберг. Коротко говоря, для ребенка, вообще для учащегося и не начинавшего жить, интереса исторического, т. е. не говоря уже об общечеловеческом, не существует. Есть только интерес художественный. Говорят, с разработкою материалов возможно будет художественное изложение всех периодов истории, – я этого не вижу. Маколея и Тьери точно так же мало можно дать в руки, как Тацита или Ксенофонта. Для того чтобы сделать историю популярною, нужно не внешность художественную, а нужно олицетворять исторические явления, как это делает иногда предание, иногда сама жизнь, иногда великие мыслители и художники. Детям нравится история только тогда, когда содержание ее художественно. Интереса исторического для них нет и быть не может, следовательно нет и не может быть детской истории. История служит только иногда материалом художественного развития, а пока не развит исторический интерес, не может быть истории. Берте, Кайданов всё-таки остаются единственными руководствами. Старый анекдот – история Мидян темна и баснословна. Больше ничего: нельзя сделать из истории для детей, не понимающих исторического интереса. Противоположные попытки сделать историю и географию художественными и интересными, биографические очерки Грубе, Биернадский – не удовлетворяют ни художественному, ни историческому требованию, не удовлетворяют ни последовательности, ни историческому интересу и вместе с тем разрастаются своими подробностями до невозможных размеров.
То же самое и в географии. Когда Митрофанушку убеждали учиться географии, то его матушка сказала: зачем учить все земли? кучер довезет, куда будет нужно. Сильнее никогда ничего не было сказано против географии, и все ученые мира не в состоянии, ничего ответить против такого несокрушимого довода. Я говорю совершенно серьезно. Для. чего мне было знать положение реки и города Барцелоны, когда, проживя 33 года, мне ни разу не понадобилось это знание? К развитию же моих духовных сил самое живописное описание Барцелоны и ее жителей, сколько я могу предполагать, не могло содействовать. Для чего Сёмке и Федьке знать Мариинский канал и. водяное сообщение, ежели они, как надо предполагать, никогда туда не попадут? Ежели же придется Сёмке поехать туда, то всё равно, учил он это или не учил, он узнает, и хорошо узнает это водяное сообщение на практике. Для развития же его душевных сил, каким образом будет содействовать знание того, что пенька идет вниз, а деготь вверх по Волге, что есть пристань Дубовка и что такой-то подземный пласт идет до такого-то места, а самоеды ездят на оленях и т. п., – я не могу себе этого представить. У меня есть целый мир знаний математических, естественных, языка и поэзии, передать которые у меня недостает времени, есть бесчисленное количество вопросов из явлений окружающей меня жизни, на которые ученик требует ответа и на которые мне нужно прежде ответить, чем рисовать ему картины полярных льдов, тропических стран, гор Австралии и рек Америки. В истории и географии опыт говорит одно и то же и везде подтверждает наши мысли. Везде преподавание географии и истории идет дурно; в виду экзаменов учатся наизусть горы, города и реки, цари и короли; единственно-возможными учебниками остаются Арсеньев и Ободовский, Кайданов, Смарагдов и Берте, и везде жалуются на преподавание этих предметов, ищут чего-то нового и не находят. Забавно то, что всеми признана несообразность требования географии с духом учеников всего мира, и вследствие того выдумывают тысячи остроумных средств (как метода Сидова), как бы заставить детей запомнить слова; самая же простая мысль, что совсем не нужно этой географии, не нужно знать эти слова, никак никому не приходит в голову. Все попытки соединить географию с геологией, зоологией, ботаникой, этнографией и еще не знаю с чем, историю с биографиями – остаются пустыми мечтами, порождающими дурные книжонки в роде: Грубе, негодящиеся ни для детей, ни для юношей, ни для учителей, ни для публики вообще. В самом деле, ежели бы составители таких мнимо-новых руководств к географии и истории подумали о том, чего они хотят, и попробовали сами приложить книжки эти к преподаванию, они бы убедились в невозможности предпринимаемого. Во-первых, география в соединении с естественными науками и этнографией составила бы громаднейшую науку, для изучения которой недостаточно было бы жизни человеческой, и науку еще менее детскую и более сухую, чем одна география. Во-вторых, для составления такого руководства едва ли чрез тысячи лет найдутся достаточные материалы. Уча географии в Крапивенском уезде, я принужден буду дать ученикам подробные сведения о флоре, фауне, геологическом строении земли на северном полюсе и подробности о жителях и торговле Баварского королевства, потому что буду иметь материалы для этих сведений, и почти ничего не буду в состоянии сказать о Белевском и Ефремовском уездах, потому что не буду иметь для того никаких материалов. А дети и здравый смысл требуют от меня известной гармоничности и правильности в преподавании. Остается одно – учить наизусть по географии Ободовского или вовсе не учить. Точно так же, как для истории должен быть возбужден исторический интерес, для изучения географии должен быть возбужден географический интерес. Географический же интерес, по моим наблюдениям и опыту, возбуждается или знаниями естественных наук, или путешествиями, преимущественно, из 100 случаев 99 – путешествиями. Как чтение газет и преимущественно биографий, сочувствие политической жизни своего отечества – для истории, так путешествия для географии большей частью служат первым шагом к изучению науки. Как то, так и другое стало чрезвычайно доступно каждому и легко в наше время, и потому тем менее мы должны бояться отречения от старого суеверия преподавания истории и географии. Сама жизнь так поучительна в наше время в этом отношении, что ежели бы действительно географические и исторические знания были так необходимы для общего развития, как нам кажется, то жизнь всегда пополнит этот недостаток.
И, право, если отрешиться от старого суеверия, совсем не страшно подумать, что вырастут люди, совсем не уча в детстве того, что был Ярослав, был Оттон и что есть Эстрамадура и т. п. Ведь перестали учить астрологию, перестали учить риторику, пиитику, перестают учить по-латыни, и род человеческий не глупеет. Рождаются новые науки, в наше время начинают популяризоваться естественные науки, надо отпадать, отживать старым наукам, не наукам, а граням наук, которые с нарождением новых наук становятся несостоятельными.
Возбудить интерес, знать про то, как живет, жило, слагалось и развивалось человечество в различных государствах, интерес к познанию тех законов, которыми вечно двигается человечество, возбудить, с другой стороны, интерес к уразумению законов явлений природы на всем земном шаре и распределения по нем рода человеческого – это другое дело. Может быть, возбуждение такого интереса и полезно, но к достижению этой цели не поведут ни Сегюры, ни Тьерри, ни Ободовские, ни Грубе. Я знаю для этого два элемента: художественное чувство поэзии и патриотизм. Для того чтобы развить и то, и другое, еще нет учебников; а пока их нет, нам надо искать, а не тратить даром время и силы и уродовать молодое поколение, заставляя его учить историю и географию только потому, что нас учили истории и географии. До университета я не только не вижу никакой необходимости, я вижу большой вред в преподавании истории и географии. Дальше я не знаю.
ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ. (Продолжение)
Рисование и пение. В отчете за ноябрь и декабрь месяцы Яснополянской школы предстоят мне теперь два предмета, имеющие от всех других совершенно отличный характер, – это рисование и пение – искусства.
Не будь у меня взгляда, состоящего в том, что я не знаю, чему и почему нужно учить тому или другому, я должен был бы спросить у самого себя: полезно ли будет для крестьянских детей, поставленных в необходимость проживать всю жизнь в заботах о насущном хлебе, полезно ли будет для них и к чему им искусства?
/
на этот вопрос ответят и отвечают отрицательно. И нельзя ответить иначе. Как скоро поставлен такой вопрос, здравый смысл требует такого ответа: ему не быть художником, ему надо пахать. Если у него будут художнические потребности, он не в силах будет нести ту упорную, безустальную работу, которую ему надобно нести, которую ежели бы он не нес, немыслимо бы было существование государства. Говоря он, я разумею дитя народа. Действительно, это бессмыслица, но я радуюсь этой бессмыслице, не останавливаюсь перед нею, а стараюсь найти причины ее. – Есть другая более сильная бессмыслица. Это самое дитя народа, каждое дитя народа имеет точно такие же права – что? я говорю – еще бо?льшие права на наслаждения искусством, чем мы, дети счастливого сословия, не поставленные в необходимость того безустального труда, окруженные всеми удобствами жизни.
Лишить его права наслаждения искусством, лишить меня, учителя, права ввести его в ту область лучших наслаждений, в которую всеми силами души просится всё его существо, – еще бо?льшая бессмыслица. Как примирить эти две бессмыслицы? Это не лиризм, в чем упрекали меня по случаю описания прогулки в I №, – это только логика. Всякое примирение невозможно и есть только самообманывание. Скажут и говорят: ежели ужь нужно рисование в народной школе, то можно допустить только рисование с натуры, техническое, приложимое к жизни: рисование сохи, машины, постройки, – рисование только как вспомогательное искусство для черчения. Такой обыкновенный взгляд на рисование разделяет и учитель Яснополянской школы, отчет которого мы представляем. Но именно опыт такого преподавания рисования убедил нас в ложности и несправедливости этой технической программы. Большинство учеников, после 4-х месяцев осторожного, исключительно технического рисования, в котором исключено было всякое срисовывание людей, животных, пейзажей, кончило тем, что значительно охладело к рисованию технических предметов и до такой степени развило в себе чувство и потребность к рисованию, как искусству, что завело свои потаенные тетрадки, в которых рисует людей, лошадей со всеми четырьмя ногами, выходящими из одного места.
То же самое в музыке. Обыкновенная программа народных школ не допускает пения далее хорового, церковного, и точно так же или это есть самое скучное, мучительное для детей заучиванье – производить известные звуки, т. е. что дети делаются и рассматриваются как горла, заменяющие трубочки органа, или развивается чувство изящного, находящее удовлетворение в балалайке, гармонике и часто безобразной песне, которых не признает педагог, и в которых не считает уже нужным руководить учеников. Одно из двух: или искусства вообще вредны и не нужны, что совсем не так странно, как кажется с первого взгляда, или каждый, без различия сословий и занятий, имеет на него право и право вполне отдаться ему на том основании, что искусство не терпит посредственности.
Бессмыслица не в том, бессмыслица в самом постановлении такого вопроса, как вопрос: имеют ли дети народа право на искусства? Спросить это – точно то же, что спросить: имеют ли право дети народа есть говядину, т. е. имеют ли право удовлетворять свою человеческую потребность? Вопрос не в том, хороша ли та говядина, которую мы предлагаем и которую мы запрещаем народу. Точно также, как, предлагая народу известные знания, в нашей власти находящиеся, и замечая дурное влияние, производимое ими на него, я заключаю не то, что народ дурен, оттого что не принимает этих знаний, не то, что народ не дорос до того, чтобы воспринять и пользоваться этими знаниями так же, как и мы, но то, что знания эти нехороши, ненормальны, и что нам надо с помощью народа выработать новые, соответственные всем нам, и обществу и народу, знания. Я заключаю только, что знания эти и искусства живут среди нас и кажутся не вредными нам, но не могут жить среди народа и кажутся вредными для него только потому, что эти знания и искусства не те, которые нужны вообще, а что мы живем среди них потому только, что мы испорчены, потому только, что безвредно сидящие пять часов в зараженном воздухе фабрики или трактира не страдают от того самого воздуха, который убивает вновь пришедшего свежего человека.
Скажут: кто сказал, что знания и искусства нашего образованного сословия ложны? почему из того, что народ не воспринимает их, вы заключаете о их ложности? Все вопросы разрешаются весьма просто: потому что нас тысячи, а их миллионы.
Учитель, видя необходимость перейдти к объяснению сословий, спрашивает, какие они знают сословия. Ученики начинают пересчитывать: дворяне, мужики, попы, солдаты. – Еще? – спрашивает учитель. – Дворовые, козюки[12 - Козюками называются у нас мещане.], самоварщики. – Учитель спрашивает о различии этих сословий.
Ученики. Крестьяне пашут, дворовые господам служат, купцы торгуют, солдаты служат, самоварщики самовары делают, попы обедни служат, дворяне ничего не делают.
Учитель объясняет действительное различие сословий, но тщетно старается объяснить необходимость солдат, когда ни с кем не воюют – только в виду обеспечения государства от нападений, – и занятия дворян на службе. Учитель пытается уже объяснить отличие России от других государств географически; он говорит, что вся земля разделена на различные государства. Русские, французы, немцы разделили всю землю и сказали себе: по сих пор мое, по сих пор твое, так что Россия, как и другие народы, имеет свои границы.
Учитель. Понимаете, что такое границы? Скажи кто-нибудь пример границы.
Ученик(умный мальчик). А вон за Туркиным в?рхом граница (граница эта есть каменный столб, который стоит на дороге между Тулой и Ясною поляной, означающий начало Тульского уезда).
Все ученики согласны с определением.
Учитель видит необходимость показать границы на знакомой местности. Он рисует план двух комнат и показывает границу, разделяющую их, приносит план деревни, и ученики сами узнают некоторые границы. Учитель объясняет, т. е. ему кажется, что он объясняет, что как земля Ясной поляны имеет свои границы, так и Россия. Он льстит себя надеждой, что все его поняли, но когда спрашивает, как узнать, сколько от нашего места до границы России, то ученики, нисколько не затрудняясь, отвечают, что это очень легко, надо только смерить аршином отсюда до границы.
Учитель. В какую же сторону?
Ученик. Прямо отсюда гнать на границу и записать, сколько выйдет.
Снова переходим к чертежам, планам и картам. Является необходимость отсутствующего понятия масштаба. Учитель предлагает нарисовать план деревни, расположенной улицей. Начинаем рисовать на черной доске, но воя деревня не выходит, потому что масштаб взят велик. Стираем и вновь начинаем рисовать в малом масштабе, на грифельной доске. Масштаб, план, границы понемногу уясняются. Учитель повторяет всё сказанное, спрашивает, что такое Россия и где ей конец?
Ученик. Земля, в которой мы живем и в которой живут немцы и татары.
Другой ученик. Земля, что под русским царем.
Учитель. Где же ей конец?
Девочка. Там, где нехристи немцы пойдут.
Учитель. Немцы не нехристи. Немцы тоже веруют в Христа. (Объяснение религий и вероисповеданий.)
Ученик(с рвением, видимо радуясь тому, что вспомнил). В России законы есть, кто убьет, того в острог посадят, и еще всякий народ есть: духовенцы, солдаты, дворяне.
Сёмка. Кто солдат кормит?
Учитель. Царь. На то деньги со всех собирают, потому что они за всех служат.
Учитель объясняет еще, что? такое казна, и с грехом пополам заставляет их повторить то, что сказано о границах.
Урок продолжается часа два; учитель уверен, что дети удержали многое из сказанного, и в таком же роде продолжает следующие уроки, но только впоследствии убеждается, что приемы эти были неверны и что всё, чт? он делал, был совершенный вздор.
Я невольно впал во всегдашнюю ошибку сократического метода, дошедшего в немецком Anschauungsunterricht[13 - [наглядном обучении]] до последней степени уродливости. Я не давал в этих уроках никаких новых понятий ученикам, воображая, что я это делал, и только своим моральным влиянием заставлял детей отвечать так, как мне хотелось. Расея, Руской, остались всё теми же бессознательными признаками своего, нашего, чего-то расплывающегося, неопределенного. Закон остался тем же непонятным словом. Месяцев шесть тому назад я делал эти опыты и первое время был чрезвычайно доволен и горд ими. Те, кому я их читал, говорили, что это чрезвычайно хорошо и интересно; но после трех недель, во время которых я не мог заниматься сам в школе, я попробовал продолжать начатое и убедился, что всё прежнее было пустяки и самообманывание. Ни один ученик не умел мне сказать, чт? такое граница, что такое Россия, русский, что такое закон и какие границы Крапивенского уезда; всё, что они выучили, забыли, но вместе с тем всё это знали по-своему. Я убедился в своей ошибке; не решено для меня только то, состояла ли ошибка в дурном приеме преподавания или в самой мысли его; может быть, и нет никакой возможности до известного периода общего развития и без помощи газет и путешествий пробудить в ребенке исторический и географический интерес; может быть, будет найден (я постоянно пытаюсь и ищу) тот прием, посредством которого это можно будет сделать. Я знаю только одно, что прием этот никак не будет состоять в так называемой истории и географии, т. е. в учении по книгам, которое убивает, а не возбуждает эти интересы.
Делал я еще другие опыты преподавания истории с настоящего времени, и опыты чрезвычайно удачные. Я рассказывал историю Крымской кампании, рассказывал царствование императора Николая и историю 12-го года. Всё это в почти сказочном тоне, большею частию исторически неверно и группируя события вокруг одного лица. Самый большой успех имел, как и надо было ожидать, рассказ о войне с Наполеоном.
Этот класс остался памятным часом в нашей жизни. Я никогда не забуду его. Давно уже было обещано детям, что я буду им рассказывать с конца, а другой учитель с начала, что так мы и сойдемся. Мои вечерние ученики разбрелись; я пришел в класс русской истории, – рассказывалось о Святославе. Им было скучно. На высокой лавке, как всегда, рядом сидели три крестьянские девочки, обвязанные платками. Одна заснула. Мишка толкнул меня: «глянь-ка, кукушки наши сидят, одна заснула». И точно, кукушки. – «Расскажи лучше с конца!» сказал кто-то, и все привстали.
Я сел и стал рассказывать. Как всегда, минуты две продолжались возня, стоны, толкотня: кто под стол, кто на стол, кто под лавки, кто на плечи и на колени другому, – и всё затихло. Я надеюсь поместить этот рассказ в отделе «Книжки» и потому не стану повторять его здесь. Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, о успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дошло дело до нас, со всех сторон послышались звуки и слова живого участия. «Что жь он и нас завоюет?» – «Небось Александр ему задаст!» сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать – не пришло еще время; и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту. «Погоди же ты»! проговорил Петька с угрожающим жестом. «Ну, ну, рассказывай! Ну!» Когда не покорился ему Александр, т. е. объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон с 12 языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, – все замерли от волнения.
Немец, мой товарищ, стоял в комнате. – «А, и вы на нас!» сказал ему Петька (лучший рассказчик). «Ну, молчи!» закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей, так что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? и ругали Кутузова и Барклая. «Плох твой Кутузов». – «Ты погоди», говорил другой. – «Да что жь он сдался?» спрашивал третий. Когда пришла Бородинская битва, и когда в конце ее я должен был сказать, что мы всё-таки не победили, мне жалко было их: видно было, что я страшный удар наношу всем. «Хоть не наша, да и не ихняя взяла!» Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, – всё загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество – отступление. – «Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить», сказал я. – «Окарячил его!» поправил меня. Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его привычка. Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, и никто не замечал. – «Так-то лучше! Вот-те и ключи», и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали Француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упустили его, Петька, даже крякнул: «Я б его расстрелял, сукина сына, зачем он опоздал!» – Потом немножко мы пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу и Немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. – «А, вы, так-то? то на нас, а как сила не берет, так с нами?», и вдруг все поднялись и начали ухать на Немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали. Только воспоминанье Крымской войны испортило нам всё дело. «Погоди же ты, – проговорил Петька, потрясая кулаками: – дай я выросту, я же им задам!» Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили.
Ужь было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это. время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горели. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня. «Как ты сюда залез?» «Он с самого начала», сказал кто-то. Нечего было и спрашивать – понял ли он, видно было по лицу. «Что, ты расскажешь?» спросил я. «Я-то? – он подумал: – всю расскажу». – «Я дома расскажу. – И я тоже. – И я». – «Больше не будет?» – Нет. – И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать Французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил.
«Sie haben ganz Russisch erz?hlt» (вы совершенно по-русски рассказывали, сказал мне вечером Немец, на которого ухали. – Вы бы послушали, как у нас совершенно иначе рассказывают эту историю. Вы ничего не сказали о немецких битвах за свободу. «Sie haben nichts gesagt von den deutschen Freiheitsk?mpfen».
Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ – не была история, а сказка, возбуждающая народное чувство.
Стало быть, как преподавание истории, и эта попытка была неудачна еще более, чем первые.
По преподаванию географии я делал то же самое. Прежде всего я начал с физической географии. – Помню первый урок. Я начал его и тотчас же сбился. Оказалось то, чего я совершенно не предполагал, именно, я не знал того, что я желал, чтобы узнали 10-летние крестьянские дети. Я умел объяснить день и ночь, но в объяснении зимы и лета сбился. Устыдившись своего невежества, я повторил и потом спрашивал многих из моих знакомых, образованных людей, и никто, кроме недавно вышедших из школы или учителей, не умел мне без глобуса рассказать хорошенько. Я прошу всех читающих проверить это замечание. Я утверждаю, что из 100 людей один знает это, а все дети учатся. Протвердивши хорошенько, я снова принялся за объяснение и с помощью свечки и глобуса объяснил, как мне показалось, отлично. Меня слушали с большим вниманием и интересом. (Особенно интересно им было знать то, во что не верят их отцы, и по возможности похвастаться своею мудростью.)
В конце моего объяснения о зиме и лете скептик Сёмка, самый понятливый из всех, остановил меня вопросом: как же земля ходит, а изба наша всё на том же месте стоит? и она бы должна была с места сойдти! Я увидал, что я от самого умного на 1000 верст ушел вперед в своем объяснении, – что? же должны были понять самые непонятливые?..
Я воротился назад, – толковал, рисовал, приводил все доказательства круглости земли: путешествия вокруг света, показыванье мачты корабля прежде палубы и др., и, утешая себя мыслию, что теперь-то поняли, я заставил их написать урок. Все написали: «Земля как шар – первая доказательства.... другая доказательства», и забыли третью доказательству и спрашивали у меня. Видно было, что главное дело для них – помнить доказательства. Не раз и не десять раз, а сотни раз возвращался я к этим объяснениям и всегда безуспешно. На экзамене все ученики ответили бы и теперь ответят удовлетворительно; но я чувствую, что они не понимают, и вспоминая, что и сам я хорошенько не понимал дела до 30 лет, я извинил им это непонимание. Как я в детстве, так и они теперь верили на слово, что земля кругла и т. д., и ничего не понимали. Мне еще легче было понять, – мне нянька в первом детстве внушила, что на конце света небо с землею сходятся, и там бабы на краю земли в море белье моют, а на небо скалки кладут. Наши ученики давно утвердились и теперь постоянно остаются в понятиях, совершенно противных тем, которые мне хочется передать им. Надо долго еще разрушать те объяснения, которые они имеют, и то воззрение на мир, которое ничем еще не нарушалось, прежде чем они поймут. Законы физики, механики – первые основательно разрушат эти старые воззрения. А они, как и я, как и все, прежде физики начали физическую географию.
В преподавании географии, как и во всех других предметах, самая обыкновенная, грубая и вредная ошибка – поспешность. Точно мы так обрадовались, что знаем, что будто земля кругла и ходит вокруг солнца, что спешим как можно скорее передать это ученику. А не то дорого знать, что земля круглая, а дорого знать, как дошли до этого. Очень часто детям рассказывают, что солнце от земли на столько-то бильонов верст, а это ребенку вовсе не удивительно и не интересно. Ему интересно знать, как дошли до этого. Кто хочет говорить об этом, лучше пусть расскажет о параллаксах. Это очень возможно. Я за тем остановился долго на круглоте земли, что т?, что сказано о ней, относится ко всей географии. Из тысячи образованных людей, кроме учителей и учеников, один знает хорошенько, отчего зима и лето, и знает, где Гваделупа, из тысячи детей ни один в детстве не понимает объяснений круглоты земли и ни один не верит в действительное существование Гваделупы, а всех продолжают обучать с самого детства как тому, так и другому.
После физической географии я начал части света с характеристиками, и ничего из этого не осталось, как то, что когда спросишь, наперерыв кричат: – Азия, Африка, Австралия! – а спросишь вдруг: в какой части света Франция? (когда за минуту перед тем сказал, что в Европе Англия, Франция), закричит кто-нибудь, что Франция в Африке. Вопрос: зачем? так и видится в каждом потухшем взгляде, в каждом звуке голоса, когда начнешь географию, – и нет ответа на этот печальный вопрос: зачем?
Как в истории обыкновенная мысль начинать с конца, так и в географии явилась и стала обыкновенной мысль начинать со школьной комнаты, со своей деревни. Я видел эти опыты в Германии и сам, обезнадеженный неудачею обыкновенной географии, принялся за описание комнаты, дома, деревни. Как рисование планов, такие упражнения не лишены пользы, но знать, какая земля за нашею деревней, не интересно, потому что все они знают, что там Телятинки. А знать, что? за Телятинками, – не интересно, потому что там такая же, верно, деревня, как Телятинки, а Телятинки с своими полями совсем не интересны. Пробовал я им ставить географические вехи, как Москва, Киев, но всё это укладывалось в их головах так бессвязно, что они учили наизусть. Пробовал я рисовать карты, и это занимало их и, действительно, помогало памяти, но опять являлся вопрос: зачем помогать памяти? Пробовал я еще рассказывать о полярных и экваториальных странах; они слушали с удовольствием и рассказывали, но запоминали в этих рассказах всё, кроме того, что было в них географического. Главное то, что рисованье планов деревни было рисованье планов, а не география; рисованье карт было рисованье карт, а не география; рассказы о зверях, лесах, львах и городах были сказки, а не география. География была только ученье наизусть. Из всех новых книжек – Грубе, Биернадский – ни одна не была интересна. Одна, забытая всеми книжечка, похожая на географию, читалась лучше других и, по моему мнению, есть лучший образец того, что? должно делать для того, чтобы приготовить детей к изучению географии, возбудить в них географический интерес. Книжка эта – Парлей, русский перевод 1837 года. – Книжка эта читается, но больше служит путеводною нитью для учителя, который по ней рассказывает, что? знает о каждой земле и городе. Дети рассказывают, но удерживают редко какое-нибудь название и место на карте, относящееся к описываемому событию, – остаются большею частью одни события. Класс этот, впрочем, относится к разряду бесед, о которых мы будем говорить в своем месте. В последнее время однако, несмотря на все искусство, с которым замаскировано в этой книжке заучиванье ненужных имен, несмотря на всю осторожность, с которою мы обращались с нею, дети пронюхали, что их только заманивают историйками, и получили решительное отвращение от этого класса.
Я пришел, наконец, к убеждению, что относительно истории не только нет необходимости знать скучную русскую историю, но Кир, Александр Македонский, Кесарь и Лютер также не. нужны для развития какого бы то ни было ребенка. Все эти лица и события интересны для учащегося не по мере их значения в истории, а по мере художественности склада их деятельности, по мере художественности обработки ее историком, и большею частью не историком, а народным преданием.
История Ромула и Рема интересна не потому, что эти братья основали могущественнейшее государство в мире, а потому, что забавно, чудно и красиво, как их кормила волчица и т. п. История Гракхов интересна потому, что художественна, так же, как история Григория VII и униженного императора, и есть возможность заинтересовать ею; но история переселения народов будет скучна и бесцельна, потому что содержание ее не художественно, точно так же и история изобретения книгопечатания, как бы ни старались мы внушить ученику, что это есть период в истории и что Гуттенберг великий человек. Расскажите хорошо, как выдуманы зажигательные спички, и ученик никогда не согласится, чтоб изобретатель зажигательных спичек был менее великий человек, чем Гуттенберг. Коротко говоря, для ребенка, вообще для учащегося и не начинавшего жить, интереса исторического, т. е. не говоря уже об общечеловеческом, не существует. Есть только интерес художественный. Говорят, с разработкою материалов возможно будет художественное изложение всех периодов истории, – я этого не вижу. Маколея и Тьери точно так же мало можно дать в руки, как Тацита или Ксенофонта. Для того чтобы сделать историю популярною, нужно не внешность художественную, а нужно олицетворять исторические явления, как это делает иногда предание, иногда сама жизнь, иногда великие мыслители и художники. Детям нравится история только тогда, когда содержание ее художественно. Интереса исторического для них нет и быть не может, следовательно нет и не может быть детской истории. История служит только иногда материалом художественного развития, а пока не развит исторический интерес, не может быть истории. Берте, Кайданов всё-таки остаются единственными руководствами. Старый анекдот – история Мидян темна и баснословна. Больше ничего: нельзя сделать из истории для детей, не понимающих исторического интереса. Противоположные попытки сделать историю и географию художественными и интересными, биографические очерки Грубе, Биернадский – не удовлетворяют ни художественному, ни историческому требованию, не удовлетворяют ни последовательности, ни историческому интересу и вместе с тем разрастаются своими подробностями до невозможных размеров.
То же самое и в географии. Когда Митрофанушку убеждали учиться географии, то его матушка сказала: зачем учить все земли? кучер довезет, куда будет нужно. Сильнее никогда ничего не было сказано против географии, и все ученые мира не в состоянии, ничего ответить против такого несокрушимого довода. Я говорю совершенно серьезно. Для. чего мне было знать положение реки и города Барцелоны, когда, проживя 33 года, мне ни разу не понадобилось это знание? К развитию же моих духовных сил самое живописное описание Барцелоны и ее жителей, сколько я могу предполагать, не могло содействовать. Для чего Сёмке и Федьке знать Мариинский канал и. водяное сообщение, ежели они, как надо предполагать, никогда туда не попадут? Ежели же придется Сёмке поехать туда, то всё равно, учил он это или не учил, он узнает, и хорошо узнает это водяное сообщение на практике. Для развития же его душевных сил, каким образом будет содействовать знание того, что пенька идет вниз, а деготь вверх по Волге, что есть пристань Дубовка и что такой-то подземный пласт идет до такого-то места, а самоеды ездят на оленях и т. п., – я не могу себе этого представить. У меня есть целый мир знаний математических, естественных, языка и поэзии, передать которые у меня недостает времени, есть бесчисленное количество вопросов из явлений окружающей меня жизни, на которые ученик требует ответа и на которые мне нужно прежде ответить, чем рисовать ему картины полярных льдов, тропических стран, гор Австралии и рек Америки. В истории и географии опыт говорит одно и то же и везде подтверждает наши мысли. Везде преподавание географии и истории идет дурно; в виду экзаменов учатся наизусть горы, города и реки, цари и короли; единственно-возможными учебниками остаются Арсеньев и Ободовский, Кайданов, Смарагдов и Берте, и везде жалуются на преподавание этих предметов, ищут чего-то нового и не находят. Забавно то, что всеми признана несообразность требования географии с духом учеников всего мира, и вследствие того выдумывают тысячи остроумных средств (как метода Сидова), как бы заставить детей запомнить слова; самая же простая мысль, что совсем не нужно этой географии, не нужно знать эти слова, никак никому не приходит в голову. Все попытки соединить географию с геологией, зоологией, ботаникой, этнографией и еще не знаю с чем, историю с биографиями – остаются пустыми мечтами, порождающими дурные книжонки в роде: Грубе, негодящиеся ни для детей, ни для юношей, ни для учителей, ни для публики вообще. В самом деле, ежели бы составители таких мнимо-новых руководств к географии и истории подумали о том, чего они хотят, и попробовали сами приложить книжки эти к преподаванию, они бы убедились в невозможности предпринимаемого. Во-первых, география в соединении с естественными науками и этнографией составила бы громаднейшую науку, для изучения которой недостаточно было бы жизни человеческой, и науку еще менее детскую и более сухую, чем одна география. Во-вторых, для составления такого руководства едва ли чрез тысячи лет найдутся достаточные материалы. Уча географии в Крапивенском уезде, я принужден буду дать ученикам подробные сведения о флоре, фауне, геологическом строении земли на северном полюсе и подробности о жителях и торговле Баварского королевства, потому что буду иметь материалы для этих сведений, и почти ничего не буду в состоянии сказать о Белевском и Ефремовском уездах, потому что не буду иметь для того никаких материалов. А дети и здравый смысл требуют от меня известной гармоничности и правильности в преподавании. Остается одно – учить наизусть по географии Ободовского или вовсе не учить. Точно так же, как для истории должен быть возбужден исторический интерес, для изучения географии должен быть возбужден географический интерес. Географический же интерес, по моим наблюдениям и опыту, возбуждается или знаниями естественных наук, или путешествиями, преимущественно, из 100 случаев 99 – путешествиями. Как чтение газет и преимущественно биографий, сочувствие политической жизни своего отечества – для истории, так путешествия для географии большей частью служат первым шагом к изучению науки. Как то, так и другое стало чрезвычайно доступно каждому и легко в наше время, и потому тем менее мы должны бояться отречения от старого суеверия преподавания истории и географии. Сама жизнь так поучительна в наше время в этом отношении, что ежели бы действительно географические и исторические знания были так необходимы для общего развития, как нам кажется, то жизнь всегда пополнит этот недостаток.
И, право, если отрешиться от старого суеверия, совсем не страшно подумать, что вырастут люди, совсем не уча в детстве того, что был Ярослав, был Оттон и что есть Эстрамадура и т. п. Ведь перестали учить астрологию, перестали учить риторику, пиитику, перестают учить по-латыни, и род человеческий не глупеет. Рождаются новые науки, в наше время начинают популяризоваться естественные науки, надо отпадать, отживать старым наукам, не наукам, а граням наук, которые с нарождением новых наук становятся несостоятельными.
Возбудить интерес, знать про то, как живет, жило, слагалось и развивалось человечество в различных государствах, интерес к познанию тех законов, которыми вечно двигается человечество, возбудить, с другой стороны, интерес к уразумению законов явлений природы на всем земном шаре и распределения по нем рода человеческого – это другое дело. Может быть, возбуждение такого интереса и полезно, но к достижению этой цели не поведут ни Сегюры, ни Тьерри, ни Ободовские, ни Грубе. Я знаю для этого два элемента: художественное чувство поэзии и патриотизм. Для того чтобы развить и то, и другое, еще нет учебников; а пока их нет, нам надо искать, а не тратить даром время и силы и уродовать молодое поколение, заставляя его учить историю и географию только потому, что нас учили истории и географии. До университета я не только не вижу никакой необходимости, я вижу большой вред в преподавании истории и географии. Дальше я не знаю.
ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ. (Продолжение)
Рисование и пение. В отчете за ноябрь и декабрь месяцы Яснополянской школы предстоят мне теперь два предмета, имеющие от всех других совершенно отличный характер, – это рисование и пение – искусства.
Не будь у меня взгляда, состоящего в том, что я не знаю, чему и почему нужно учить тому или другому, я должен был бы спросить у самого себя: полезно ли будет для крестьянских детей, поставленных в необходимость проживать всю жизнь в заботах о насущном хлебе, полезно ли будет для них и к чему им искусства?
/
на этот вопрос ответят и отвечают отрицательно. И нельзя ответить иначе. Как скоро поставлен такой вопрос, здравый смысл требует такого ответа: ему не быть художником, ему надо пахать. Если у него будут художнические потребности, он не в силах будет нести ту упорную, безустальную работу, которую ему надобно нести, которую ежели бы он не нес, немыслимо бы было существование государства. Говоря он, я разумею дитя народа. Действительно, это бессмыслица, но я радуюсь этой бессмыслице, не останавливаюсь перед нею, а стараюсь найти причины ее. – Есть другая более сильная бессмыслица. Это самое дитя народа, каждое дитя народа имеет точно такие же права – что? я говорю – еще бо?льшие права на наслаждения искусством, чем мы, дети счастливого сословия, не поставленные в необходимость того безустального труда, окруженные всеми удобствами жизни.
Лишить его права наслаждения искусством, лишить меня, учителя, права ввести его в ту область лучших наслаждений, в которую всеми силами души просится всё его существо, – еще бо?льшая бессмыслица. Как примирить эти две бессмыслицы? Это не лиризм, в чем упрекали меня по случаю описания прогулки в I №, – это только логика. Всякое примирение невозможно и есть только самообманывание. Скажут и говорят: ежели ужь нужно рисование в народной школе, то можно допустить только рисование с натуры, техническое, приложимое к жизни: рисование сохи, машины, постройки, – рисование только как вспомогательное искусство для черчения. Такой обыкновенный взгляд на рисование разделяет и учитель Яснополянской школы, отчет которого мы представляем. Но именно опыт такого преподавания рисования убедил нас в ложности и несправедливости этой технической программы. Большинство учеников, после 4-х месяцев осторожного, исключительно технического рисования, в котором исключено было всякое срисовывание людей, животных, пейзажей, кончило тем, что значительно охладело к рисованию технических предметов и до такой степени развило в себе чувство и потребность к рисованию, как искусству, что завело свои потаенные тетрадки, в которых рисует людей, лошадей со всеми четырьмя ногами, выходящими из одного места.
То же самое в музыке. Обыкновенная программа народных школ не допускает пения далее хорового, церковного, и точно так же или это есть самое скучное, мучительное для детей заучиванье – производить известные звуки, т. е. что дети делаются и рассматриваются как горла, заменяющие трубочки органа, или развивается чувство изящного, находящее удовлетворение в балалайке, гармонике и часто безобразной песне, которых не признает педагог, и в которых не считает уже нужным руководить учеников. Одно из двух: или искусства вообще вредны и не нужны, что совсем не так странно, как кажется с первого взгляда, или каждый, без различия сословий и занятий, имеет на него право и право вполне отдаться ему на том основании, что искусство не терпит посредственности.
Бессмыслица не в том, бессмыслица в самом постановлении такого вопроса, как вопрос: имеют ли дети народа право на искусства? Спросить это – точно то же, что спросить: имеют ли право дети народа есть говядину, т. е. имеют ли право удовлетворять свою человеческую потребность? Вопрос не в том, хороша ли та говядина, которую мы предлагаем и которую мы запрещаем народу. Точно также, как, предлагая народу известные знания, в нашей власти находящиеся, и замечая дурное влияние, производимое ими на него, я заключаю не то, что народ дурен, оттого что не принимает этих знаний, не то, что народ не дорос до того, чтобы воспринять и пользоваться этими знаниями так же, как и мы, но то, что знания эти нехороши, ненормальны, и что нам надо с помощью народа выработать новые, соответственные всем нам, и обществу и народу, знания. Я заключаю только, что знания эти и искусства живут среди нас и кажутся не вредными нам, но не могут жить среди народа и кажутся вредными для него только потому, что эти знания и искусства не те, которые нужны вообще, а что мы живем среди них потому только, что мы испорчены, потому только, что безвредно сидящие пять часов в зараженном воздухе фабрики или трактира не страдают от того самого воздуха, который убивает вновь пришедшего свежего человека.
Скажут: кто сказал, что знания и искусства нашего образованного сословия ложны? почему из того, что народ не воспринимает их, вы заключаете о их ложности? Все вопросы разрешаются весьма просто: потому что нас тысячи, а их миллионы.