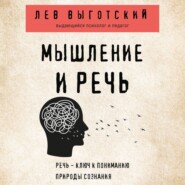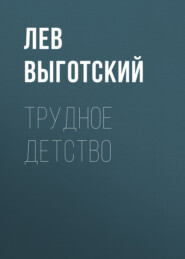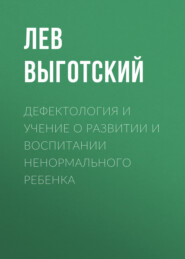По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Психология искусства
Год написания книги
1965
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Психология искусства
Лев Семенович Выготский (Выгодский)
Искусство и действительность
«Психология искусства» – фундаментальный труд Льва Выготского, оказавший влияние на множество научных дисциплин в XX веке. На заре становления советской психологии Выготский выпускает этот труд, предлагая читателю самостоятельно расставить акценты в названии; книгу можно изучать как психологию [b]искусства[/b], а можно как [b]психологию [/b]искусства. И оба подхода позволят читателю раскрыть для себя уникальный взгляд на природу человека и его окружения. Лев Выготский подходит к произведению искусства как психолог, а к психологическим феноменам – как изощренный знаток эстетики, что дает революционный с методологической точки зрения синтез, уникальность которого восхищает читателей до сих пор.
Издание сопровождается вступительной статьей доктора фил. наук Александра Маркова.
Лев Выготский
Психология искусства
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», издание, 2017
© Лев Выготский, наследники, 1965 © ООО «Левъ», 2012
© Марков А. В., вступительная статья, 2017
Александр Марков
В поисках характеров для будущего: психология искусства Л. С. Выготского
Книга Л. С. Выготского «Психология искусства» – если не самая изучаемая, то подробнее всего толкуемая в мире русская научная книга ХХ века. Когда Выготский писал этот труд, в лаборатории, там же ночуя с женой и маленьким ребенком и готовя скудную еду, перебирая многочисленные записи и планируя новые эксперименты, он вряд ли предвидел всемирную славу книге. Он просто воевал на несколько фронтов, думая о том, что будущее для психологии откроется лишь тогда, когда последний бастион заблуждения падет.
Да, Выготскому были чужды любые заблуждения: и авангардная предвзятость, и загнавший себя в угол консерватизм, и эпигонский романтизм в психологии, и недоверчивость. Настоящая наука для него находилась по ту сторону доверчивости и недоверчивости: доверчивость слишком суетлива, а недоверчивость – косна. Война на несколько фронтов, полемический задор, критика «субъективизма» и «объективизма» одновременно – всё это было нормой в русской теории 1920-х годов. Но особенность Выготского не в том, что он не выносил даже толики готовых заблуждений, но в том, что никогда эта война не была для него путем к триумфу, выигрышной ставкой. Напротив, он учил вниманию к изменчивости смыслов: то, что сейчас может представляться нелепым, окажется самым важным завтра.
Лев Семенович Выготский (1896–1934) мог бы стать героем большого романа, если бы этот жанр сохранялся в нашем ХХ веке (советские эпопеи – не большой, а только огромный роман). Выходец из состоятельной еврейской семьи (Лев Симхович Выгодский по рождению), как Варбург или Беньямин, или как джойсовский газетчик Блум или прустовский искусствовед Сван, вундеркинд, полиглот, пытавшийся изучать медицину, юриспруденцию и философию одновременно и в конце концов нашедший себя в экспериментальной психологии. Путь странника по культурным мирам, путь ответственного и целеустремленного паломника по душам людей, путь ученого, перерабатывающего в стройную науку любое работающее на благо людей знание. Начал Выготский с почти филологического исследования о характере Гамлета, после вылившееся в одну из глав «Психологии искусства».
Гамлет стоял в центре внимания русских мыслителей начала века: отчасти благодаря популярности книги Г. Брандеса о Шекспире, в которой Гамлет был понят как первый сверхчеловек в смысле Ницше, отчасти из-за попыток увидеть Гамлета в русской культуре. Русская культура, пестующая нежность, но предпочитающая скорые решения, казалась скрыто «гамлетовской». О Гамлете писал Лев Шестов, увидевший в нем героя, разочаровавшегося в преимуществах разума: разум всегда требует идти на компромиссы, считаться с готовыми формулами, тогда как Гамлет разочарован в таком обыденном понимании вещей. О Гамлете рассуждал молодой Павел Флоренский, прозрев за страданиями Гамлета религиозную задачу – освободить поступки от влияния готового характера, от готовых привычек и подчинить их созерцанию бесконечно значимой цели. Хотя Гамлету и не удается стать созерцателем, его миссия срывается, и месть оказывается сильнее справедливости, – Гамлет, согласно Флоренскому, открыл христианское понимание трагической страсти как тоски по бесконечному, по той неопределенности, которая только и сможет наполнить человеческий быт настоящей нравственной глубиной, ибо нравственность – область не готовых правил, но прозрения совести.
Трактовка Выготского превосходит проницательностью и трактовку Шестова, и трактовку Флоренского – обе трактовки выглядят после него слишком романтичными. Согласно Выготскому, Гамлет с ужасом открыл в себе область неподлинности. Обычно литературные герои открывают в себе то, что начинают считать подлинным: свой характер, свои мысли, свои планы на будущее. Гамлет явил в себе то, что не подчиняется никаким заранее данным замыслам, что при всем желании не сможет стать для него щитом характера и мечом мысли. Смерть отца обернулась в нем провалом в самосознании: если возможно небытие отца, то возможно и мое небытие, и я не могу извлечь себя из небытия только усилием своей мысли, но должен выступить из небытия.
Искусство, как умение работать над собой, умение сочинить себя – это и есть выступание Гамлета из небытия, встреча каждого из нас с собственной свободой, с собственной решительностью, уже выступившей из небытия и требующей дальнейших правильных и выверенных шагов. «И Гамлет, мысливший пугливыми шагами», как потом сказал великий поэт. Гамлет просто слишком резко выступил из небытия, как принц, не как человек, с королевским размахом, но это не делает его ницшеанским сверхчеловеком. Скорее Гамлет, как каждый из нас, узнал, каким он может быть в эпоху, когда не только счастливое, но даже непостыдное существование кажется невозможным. Он узнал, что он может быть, потому что он может поставить себя на место себя возможного.
Молодой Выготский занимался переподготовкой учителей, работал на нескольких работах в Гомеле, был заядлым театралом и писал рецензии на все местные спектакли. Таких людей в поколении было много: скажем, филолог Лев Пумпянский, научный сотрудник нескольких библиотек одновременно, преподаватель нескольких учебных заведений и плодовитый и убежденный теоретик литературы, работал также не смыкая глаз.
В Москву из Гомеля Выготский перебрался случайно благодаря активному участию в научных дискуссиях: он оказался в гуще послереволюционных споров о судьбе культуры и предложил свою концепцию психического развития, ответившую на вопрос: как можно изучать культуру с помощью экспериментальной психологии?! – видя в развитии культуры продолжение решительного выбора, который делает человек на каждом этапе своего взросления. Как и многие люди его поколения, при слабом здоровье и слабых силах, Выготский сделал невероятно много, он мог мыслить и писать днями и ночами. Как и все люди старого образования, старой интеллектуальной закалки, он приучен был сдавать экзамен самой жизни, и сдавал его, овладевая множеством концепций и научных языков советской России 1920-х годов и творчески их преобразовывая. При своей работоспособности он бы создал целые институты, но свертывание НЭПа стало и свертыванием институтов, и Выготский реализовался только как гениальный писатель.
Книгу «Психология искусства» Выготский писал быстро, между экспериментами, преподаванием и работой в Наркомпроссе. Советская власть отменила ученые степени, но для серьезной лабораторной работы нужно было подтвердить звание научного сотрудника, и потому Выготский стремительно создал эту диссертацию, получившую столь же стремительное научное признание. В 1925 году он подписал издательский договор, но книга не вышла, только в 1965 г. появилось первое издание. На Западе внимание к СССР как к технологической альтернативе капитализма тогда выросло – труды Выготского, включая «Психологию искусства», заметили.
В западной психологии перевод трудов Выготского произвел интеллектуальную революцию. Оказалось, что психологию не нужно противопоставлять истории или не нужно считать, что исторические привычки людей создают лишь проблемы для психолога. Напротив, история – продолжение человеческого существования: когда человек осваивает окружающий мир, находит себе друзей и собеседников, то он и создает свои исторические миры, в которых можно жить. Не нужда и страх создают цивилизацию, но необходимость повзрослеть, поумнеть, осмотреться. Никто из психологов, как Выготский, не умел так легко переходить от вроде бы бытовых суждений о юности и зрелости к переживанию истории как открытой перспективы самореализации. И Выготский научил этому весь мир.
Но так же точно оказалось, что искусство – вовсе не сублимация подавленных желаний, не утешение, не украшение жизни, не указание на смутный идеал. Выготский последовательно оспаривает все эти тезисы и утверждает, что столь разные подходы к искусству роднит общая ошибка: искусство понимается как область простого планирования, область, в которой мысли и чувства превращаются во вдохновляющие задачи. Но тогда, считает Выготский, искусство ничем не будет отличаться от научных и философских идей, идеала или мечты.
Выготский настаивает на том, что искусство – это всегда соединение и борьба двух противоположных планов. Скажем, есть чувство любви и есть жанр романа. Если мы будем считать, что роман – это просто реализация чувства любви, мы получим бульварный роман. Если мы будем чувство любви сводить к жанровым схемам романа, как говорят «роман» про жизненную историю, то у нас на поруках останется лишь ряд разрозненных образов, которым мы тщетно будем подражать, не достигнув никакого душевного удовлетворения. Мы будем пытаться стать похожи и на себя, и на других, но не преуспеем. Требование различать два разных плана в искусстве и поразило западных читателей Выготского, привыкших либо к неудовлетворенности искусством, будто слишком далеким от жизни, либо к идеализации отдельных сюжетов, превращающей искусство в совокупность деклараций.
Смысл книги «Психология искусства» прост – нельзя сводить психологию искусства ни к психологии художника (потому что тогда мы останемся с частными определениями искусства), ни к психологии восприятия (потому что тогда мы не отличим искусства от не-искусства). Выготский в первых главах книги критикует многих великих ученых и прошлого, и настоящего. Он критикует концепцию образа А. А. Потебни – если мы будем считать искусство продолжением общечеловеческой фантазии, то оно нас не сможет изменить, разве что научит различать фантазии разной глубины. Он критикует учение формалиста В. Б. Шкловского об «искусстве как приеме», указывая, что видеть в искусстве только хитрый механизм обновления психических реакций – значит, отучить себя от дисциплины работы с собственными реакциями, тогда как без такой дисциплины невозможна ни психология, ни психотерапия. Он критикует психоанализ З. Фрейда за то, что психоанализ сводит человеческое существование к ситуациям уже разыгранным, которые надо переиграть; но мы ничего не сможем переиграть, пока не научимся правильно относиться к игре, к нашей включенности или не включенности в игру.
Эта мысль Выготского о том, что отношение к ситуации важнее самой ситуации, что ситуация конструируется, исходя из готового опыта, тогда как отношение реализует самое человеческое в человеке, зерно всех его рассуждений об искусстве. Искусство не учит нас действовать, но учит нас относиться к действию, не учит нас воспроизводить действительность, но учит нас относиться правильно к самому этому воспроизведению действительности. Иначе говоря, искусство у Выготского не сводится ни к порядку отраженного бытия, ни к порядку методического познания, но выглядит как радикальная критика обоих порядков. Искусство позволяет нам просто увидеть, насколько скуден наш прежний опыт бытия и насколько неаккуратен прежний опыт познания, и тем самым искусство, по Выготскому, расчищает место для настоящей науки, строгой в своих основаниях и выводах.
Такую науку Пушкин назвал в одном из стихотворений наукой «чтить самого себя», но Выготский уточнил бы – чтить и других тоже. И примеры такого почтения к другим он находит в столь разных жанрах, как трагедия и басня.
Басни Крылова всегда были камнем преткновения для критиков. Слишком силен был разрыв между моральной задачей басни и яркими характерами крыловских персонажей. Если басни Крылова считались детскими, то лишь потому, что в них, как в сказках, действовали животные с понятными детям свойствами; но установить сразу правых и виноватых трудно, потому что правда и неправда выясняются не при оценке героев, а внутри действия, и пока действие не завершено, мы не можем назвать правых и виноватых. Но то же самое происходит и в трагедии: мы не можем говорить заранее о вине трагического героя, даже если он не очень хороший человек, потому что тогда превратим трагедию в поучительный рассказ или мелодраму. В трагедии тоже есть разрыв – между мыслью героя о себе и развязкой, логикой катарсиса, который не просто дает удовлетворение зрителям, но показывает, что настоящая мысль героя о самом себе может состояться только в вечности, а не сейчас.
И в трагедии, и в басне происходит столкновение двух планов: в басне это план морального знания и план предсказуемости характера, а в трагедии – план героического переживания и план общезначимости события. Беда старой эстетики и теории искусства была в том, что в ней трагедия оказывалась слишком похожа на басню, а басня – на трагедию. Выготский требует не сводить литературу к какой-то одной метафоре живописности или выразительности, как мы говорим, не задумываясь, о «художественности» любого текста, где есть вымысел. Лучше, скажем, басню сопоставить со строгим рисунком, а трагедию – с масштабной скульптурой, руководствуясь не сюжетами (что рисуют, а что лепят), а тем, какие именно планы сталкиваются.
Рассказ Бунина «Легкое дыхание», проанализированный Выготским, тоже мог бы вызвать недоумение: почему довольно неприглядная история оставляет в нашей памяти ощущение легкого события, неотменимого счастья жизни, хотя вроде бы люди все сделали для того, чтобы жизнь себя не чувствовала такой свободной? Выготский отвечает на этот вопрос довольно просто: есть аффекты невольные, а есть аффекты желанные. План действительности чем дальше, тем больше запутывает нас в нежеланных аффектах, тогда как план художественного высказывания показывает нам, что всякому желанию есть свое место и свое время. Чем серьезнее мы воспринимаем искусство, тем лучше мы понимаем, когда желанный аффект оказывается не просто уместным, но единственно возможным для того, чтобы можно было продолжать повествование. Тогда только нас и может охватить ощущение беспримесного счастья: пусть жизнь тяжела и безобразна, пусть счастье в жизни приходит на миг, но мы уже знаем, для чего жить и что ответить тем, кто подменил жизнь своими нежеланными желаниями.
Позднее Выготский стал одновременно профессором в Москве, Ленинграде и Ташкенте, да еще и создавал академическую психологию в Харькове. Его итоговая книга «Мышление и речь» раскрывает самые драматические ситуации, когда речь не успевает за мышлением (когда торжествует внутреннее сознание) или мышление за речью (когда поэзия речи опережает нашу мысль). В этой книге как раз раскрывается, как можно работать с внутренним опытом, не упуская из виду тот опыт освоения мира речью, который уже стал достоянием всего человечества. Иногда советская наука впадала в этом вопросе в крайности: так, языковед Николай Марр предположил, что язык голоса возникает из языка жестов, в котором смыслы, мифы и позы тела едины, и что в языке тогда значения важнее правил их соединения. Но для Выготского важны и правила соединения суждений, потому что только они и делают обычные ситуации не только тем, с чем мы уже столкнулись, но и тем, с чем еще столкнемся в будущем и к чему нужно научиться относиться по-взрослому и искусно.
В последние годы жизни Выготский развивал собственную теорию сознания. Для него главным свойством сознания стало умение схватывать динамические, меняющиеся значения. Статичные, неизменные значения может познать и природа, и животное, и механизм, но только человеческое сознание способно увидеть, как смысл не только отражает предмет, но и меняет сам предмет на будущее. Предмет приобретает новые функции: он становится и знаком, и высказыванием, и основанием для сотрудничества, и результатом взаимодействия, и концентрированным выражением познания. Предмет – это уже не просто вещь, которую мы сразу знаем, как использовать, или не сразу знаем, но это скорее перекресток наших умственных интересов и основательных социальных практик. Наш ум может быть достаточно критичен, чтобы проверить, насколько практики работы с вещами нужны самим вещам. Но и наш социальный опыт должен стать достаточно основательным, чтобы мы могли говорить о пережитом нашим сознанием как о действительно пережитом.
Завершить предисловие позволю выводами, которые делает наш современник, поэт Ольга Седакова, в выступлении на юбилее Выготского:
«Выготский предлагает идею открытой формы, forma formans, разомкнутой внутрь и в будущее, создающей в человеке другого, нового по отношению к его наличной данности человека: он-то и воспримет, примет ее смысл. Идея возможного, будущего или вечно рождающегося человека как субъекта творчества и его адресата – главная тема анализов Выготского.
В сущности, он предлагает нам оправдание творчества как основной деятельности человеческой психики. В творчестве психика здорова. В художественном творчестве, в работе со свободной жизнью формы, по Выготскому, психика не борется с собственным прошлым (травматическим прошлым, как у Фрейда, сублимируя или маскируя его) – она строит свое будущее, свое постоянное рождение. «Каждая вещь искусства, о чем бы она не говорила, повествует о своем рождении», – заметил Пастернак. Выготский по-своему дополняет эти слова. Автор вещи искусства приводит нас в место своего внутреннего рождения, рождения нового человека, которого в нем не было до этого опыта, человека, создающего эту вещь или создаваемого ею. Зритель, если соучастие его адекватно, переживает в нем собственное рождение, рождение других возможностей, других «глаз».
Лев Выготский
Психология искусства
Того, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил… но, говорят, из одних лишь законов природы, поскольку она рассматривается исключительно как телесная, невозможно было бы вывести причины архитектурных зданий, произведений живописи и тому подобного, что производит одно только человеческое искусство, и тело человеческое не могло бы построить какой-либо храм, если бы оно не определялось и не руководствовалось душою, но я показал уже, что они не знают, к чему способно тело и что можно вынести из одного только рассмотрения его природы…
Бенедикт Спиноза, Этика, ч. III, теорема 2, схолия
Предисловие
Настоящая книга возникла как итог ряда мелких и более или менее крупных работ в области искусства и психологии. Три литературных исследования – о Крылове, о Гамлете и о композиции новеллы – легли в основу многих анализов, как и ряд журнальных статей и заметок[1 - Напечатаны: «Летопись» Горького за 1916–1917 годы о новом театре, о романах Белого, о Мережковском, В. Иванове и других: в «Жизни искусства» за 1922 год; о Шекспире – «Новая жизнь» за 1917 год; об Айхенвальде – «Новый путь» за 1915–1917 годы.]. Здесь в соответствующих главах даны только краткие итоги, очерки, суммарные сводки этих работ, потому что в одной главе дать исчерпывающий анализ Гамлета невозможно, этому надо посвятить отдельную книгу. Искание выхода за шаткие пределы субъективизма одинаково определило судьбы и русского искусствоведения и русской психологии за эти годы. Эта тенденция к объективизму, к материалистически точному естественно-научному знанию в обеих областях создала настоящую книгу.
С одной стороны, искусствоведение все больше и больше начинает нуждаться в психологических обоснованиях. С другой стороны, и психология, стремясь объяснить поведение в целом, не может не тяготеть к сложным проблемам эстетической реакции. Если присоединить сюда тот сдвиг, который сейчас переживают обе науки, тот кризис объективизма, которым они захвачены, – этим будет определена до конца острота нашей темы. В самом деле, сознательно или бессознательно традиционное искусствоведение в основе своей всегда имело психологические предпосылки, но старая популярная психология перестала удовлетворять по двум причинам: во-первых, она была годна еще, чтобы питать всяческий субъективизм в эстетике, но объективные течения нуждаются в объективных предпосылках; во-вторых, идет новая психология и перестраивает фундамент всех старых так называемых «наук о духе». Задачей нашего исследования и был пересмотр традиционной психологии искусства и попытка наметить новую область исследования для объективной психологии – поставить проблему, дать метод и основной психологический объяснительный принцип, и только.
Называя книгу «Психология искусства», автор не хотел этим сказать, что в книге будет дана система вопроса, представлен полный круг проблем и факторов. Наша цель была существенно иная: не систему, а программу, не весь круг вопросов, а центральную его проблему имели мы все время в виду и преследовали как цель.
Мы поэтому оставляем в стороне спор о психологизме в эстетике и о границах, разделяющих эстетику и чистое искусствознание. Вместе с Липпсом мы полагаем, что эстетику можно определить как дисциплину прикладной психологии, однако нигде не ставим этого вопроса в целом, довольствуясь защитой методологической и принципиальной законности психологического рассмотрения искусства наряду со всеми другими, указанием на его существенную важность[2 - Ср.: Евлахов А. М. Введение в философию художественного творчества. Т. 3. Ростов-на-Дону, 1917. Автор заканчивает рассмотрение каждой системы и заканчивает каждую из шести глав своего тома подглавкой-выводом: «Необходимость эстетико-психологических предпосылок».], поисками его места в системе марксистской науки об искусстве. Здесь путеводной нитью служило нам то общеизвестное положение марксизма, что социологическое рассмотрение искусства не отменяет эстетического, а, напротив, настежь открывает перед ним двери и предполагает его, по словам Плеханова, как свое дополнение. Эстетическое же обсуждение искусства, поскольку оно хочет не порывать с марксистской социологией, непременно должно быть обосновано социально-психологически. Можно легко показать, что и те искусствоведы, которые совершенно справедливо отграничивают свою область от эстетики, неизбежно вносят в разработку основных понятий и проблем искусства некритические, произвольные и шаткие психологические аксиомы. Мы разделяем с Утицом его взгляд, что искусство выходит за пределы эстетики и даже имеет принципиально отличные от эстетических ценностей черты, но что оно начинается в эстетической стихии, не растворяясь в ней до конца. И для нас поэтому, ясно, что психология искусства должна иметь отношение и к эстетике, не упуская из виду границ, отделяющих одну область от другой.
Надо сказать, что и в области нового искусствоведения и в области объективной психологии пока еще идет разработка основных понятий, фундаментальных принципов, делаются первые шаги. Вот почему работа, возникающая на скрещении этих двух наук, работа, которая хочет языком объективной психологии говорить об объективных фактах искусства, по необходимости обречена на то, чтобы все время оставаться в преддверии проблемы, не проникая вглубь, не охватывая много вширь.
Мы хотели только развить своеобразие психологической точки зрения на искусство и наметить центральную идею, методы ее разработки и содержание проблемы. Если на пересечении этих трех мыслей возникнет объективная психология искусства, настоящая работа будет тем горчичным зерном, из которого она прорастет.
Центральной идеей психологии искусства мы считаем признание преодоления материала художественной формой или, что то же, признание искусства общественной техникой чувства. Методом исследования этой проблемы мы считаем объективно аналитический метод, исходящий из анализа искусства, чтобы прийти к психологическому синтезу, – метод анализа художественных систем-раздражителей[3 - Сходным методом воссоздает 3. Фрейд психологию остроумия в своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному» (Современные проблемы. М., 1925). Сходный метод положен и в основу исследования проф. Ф. Зелинским ритма художественной речи – от анализа формы к воссозданию безличной психологии этой формы. См.: Зелинский Ф. Ритмика художественной речи и ее психологические основания («Вести психологии», 1906, вып. 2, 4), где дана психологическая сводка результатов.]. Вместе с Геннекеном мы смотрим на художественное произведение как на «совокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции», и пытаемся на основании анализа этих знаков воссоздать соответствующие им эмоции. Но отличие нашего метода от эстопсихологического состоит в том, что мы не интерпретируем эти знаки как проявление душевной организации автора или его читателей. Мы не заключаем от искусства к психологии автора или его читателей, так как знаем, что этого сделать на основании толкования знаков нельзя.
Мы пытаемся изучать чистую и безличную психологию искусства безотносительно к автору и читателю, исследуя только форму и материал искусства. Поясним: по одним басням Крылова мы никогда не восстановим его психологии; психология его читателей была разная – у людей XIX и XX столетия и даже у различных групп, классов, возрастов, лиц. Но мы можем, анализируя басню, вскрыть тот психологический закон, который положен в ее основу, тот механизм, через который она действует, – и это мы называем психологией басни. На деле этот закон и этот механизм нигде не действовали в своем чистом виде, а осложнялись целым рядом явлений и процессов, в состав которых они попадали; но мы так же вправе элиминировать психологию басни от ее конкретного действия, как психолог элиминирует чистую реакцию, сенсорную или моторную, выбора или различения, и изучает как безличную.
Наконец, содержание проблемы мы видим в том, чтобы теоретическая и прикладная психология искусства вскрыла все те механизмы, которые движут искусством, вместе с социологией искусства дала бы базис для всех специальных наук об искусстве.
Задача настоящей работы существенно синтетическая. Мюллер-Фрейенфельс очень верно говорил, что психолог искусства напоминает биолога, который умеет произвести полный анализ живой материи, разложить ее на составные части, но не умеет из этих частей воссоздать целое и открыть законы этого целого. Целый ряд работ занимается таким систематическим анализом психологии искусства, но я не знаю работы, которая бы объективно ставила и решала проблему психологического синтеза искусства. В этом смысле, думается мне, настоящая попытка делает новый шаг и отваживается ввести некоторые новые и никем еще не высказанные мысли в поле научного обсуждения. Это новое, что автор считает принадлежащим ему в книге, конечно, нуждается в проверке и критике, в испытании мыслью и фактами. Все же оно уже и сейчас представляется автору настолько достоверным и зрелым, что он осмеливается высказать это в настоящей книге.
Общей тенденцией этой работы было стремление научной трезвости в психологии искусства, самой спекулятивной и мистически неясной области психологии. Моя мысль слагалась под знаком слов Спинозы, выдвинутых в эпиграфе, и вслед за ним старалась не предаваться удивлению, не смеяться, не плакать – но понимать.
Лев Семенович Выготский (Выгодский)
Искусство и действительность
«Психология искусства» – фундаментальный труд Льва Выготского, оказавший влияние на множество научных дисциплин в XX веке. На заре становления советской психологии Выготский выпускает этот труд, предлагая читателю самостоятельно расставить акценты в названии; книгу можно изучать как психологию [b]искусства[/b], а можно как [b]психологию [/b]искусства. И оба подхода позволят читателю раскрыть для себя уникальный взгляд на природу человека и его окружения. Лев Выготский подходит к произведению искусства как психолог, а к психологическим феноменам – как изощренный знаток эстетики, что дает революционный с методологической точки зрения синтез, уникальность которого восхищает читателей до сих пор.
Издание сопровождается вступительной статьей доктора фил. наук Александра Маркова.
Лев Выготский
Психология искусства
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», издание, 2017
© Лев Выготский, наследники, 1965 © ООО «Левъ», 2012
© Марков А. В., вступительная статья, 2017
Александр Марков
В поисках характеров для будущего: психология искусства Л. С. Выготского
Книга Л. С. Выготского «Психология искусства» – если не самая изучаемая, то подробнее всего толкуемая в мире русская научная книга ХХ века. Когда Выготский писал этот труд, в лаборатории, там же ночуя с женой и маленьким ребенком и готовя скудную еду, перебирая многочисленные записи и планируя новые эксперименты, он вряд ли предвидел всемирную славу книге. Он просто воевал на несколько фронтов, думая о том, что будущее для психологии откроется лишь тогда, когда последний бастион заблуждения падет.
Да, Выготскому были чужды любые заблуждения: и авангардная предвзятость, и загнавший себя в угол консерватизм, и эпигонский романтизм в психологии, и недоверчивость. Настоящая наука для него находилась по ту сторону доверчивости и недоверчивости: доверчивость слишком суетлива, а недоверчивость – косна. Война на несколько фронтов, полемический задор, критика «субъективизма» и «объективизма» одновременно – всё это было нормой в русской теории 1920-х годов. Но особенность Выготского не в том, что он не выносил даже толики готовых заблуждений, но в том, что никогда эта война не была для него путем к триумфу, выигрышной ставкой. Напротив, он учил вниманию к изменчивости смыслов: то, что сейчас может представляться нелепым, окажется самым важным завтра.
Лев Семенович Выготский (1896–1934) мог бы стать героем большого романа, если бы этот жанр сохранялся в нашем ХХ веке (советские эпопеи – не большой, а только огромный роман). Выходец из состоятельной еврейской семьи (Лев Симхович Выгодский по рождению), как Варбург или Беньямин, или как джойсовский газетчик Блум или прустовский искусствовед Сван, вундеркинд, полиглот, пытавшийся изучать медицину, юриспруденцию и философию одновременно и в конце концов нашедший себя в экспериментальной психологии. Путь странника по культурным мирам, путь ответственного и целеустремленного паломника по душам людей, путь ученого, перерабатывающего в стройную науку любое работающее на благо людей знание. Начал Выготский с почти филологического исследования о характере Гамлета, после вылившееся в одну из глав «Психологии искусства».
Гамлет стоял в центре внимания русских мыслителей начала века: отчасти благодаря популярности книги Г. Брандеса о Шекспире, в которой Гамлет был понят как первый сверхчеловек в смысле Ницше, отчасти из-за попыток увидеть Гамлета в русской культуре. Русская культура, пестующая нежность, но предпочитающая скорые решения, казалась скрыто «гамлетовской». О Гамлете писал Лев Шестов, увидевший в нем героя, разочаровавшегося в преимуществах разума: разум всегда требует идти на компромиссы, считаться с готовыми формулами, тогда как Гамлет разочарован в таком обыденном понимании вещей. О Гамлете рассуждал молодой Павел Флоренский, прозрев за страданиями Гамлета религиозную задачу – освободить поступки от влияния готового характера, от готовых привычек и подчинить их созерцанию бесконечно значимой цели. Хотя Гамлету и не удается стать созерцателем, его миссия срывается, и месть оказывается сильнее справедливости, – Гамлет, согласно Флоренскому, открыл христианское понимание трагической страсти как тоски по бесконечному, по той неопределенности, которая только и сможет наполнить человеческий быт настоящей нравственной глубиной, ибо нравственность – область не готовых правил, но прозрения совести.
Трактовка Выготского превосходит проницательностью и трактовку Шестова, и трактовку Флоренского – обе трактовки выглядят после него слишком романтичными. Согласно Выготскому, Гамлет с ужасом открыл в себе область неподлинности. Обычно литературные герои открывают в себе то, что начинают считать подлинным: свой характер, свои мысли, свои планы на будущее. Гамлет явил в себе то, что не подчиняется никаким заранее данным замыслам, что при всем желании не сможет стать для него щитом характера и мечом мысли. Смерть отца обернулась в нем провалом в самосознании: если возможно небытие отца, то возможно и мое небытие, и я не могу извлечь себя из небытия только усилием своей мысли, но должен выступить из небытия.
Искусство, как умение работать над собой, умение сочинить себя – это и есть выступание Гамлета из небытия, встреча каждого из нас с собственной свободой, с собственной решительностью, уже выступившей из небытия и требующей дальнейших правильных и выверенных шагов. «И Гамлет, мысливший пугливыми шагами», как потом сказал великий поэт. Гамлет просто слишком резко выступил из небытия, как принц, не как человек, с королевским размахом, но это не делает его ницшеанским сверхчеловеком. Скорее Гамлет, как каждый из нас, узнал, каким он может быть в эпоху, когда не только счастливое, но даже непостыдное существование кажется невозможным. Он узнал, что он может быть, потому что он может поставить себя на место себя возможного.
Молодой Выготский занимался переподготовкой учителей, работал на нескольких работах в Гомеле, был заядлым театралом и писал рецензии на все местные спектакли. Таких людей в поколении было много: скажем, филолог Лев Пумпянский, научный сотрудник нескольких библиотек одновременно, преподаватель нескольких учебных заведений и плодовитый и убежденный теоретик литературы, работал также не смыкая глаз.
В Москву из Гомеля Выготский перебрался случайно благодаря активному участию в научных дискуссиях: он оказался в гуще послереволюционных споров о судьбе культуры и предложил свою концепцию психического развития, ответившую на вопрос: как можно изучать культуру с помощью экспериментальной психологии?! – видя в развитии культуры продолжение решительного выбора, который делает человек на каждом этапе своего взросления. Как и многие люди его поколения, при слабом здоровье и слабых силах, Выготский сделал невероятно много, он мог мыслить и писать днями и ночами. Как и все люди старого образования, старой интеллектуальной закалки, он приучен был сдавать экзамен самой жизни, и сдавал его, овладевая множеством концепций и научных языков советской России 1920-х годов и творчески их преобразовывая. При своей работоспособности он бы создал целые институты, но свертывание НЭПа стало и свертыванием институтов, и Выготский реализовался только как гениальный писатель.
Книгу «Психология искусства» Выготский писал быстро, между экспериментами, преподаванием и работой в Наркомпроссе. Советская власть отменила ученые степени, но для серьезной лабораторной работы нужно было подтвердить звание научного сотрудника, и потому Выготский стремительно создал эту диссертацию, получившую столь же стремительное научное признание. В 1925 году он подписал издательский договор, но книга не вышла, только в 1965 г. появилось первое издание. На Западе внимание к СССР как к технологической альтернативе капитализма тогда выросло – труды Выготского, включая «Психологию искусства», заметили.
В западной психологии перевод трудов Выготского произвел интеллектуальную революцию. Оказалось, что психологию не нужно противопоставлять истории или не нужно считать, что исторические привычки людей создают лишь проблемы для психолога. Напротив, история – продолжение человеческого существования: когда человек осваивает окружающий мир, находит себе друзей и собеседников, то он и создает свои исторические миры, в которых можно жить. Не нужда и страх создают цивилизацию, но необходимость повзрослеть, поумнеть, осмотреться. Никто из психологов, как Выготский, не умел так легко переходить от вроде бы бытовых суждений о юности и зрелости к переживанию истории как открытой перспективы самореализации. И Выготский научил этому весь мир.
Но так же точно оказалось, что искусство – вовсе не сублимация подавленных желаний, не утешение, не украшение жизни, не указание на смутный идеал. Выготский последовательно оспаривает все эти тезисы и утверждает, что столь разные подходы к искусству роднит общая ошибка: искусство понимается как область простого планирования, область, в которой мысли и чувства превращаются во вдохновляющие задачи. Но тогда, считает Выготский, искусство ничем не будет отличаться от научных и философских идей, идеала или мечты.
Выготский настаивает на том, что искусство – это всегда соединение и борьба двух противоположных планов. Скажем, есть чувство любви и есть жанр романа. Если мы будем считать, что роман – это просто реализация чувства любви, мы получим бульварный роман. Если мы будем чувство любви сводить к жанровым схемам романа, как говорят «роман» про жизненную историю, то у нас на поруках останется лишь ряд разрозненных образов, которым мы тщетно будем подражать, не достигнув никакого душевного удовлетворения. Мы будем пытаться стать похожи и на себя, и на других, но не преуспеем. Требование различать два разных плана в искусстве и поразило западных читателей Выготского, привыкших либо к неудовлетворенности искусством, будто слишком далеким от жизни, либо к идеализации отдельных сюжетов, превращающей искусство в совокупность деклараций.
Смысл книги «Психология искусства» прост – нельзя сводить психологию искусства ни к психологии художника (потому что тогда мы останемся с частными определениями искусства), ни к психологии восприятия (потому что тогда мы не отличим искусства от не-искусства). Выготский в первых главах книги критикует многих великих ученых и прошлого, и настоящего. Он критикует концепцию образа А. А. Потебни – если мы будем считать искусство продолжением общечеловеческой фантазии, то оно нас не сможет изменить, разве что научит различать фантазии разной глубины. Он критикует учение формалиста В. Б. Шкловского об «искусстве как приеме», указывая, что видеть в искусстве только хитрый механизм обновления психических реакций – значит, отучить себя от дисциплины работы с собственными реакциями, тогда как без такой дисциплины невозможна ни психология, ни психотерапия. Он критикует психоанализ З. Фрейда за то, что психоанализ сводит человеческое существование к ситуациям уже разыгранным, которые надо переиграть; но мы ничего не сможем переиграть, пока не научимся правильно относиться к игре, к нашей включенности или не включенности в игру.
Эта мысль Выготского о том, что отношение к ситуации важнее самой ситуации, что ситуация конструируется, исходя из готового опыта, тогда как отношение реализует самое человеческое в человеке, зерно всех его рассуждений об искусстве. Искусство не учит нас действовать, но учит нас относиться к действию, не учит нас воспроизводить действительность, но учит нас относиться правильно к самому этому воспроизведению действительности. Иначе говоря, искусство у Выготского не сводится ни к порядку отраженного бытия, ни к порядку методического познания, но выглядит как радикальная критика обоих порядков. Искусство позволяет нам просто увидеть, насколько скуден наш прежний опыт бытия и насколько неаккуратен прежний опыт познания, и тем самым искусство, по Выготскому, расчищает место для настоящей науки, строгой в своих основаниях и выводах.
Такую науку Пушкин назвал в одном из стихотворений наукой «чтить самого себя», но Выготский уточнил бы – чтить и других тоже. И примеры такого почтения к другим он находит в столь разных жанрах, как трагедия и басня.
Басни Крылова всегда были камнем преткновения для критиков. Слишком силен был разрыв между моральной задачей басни и яркими характерами крыловских персонажей. Если басни Крылова считались детскими, то лишь потому, что в них, как в сказках, действовали животные с понятными детям свойствами; но установить сразу правых и виноватых трудно, потому что правда и неправда выясняются не при оценке героев, а внутри действия, и пока действие не завершено, мы не можем назвать правых и виноватых. Но то же самое происходит и в трагедии: мы не можем говорить заранее о вине трагического героя, даже если он не очень хороший человек, потому что тогда превратим трагедию в поучительный рассказ или мелодраму. В трагедии тоже есть разрыв – между мыслью героя о себе и развязкой, логикой катарсиса, который не просто дает удовлетворение зрителям, но показывает, что настоящая мысль героя о самом себе может состояться только в вечности, а не сейчас.
И в трагедии, и в басне происходит столкновение двух планов: в басне это план морального знания и план предсказуемости характера, а в трагедии – план героического переживания и план общезначимости события. Беда старой эстетики и теории искусства была в том, что в ней трагедия оказывалась слишком похожа на басню, а басня – на трагедию. Выготский требует не сводить литературу к какой-то одной метафоре живописности или выразительности, как мы говорим, не задумываясь, о «художественности» любого текста, где есть вымысел. Лучше, скажем, басню сопоставить со строгим рисунком, а трагедию – с масштабной скульптурой, руководствуясь не сюжетами (что рисуют, а что лепят), а тем, какие именно планы сталкиваются.
Рассказ Бунина «Легкое дыхание», проанализированный Выготским, тоже мог бы вызвать недоумение: почему довольно неприглядная история оставляет в нашей памяти ощущение легкого события, неотменимого счастья жизни, хотя вроде бы люди все сделали для того, чтобы жизнь себя не чувствовала такой свободной? Выготский отвечает на этот вопрос довольно просто: есть аффекты невольные, а есть аффекты желанные. План действительности чем дальше, тем больше запутывает нас в нежеланных аффектах, тогда как план художественного высказывания показывает нам, что всякому желанию есть свое место и свое время. Чем серьезнее мы воспринимаем искусство, тем лучше мы понимаем, когда желанный аффект оказывается не просто уместным, но единственно возможным для того, чтобы можно было продолжать повествование. Тогда только нас и может охватить ощущение беспримесного счастья: пусть жизнь тяжела и безобразна, пусть счастье в жизни приходит на миг, но мы уже знаем, для чего жить и что ответить тем, кто подменил жизнь своими нежеланными желаниями.
Позднее Выготский стал одновременно профессором в Москве, Ленинграде и Ташкенте, да еще и создавал академическую психологию в Харькове. Его итоговая книга «Мышление и речь» раскрывает самые драматические ситуации, когда речь не успевает за мышлением (когда торжествует внутреннее сознание) или мышление за речью (когда поэзия речи опережает нашу мысль). В этой книге как раз раскрывается, как можно работать с внутренним опытом, не упуская из виду тот опыт освоения мира речью, который уже стал достоянием всего человечества. Иногда советская наука впадала в этом вопросе в крайности: так, языковед Николай Марр предположил, что язык голоса возникает из языка жестов, в котором смыслы, мифы и позы тела едины, и что в языке тогда значения важнее правил их соединения. Но для Выготского важны и правила соединения суждений, потому что только они и делают обычные ситуации не только тем, с чем мы уже столкнулись, но и тем, с чем еще столкнемся в будущем и к чему нужно научиться относиться по-взрослому и искусно.
В последние годы жизни Выготский развивал собственную теорию сознания. Для него главным свойством сознания стало умение схватывать динамические, меняющиеся значения. Статичные, неизменные значения может познать и природа, и животное, и механизм, но только человеческое сознание способно увидеть, как смысл не только отражает предмет, но и меняет сам предмет на будущее. Предмет приобретает новые функции: он становится и знаком, и высказыванием, и основанием для сотрудничества, и результатом взаимодействия, и концентрированным выражением познания. Предмет – это уже не просто вещь, которую мы сразу знаем, как использовать, или не сразу знаем, но это скорее перекресток наших умственных интересов и основательных социальных практик. Наш ум может быть достаточно критичен, чтобы проверить, насколько практики работы с вещами нужны самим вещам. Но и наш социальный опыт должен стать достаточно основательным, чтобы мы могли говорить о пережитом нашим сознанием как о действительно пережитом.
Завершить предисловие позволю выводами, которые делает наш современник, поэт Ольга Седакова, в выступлении на юбилее Выготского:
«Выготский предлагает идею открытой формы, forma formans, разомкнутой внутрь и в будущее, создающей в человеке другого, нового по отношению к его наличной данности человека: он-то и воспримет, примет ее смысл. Идея возможного, будущего или вечно рождающегося человека как субъекта творчества и его адресата – главная тема анализов Выготского.
В сущности, он предлагает нам оправдание творчества как основной деятельности человеческой психики. В творчестве психика здорова. В художественном творчестве, в работе со свободной жизнью формы, по Выготскому, психика не борется с собственным прошлым (травматическим прошлым, как у Фрейда, сублимируя или маскируя его) – она строит свое будущее, свое постоянное рождение. «Каждая вещь искусства, о чем бы она не говорила, повествует о своем рождении», – заметил Пастернак. Выготский по-своему дополняет эти слова. Автор вещи искусства приводит нас в место своего внутреннего рождения, рождения нового человека, которого в нем не было до этого опыта, человека, создающего эту вещь или создаваемого ею. Зритель, если соучастие его адекватно, переживает в нем собственное рождение, рождение других возможностей, других «глаз».
Лев Выготский
Психология искусства
Того, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил… но, говорят, из одних лишь законов природы, поскольку она рассматривается исключительно как телесная, невозможно было бы вывести причины архитектурных зданий, произведений живописи и тому подобного, что производит одно только человеческое искусство, и тело человеческое не могло бы построить какой-либо храм, если бы оно не определялось и не руководствовалось душою, но я показал уже, что они не знают, к чему способно тело и что можно вынести из одного только рассмотрения его природы…
Бенедикт Спиноза, Этика, ч. III, теорема 2, схолия
Предисловие
Настоящая книга возникла как итог ряда мелких и более или менее крупных работ в области искусства и психологии. Три литературных исследования – о Крылове, о Гамлете и о композиции новеллы – легли в основу многих анализов, как и ряд журнальных статей и заметок[1 - Напечатаны: «Летопись» Горького за 1916–1917 годы о новом театре, о романах Белого, о Мережковском, В. Иванове и других: в «Жизни искусства» за 1922 год; о Шекспире – «Новая жизнь» за 1917 год; об Айхенвальде – «Новый путь» за 1915–1917 годы.]. Здесь в соответствующих главах даны только краткие итоги, очерки, суммарные сводки этих работ, потому что в одной главе дать исчерпывающий анализ Гамлета невозможно, этому надо посвятить отдельную книгу. Искание выхода за шаткие пределы субъективизма одинаково определило судьбы и русского искусствоведения и русской психологии за эти годы. Эта тенденция к объективизму, к материалистически точному естественно-научному знанию в обеих областях создала настоящую книгу.
С одной стороны, искусствоведение все больше и больше начинает нуждаться в психологических обоснованиях. С другой стороны, и психология, стремясь объяснить поведение в целом, не может не тяготеть к сложным проблемам эстетической реакции. Если присоединить сюда тот сдвиг, который сейчас переживают обе науки, тот кризис объективизма, которым они захвачены, – этим будет определена до конца острота нашей темы. В самом деле, сознательно или бессознательно традиционное искусствоведение в основе своей всегда имело психологические предпосылки, но старая популярная психология перестала удовлетворять по двум причинам: во-первых, она была годна еще, чтобы питать всяческий субъективизм в эстетике, но объективные течения нуждаются в объективных предпосылках; во-вторых, идет новая психология и перестраивает фундамент всех старых так называемых «наук о духе». Задачей нашего исследования и был пересмотр традиционной психологии искусства и попытка наметить новую область исследования для объективной психологии – поставить проблему, дать метод и основной психологический объяснительный принцип, и только.
Называя книгу «Психология искусства», автор не хотел этим сказать, что в книге будет дана система вопроса, представлен полный круг проблем и факторов. Наша цель была существенно иная: не систему, а программу, не весь круг вопросов, а центральную его проблему имели мы все время в виду и преследовали как цель.
Мы поэтому оставляем в стороне спор о психологизме в эстетике и о границах, разделяющих эстетику и чистое искусствознание. Вместе с Липпсом мы полагаем, что эстетику можно определить как дисциплину прикладной психологии, однако нигде не ставим этого вопроса в целом, довольствуясь защитой методологической и принципиальной законности психологического рассмотрения искусства наряду со всеми другими, указанием на его существенную важность[2 - Ср.: Евлахов А. М. Введение в философию художественного творчества. Т. 3. Ростов-на-Дону, 1917. Автор заканчивает рассмотрение каждой системы и заканчивает каждую из шести глав своего тома подглавкой-выводом: «Необходимость эстетико-психологических предпосылок».], поисками его места в системе марксистской науки об искусстве. Здесь путеводной нитью служило нам то общеизвестное положение марксизма, что социологическое рассмотрение искусства не отменяет эстетического, а, напротив, настежь открывает перед ним двери и предполагает его, по словам Плеханова, как свое дополнение. Эстетическое же обсуждение искусства, поскольку оно хочет не порывать с марксистской социологией, непременно должно быть обосновано социально-психологически. Можно легко показать, что и те искусствоведы, которые совершенно справедливо отграничивают свою область от эстетики, неизбежно вносят в разработку основных понятий и проблем искусства некритические, произвольные и шаткие психологические аксиомы. Мы разделяем с Утицом его взгляд, что искусство выходит за пределы эстетики и даже имеет принципиально отличные от эстетических ценностей черты, но что оно начинается в эстетической стихии, не растворяясь в ней до конца. И для нас поэтому, ясно, что психология искусства должна иметь отношение и к эстетике, не упуская из виду границ, отделяющих одну область от другой.
Надо сказать, что и в области нового искусствоведения и в области объективной психологии пока еще идет разработка основных понятий, фундаментальных принципов, делаются первые шаги. Вот почему работа, возникающая на скрещении этих двух наук, работа, которая хочет языком объективной психологии говорить об объективных фактах искусства, по необходимости обречена на то, чтобы все время оставаться в преддверии проблемы, не проникая вглубь, не охватывая много вширь.
Мы хотели только развить своеобразие психологической точки зрения на искусство и наметить центральную идею, методы ее разработки и содержание проблемы. Если на пересечении этих трех мыслей возникнет объективная психология искусства, настоящая работа будет тем горчичным зерном, из которого она прорастет.
Центральной идеей психологии искусства мы считаем признание преодоления материала художественной формой или, что то же, признание искусства общественной техникой чувства. Методом исследования этой проблемы мы считаем объективно аналитический метод, исходящий из анализа искусства, чтобы прийти к психологическому синтезу, – метод анализа художественных систем-раздражителей[3 - Сходным методом воссоздает 3. Фрейд психологию остроумия в своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному» (Современные проблемы. М., 1925). Сходный метод положен и в основу исследования проф. Ф. Зелинским ритма художественной речи – от анализа формы к воссозданию безличной психологии этой формы. См.: Зелинский Ф. Ритмика художественной речи и ее психологические основания («Вести психологии», 1906, вып. 2, 4), где дана психологическая сводка результатов.]. Вместе с Геннекеном мы смотрим на художественное произведение как на «совокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции», и пытаемся на основании анализа этих знаков воссоздать соответствующие им эмоции. Но отличие нашего метода от эстопсихологического состоит в том, что мы не интерпретируем эти знаки как проявление душевной организации автора или его читателей. Мы не заключаем от искусства к психологии автора или его читателей, так как знаем, что этого сделать на основании толкования знаков нельзя.
Мы пытаемся изучать чистую и безличную психологию искусства безотносительно к автору и читателю, исследуя только форму и материал искусства. Поясним: по одним басням Крылова мы никогда не восстановим его психологии; психология его читателей была разная – у людей XIX и XX столетия и даже у различных групп, классов, возрастов, лиц. Но мы можем, анализируя басню, вскрыть тот психологический закон, который положен в ее основу, тот механизм, через который она действует, – и это мы называем психологией басни. На деле этот закон и этот механизм нигде не действовали в своем чистом виде, а осложнялись целым рядом явлений и процессов, в состав которых они попадали; но мы так же вправе элиминировать психологию басни от ее конкретного действия, как психолог элиминирует чистую реакцию, сенсорную или моторную, выбора или различения, и изучает как безличную.
Наконец, содержание проблемы мы видим в том, чтобы теоретическая и прикладная психология искусства вскрыла все те механизмы, которые движут искусством, вместе с социологией искусства дала бы базис для всех специальных наук об искусстве.
Задача настоящей работы существенно синтетическая. Мюллер-Фрейенфельс очень верно говорил, что психолог искусства напоминает биолога, который умеет произвести полный анализ живой материи, разложить ее на составные части, но не умеет из этих частей воссоздать целое и открыть законы этого целого. Целый ряд работ занимается таким систематическим анализом психологии искусства, но я не знаю работы, которая бы объективно ставила и решала проблему психологического синтеза искусства. В этом смысле, думается мне, настоящая попытка делает новый шаг и отваживается ввести некоторые новые и никем еще не высказанные мысли в поле научного обсуждения. Это новое, что автор считает принадлежащим ему в книге, конечно, нуждается в проверке и критике, в испытании мыслью и фактами. Все же оно уже и сейчас представляется автору настолько достоверным и зрелым, что он осмеливается высказать это в настоящей книге.
Общей тенденцией этой работы было стремление научной трезвости в психологии искусства, самой спекулятивной и мистически неясной области психологии. Моя мысль слагалась под знаком слов Спинозы, выдвинутых в эпиграфе, и вслед за ним старалась не предаваться удивлению, не смеяться, не плакать – но понимать.