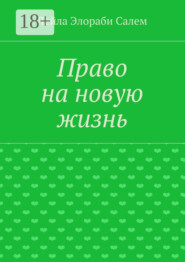По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Златые купола над Русью. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Грех желать чужое. Тебе не понять ноши моей, – Соломония отвернулась, приложила голову к окну, некогда радостное настроение сменилось отчаянием.
Аксинья принялась гладить, успокаивать ее, как успокаивают добрым словом маленьких детей, обнадеживала о благословении по приезду со святых мест, говорила доброе, а сама плакала про себя, искренее жалея княгиню. «Бедная, ты, бедная, – думалось старухе, – какое это горе – не познать счастья материнства! Ни за какие сокровища кремлевские, ни за шапку Мономаха не пожертвую я своим прошлым бременем и бессоными ночами у колыбели, никогда не пожертвую детскими ладошками и детским лепетом милых деточек своих».
Несчастна была Соломония, но более несчастным и обманутым чувствовал себя государь Василий Иванович, которому приходится аки калики перехожему вымаливать у Бога детей, которые даются безродным простолюдинам каждый год, в то время как ему уготована жалкая участь и страшное проклятие – умереть, так и не родив наследника.
Княжеский кортеж подъехал к воротам Троице-Сергиевой лавры, тут же зазвенели колокола в высоких башнях колокольницы, владыки и монахи вышли встречать государя и государыню, благословили их на пути к святой обители, насчитывавшей чуть менее двухсот лет со дня основания и до сей поры явившаяся самым крупным мужским монастырем. Василий Иванович, вперив большие карие глаза на золотые купола, окруженные солнце-пресветлым сиянием на фоне голубого неба, благоговейно признался самому себе, как правильно поступил он, что решил вопреки делам государственным оставить все суеты здешнего мира в толстых стенах Кремля и посетить святое место для успокоения и умиротворения души своей.
Река Кончура, освободившись от холодного льда, плавно текла вдоль еще голых, но ждущих рост травы берегов. Над водой с кошачьими криками летали чайки, а по мосту, перекинутом с одного берега на другой, прохаживались монахи да несколько женщин-прихожанок, спешащих на молебен. Тихое, благословенное место – здесь и помыслы очищались от всего дурного и всякого скверного, и взор становится чище и яснее.
Соломония с помощью Аксиньи омыра лицо и руки в святом источнике: вода холодная, почти ледяная, но разве могла государыня чувствовать сие, когда в душе, на сердце бушевало жаркое пламя надежды и веры, что сызмальства тянуло ее в стены монастырского заточения. Набожная, кроткая, послушная слову отцова аль супруга, до замужества восхотелось Соломонии подстричься в монахини, но отец строго-настрого воспретил это делать, грозным словом отчитал дочь, велев ей не только не молвить о сим, но даже из мыслей выкинуть всякие помыслы о постриге. Боялся боярин, что тогда не узрит никто красоты дочери, похоронит она заживо всю цветущую молодость свою. А позже, когда Соломония вышла за княжеского сына, радовался Сабуров счастью своему, с гордыней, свысока начал посматривать на тайных и явных завистников и недоброжелателей – возвысился род Сабуровыхдо государевых палат! Только кто ведал, кроме Бога, о душевных муках да терзаниях молодой княгини, Которому только посвящала она все тайны сердца?
Долго выстаивал молитву Василий Иванович с другими прихожанами, раболепно опускался на колени пред ликами святых, с трепетом приближался ко гробу, где покоились мощи святого Сергия. У Образа Спасителя просил прощение за грехи свои вольные и невольные, и слезы горечи раскаяния текли по его некогда суровому темному лицу, просил Бога о помощи от врагов иноземных и русских, что своим вероломством и предательством старались раздробить земли русские, с таким трудом собранные, и главное – в тайниках души шепотом, почти неслышно, молил о даровании ему наследника – единственную опору державы, которому по смерти отца перейдет вся власть над Русью. О том же молила и Соломония, стоя преклоненной перед иконой Богородицы с Сыном на руках – сий святой образ матери, незримой тайной и трепетом поправший все мысли несчастной княгини.
Завершился молебен, опустел храм. Игумен с достоинством, лишенное всякого раболепия, пригласил великого князя и его супругу разделить с ним монастырскую трапезу, ведал заранее – неспроста приехал к нему государь. Ели молча, вкушали непривычную простую снедь, монастырскую: похлебку да вяленую рыбу. Запивали кагором. Все было предельно скромно – согласно христианству, но до чего же вкусно: государь ничего подобного не вкушал ранее, оттого и трапеза показалась ему превосходной. В трапезную залу бесшумно вошел юный послушник, принялся убирать со стола, игумен знаком отозвал его, потом обратился к Василию Ивановичу:
– Какая нужда привела тебя, княже, в нашу святую обитель?
Соломония на миг остановилась вытирать рот полотенцем, украдкой взглянула на мужа. Тот спокойно допил кагор и, поставив чашу, ответил:
– По делу государственному прибыл я ныне, отче. Да только слово молвить могу лишь с глазу на глаз, подальше от чужих ушей и глаз.
– Я понял тебя, государь.
Втроем покинув храм, вышли на подворье обители. Словно крепость, окруженная со всех сторон белокаменной стеной, все святое место – с храмом, малыми и большими домами, амбарами, хлевом, мельницами – напоминало небольшой город, только заместо мирян по округе ходили монахи, дьяконы, послушники в черных рясах и клобуках: одни таскали в ведрах воду, иные кололи дрова, третьи чинили старые, в местах покосившиеся, ворота: жизнь – привычная – и здесь шла мирным ходом.
Прозаживаясь вдоль стен, Василий Иванович продолжил начатый игуменом разговор:
– Слышал я, владыко, что здесь, под самим этим храмом, в тайных подземных переходах спрятаны неведомые сокровища и злато, собираемые со времен Дмитрия Донского. Мне надобно видеть сие богатства.
– А зачем они тебе, государь? Неужто в самой Москве, в кремлевских закромах, нету ни злата, ни серебра?
– Вся моя казна опустошена войнами и междоусобицами. Сам ведаешь, что стоили походы на Новгород и Тверь, а также битвы с татарскими ханами. Год назад безбожный хан Мухаммед-Эмин, порушив все клятвы, пошел войной на Нижний Новгород, благо, горд устоял под воеводством Хабар-Симского…
– И ныне ты сам желаешь пойти на Казань, дабы отомстить басурманам? – докончил за Василия Ивановича игумен.
– Да, и посему я желаю видеть золото, принадлежащее мне по праву.
– Какие речи, государь?! Неужто не ведано тебе, что вера наша православная держится на злате?
Великий князь выдавил из себя смешок, молвил:
– А я-то думал, что все православие держится на вере в Господа…
Стоящая чуть позади Соломония перекрестилась, но государь даже не заметил ее испуга.
– Не злорадствуй, княже, – спокойно, словно и не было недопонимания между ними, ответил игумен, – не за небесные, но мирские богатства строятся храмы и монастыри, за деньги одариваем мы жаждующих, за злато и серебро строим дома и ночлеги для нищих и обездоленных, больных, паломников. Не тобой, но нами вскормлены многие сироты да калики перехожие, ибо двери обители всегда открыты для каждого пришедшего.
– Ведаю я и о доброте и милосердии вашем, о молитвах, что взываете денно и нощно о земле нашей. Но, владыко, подумай, какая сила остановит нашествие врагов, ежели моему воинству не будет оплаты? Лишь с оружием в руках, но не миром, сохраним мы Русь, дабы народ православный не узнал гнета рабства и удары батагов.
Искренняя, пламенная речь князя, его просьба заместо грозного приказа возымели над сердцем игумена. Не желал седовласый владыко власти над государем, не хотел попрать в унижении его властную гордость. Ничего не говоря в ответ, он лишь махнул рукой со словами:
– Следуй за мной, государь.
Над куполами белым облаком взметнулась стая голубей, покружилась над святым местом и воротилась на землю. Подул легкий прохладный ветерок. Пробил колокол к вечерне, пронесся по округе благословенный звон. Засуетились, побросали работы на подворье монахи, засеменили к храму. Игумен подождал, когда двор опустеет, знаком поманил князя следовать за ним к черному входу. Там, у ветхой дубовой двери, достал владыко связку ключей, выбрал нужный. Дверь со скрипом отворилась: невесть сколько лет никто не заходил в темное помещение, представляющее собой длинный туннел под самим храмом. Идти пришлось долго: коридор то сужался, то расширялся, узкие шатающиеся ступени вели вниз под землю, и вокруг витал спертый, пропахший плесенью и крысиным пометом воздух.
– Тут, княже, почти сто лет никто не являлся, – прошептал игумен, но в этих стенах даже шепот слышался как раскат грома.
– Почему?
– Сие место тайное, не каждый из живущих в обители ведает о его существовании. Не знают люди, какие сокровища дивные сокрыты под храмом.
– Это верно. Кроме тебя и меня не должны ведать о моем золоте.
– Твоем ли, государь?
– Покуда правлю я на Руси, то все здесь принадлежит мне и только мне.
Ничего не ответил владыко, открыл ключом дальнюю дверь и взору их предстала комната, словно из сказки, вся сверкающаяся ларцами да коваными сундуками: в каждом из них находились старинные сокровища – монеты, драгоценные каменья, кубки иноземные, украшения со всех концов света, сколько Русь завоевывала-покоряла народы. Не стал Василий Иванович просить много, три мешка со златом да серебром и то хорошо. Чувствовал князь стыд пред игуменом за недоверие и гордыню свою, позабыл, видать, о чем приезжал просить Бога, а сам как тать лесной искал богатства земные, а не духовные. Права оказалась Соломония, обвиняя его в черствости и честолюбии.
Обратно Василий Иванович не пожелал идти первым путем: уж очень опасный и гнетущий туннель представлялся пред его ясным взором.
– Здесь есть иная дорога, что ведет прямо в мою келью, – отозвался игумен, закрывая на ключ дверь в сокровищницу.
– Так веди, владыко.
Соломония, дрожа всем телом, бесшумно следовала за мужем, сердце ее тревожно билось в груди, боялась женщина, когда на пути под ногами попадались кости, рассыпанные на осколки, да когда, прячясь от людей, за угол забегала крыса.
Государь не взял княгиню за руку, даже не глянул, не обернулся на нее ни разу: помыслы его были далеки от жены и не ей посвящались – а то, о чем думалось ему, никому, кроме Бога, не было известно.
Кончился длинный, на первый взгляд кажущийся бесконечным, коридор, и взорам людей открылась полутемная, с высокими маленькими оконцами что-то наподобие кельи, только свод был слишком низким, давящим, а в стенах прибиты цепи, в которых держат уздников.
– Что сие за место? – вопросил Василий Иванович и тайное негодование вновь родилось в нем.
– Будь осторожнее, государь, старайся не произносить ни слова, – игумен трижды сотворил крестное знамя и в страхе глянул по сторонам.
– Да что за чертовщина здесь творится!? – воскликнул князь и тут из дальнего темного угла, словно из преисподни, донесся пронзительный тревожный крик, будто не то человек, не то зверь какой решил сыграть с ними злую шутку.
Не успел владыко обренуться, как громко, словно ее лишают жизни, крикнула Соломония, руками пытаясь отбиться от существа, схватившего ее за косу одной рукой и душившего другой. В порыве гнева Василий Иванович вместе с игуменом освободили из цепких рук бледную, дрожащую от страха княгиню. Владыко поднес свечу и все они увидели нечто, напоминающее человека: грязного, со спутанными волосами, в одних лохмотьях, прикованное за шейное колько цепью. Это нечто бормотало страшные проклятия, тряся вытянутыми вперед руками; видя, что смотрят на него, существо оскалило зубы и вновь попыталось кинуться на незванных гостей.
– Господи, спаси и сохрани от зла проклятого, – тихо вымолвил игумен и перекрестил угол, в котором копошилось в соломе сие нечто.
Существо прикрыло уши руками, издало страшный нечеловеческий стон, от которого мурашки побежали по телу, и начало сплевывать на пол белую пену.
– Кто это? – шепотом, испугавшись не менее Соломонии, спросил Василий Иванович.
– Прости, государь, я забыл предупредить. Здесь, под храмом мы держим бесноватых – тех, чьи души одержимы злом, – ответил игумен.
– Но зачем? – полюбопытствовала Соломония.