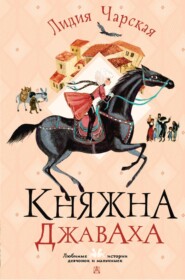По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Джаваховское гнездо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Объемистый кошель, нарочно приготовленный для Леилы-Фатьмы, исторгнут со дна его.
– Бери и покажи нам твои фокусы, старуха.
Легкий взмах руки, и, позвякивая монетами, кошелек падает у ног Фатьмы.
О, какой он тяжелый! Как щедр кабардинский князь! Как щедр и богат!
Руки Леилы трясутся, сжимают крючковатыми пальцами свое сокровище. Безумные огни вспыхивают снова в глазах. Она готова испустить свой страшный протяжный вой, срывающийся у нее в минуты сильнейшего возбуждения, но Гассан, следивший за каждым движением своей госпожи, торопливо берет ее за руку и уводит во внутренние покои сакли.
– Успокойся, приди в себя, дочь наиба. Тебе нужны теперь силы и твердая воля, как никогда, – говорит он и прикладывает что-то холодное, мокрое к седой голове Леилы – Фатьмы.
* * *
– Входите, гости, входите сюда!
Прошло минут десять, и Фатьма снова здорова. Льстивая улыбка играет на ее ссохшихся губах.
Откинув полу ковра, стоит она на пороге. Курбан-ага и его спутники входят в горницу. Запах амбры. Голубое облако курения. Звериные шкуры на полу. Синие, как небо, стены, затканные по шелковому полю звездами и полумесяцами, точно в мечети. Такой же потолок. Из-за легкой шелковой занавески несутся звуки: тихие аккорды, журчащие, как лесные ручьи. Полутьма. Притушен голубой фонарик, но на аспидных треножниках догорает что-то пахучее, сладкое, неясное, как дурман. О, эта музыка! Она навевает чарующие сонные грезы. А запах амбры туманит мозг.
Леила-Фатьма проскальзывает за занавеску, рука сильными крючковатыми пальцами опускается на плечо музыкантши.
– Довольно! Оставь!
Даня взглядывает на нее испуганно и моляще.
Безобразное смуглое лицо старухи придвигается к побледневшему от страха личику девочки, нестерпимо сверкающие, расширенные глаза впиваются в нее вьюном. Кусок тонкой, пропитанной какими-то дурманящими парами ткани ложится на ее лицо, закрывая нос, губы и щеки. Одни глаза остаются на свободе, но в них, как два жала, как два острых клинка, впиваются взоры Леилы-Фатьмы.
И под этим нечеловеческим, магнетизирующим всю душу, оцепляющим весь мозг Дани взглядом последняя замирает, полная непонятной покорности судьбе.
Все больнее и больнее сжимает ее плечи Леила-Фатьма, все горячее и нестерпимее жжет ее страшным взором разгоревшихся, как у волчицы, глаз, все невнятнее лепечет что-то пересохшими губами, все нестерпимее, сильнее душит ее непонятный, разум затемняющий, ядовитый аромат.
Какая-то мучительная усталость сковывает члены Дани, разливается по телу теплой волной. Кружится голова. Тускнеет мысль. Словно налетает какой-то вихрь, могучим взмахом крыльев подхватывает ее и…
Даня, потеряв способность чувствовать, рассуждать, покорная чужой страшной воле, летит с головокружительной быстротой в отверзшуюся перед ней бездну, потеряв нить сознания своего естества.
* * *
Леила-Фатьма выходит к гостям.
Теперь уже за голубой тафтяной занавеской не слышится звуков арфы. Зато где-то далеко за стеною гремит зурна, звенит сааз.
Это сыновья Гассана играют на дворе.
Громкая, дикая, воинственная мелодия. Вздрагивают сердца гостей. Вольным духом Кабарды, дикой, свободной еще недавно, а теперь покоренной страной, веет от нее.
И под странную, грозную музыку распахивается занавеска.
Белая девушка выходит из-за нее. Ее лицо неподвижно, как маска, тонкие руки опущены вдоль бедер. Синие глаза стоят без мысли, прозрачные, безмолвные.
По приказанию Фатьмы она, заложив руки, начинает кружиться, плясать, сначала тихо, тихо, потом быстрее, все быстрее.
Пляска ее быстра, как вихрь. Спустя минуту, она беззвучным движением падает на пол.
– Смотри, ага, видал ты такую? – спрашивает Фатьма.
– Ни в Кабарде, ни в здешних горах, ни в долинах Грузии не встречал я ничего подобного! – с изумлением роняет князь-ага.
Курбан-ага взволнован. Эта белокурая девушка в ее беспомощности пробуждает в его суровой душе не то жалость, не то сочувствие.
Леила-Фатьма видит произведенное на гостя впечатление.
– Дана, – говорит она, ломая русский язык и русское имя. – Дана, встань!
Быстро и легко поднимается девушка. Ее лицо спокойно. На устах бродит неопределенная улыбка.
– Спрашивай у нее, что хочешь, по-кабардински, по-грузински, по-русски, она ответит тебе. Из будущего, из настоящего, из прошлого ответит. Самую твою страшную тайну откроет она тебе, – срывающимся голосом говорит Леила-Фатьма на ухо князю.
Курбан-ага встает.
– Я хочу, чтобы она спела мне песнь моей матери, ту самую, что слыхал я в детстве над своей колыбелью, – говорит он громко.
Леила-Фатьма подходит к Дане:
– Ты слышала?
Белокурая головка склоняется медленно, автоматически, как неживая.
– Да! – беззвучно роняют губы.
– Пой! – повелительно, грозно звучит голос Фатьмы.
Даня опускается на пол подле аги и, раскачиваясь из стороны в сторону, поет по-татарски заунывную восточную песнь.
Пышные розы раскрылись.
В ветвях чинары поют соловьи.
Спи, о, засни, мой сынок малолетний,
Сон я навею на глазки твои!
Песни спою о родимой Кабарде,
Вольные песни о прошлом ее.
Спи, мой красавец! Я подле, любимый,
Буду катать и лелеять тебя…
Буду…
– Довольно! – вскочив на ноги, вскрикивает Курбан-ага. – Довольно! Ты права, женщина! Девушка спела песнь моей матери! – И, тяжело дыша, снова опускается на диван.
Снова звучат мелодично тихие струны, снова невидимая арфа поет там, за занавеской.
В кунацкую опять вышли гости.
– Бери и покажи нам твои фокусы, старуха.
Легкий взмах руки, и, позвякивая монетами, кошелек падает у ног Фатьмы.
О, какой он тяжелый! Как щедр кабардинский князь! Как щедр и богат!
Руки Леилы трясутся, сжимают крючковатыми пальцами свое сокровище. Безумные огни вспыхивают снова в глазах. Она готова испустить свой страшный протяжный вой, срывающийся у нее в минуты сильнейшего возбуждения, но Гассан, следивший за каждым движением своей госпожи, торопливо берет ее за руку и уводит во внутренние покои сакли.
– Успокойся, приди в себя, дочь наиба. Тебе нужны теперь силы и твердая воля, как никогда, – говорит он и прикладывает что-то холодное, мокрое к седой голове Леилы – Фатьмы.
* * *
– Входите, гости, входите сюда!
Прошло минут десять, и Фатьма снова здорова. Льстивая улыбка играет на ее ссохшихся губах.
Откинув полу ковра, стоит она на пороге. Курбан-ага и его спутники входят в горницу. Запах амбры. Голубое облако курения. Звериные шкуры на полу. Синие, как небо, стены, затканные по шелковому полю звездами и полумесяцами, точно в мечети. Такой же потолок. Из-за легкой шелковой занавески несутся звуки: тихие аккорды, журчащие, как лесные ручьи. Полутьма. Притушен голубой фонарик, но на аспидных треножниках догорает что-то пахучее, сладкое, неясное, как дурман. О, эта музыка! Она навевает чарующие сонные грезы. А запах амбры туманит мозг.
Леила-Фатьма проскальзывает за занавеску, рука сильными крючковатыми пальцами опускается на плечо музыкантши.
– Довольно! Оставь!
Даня взглядывает на нее испуганно и моляще.
Безобразное смуглое лицо старухи придвигается к побледневшему от страха личику девочки, нестерпимо сверкающие, расширенные глаза впиваются в нее вьюном. Кусок тонкой, пропитанной какими-то дурманящими парами ткани ложится на ее лицо, закрывая нос, губы и щеки. Одни глаза остаются на свободе, но в них, как два жала, как два острых клинка, впиваются взоры Леилы-Фатьмы.
И под этим нечеловеческим, магнетизирующим всю душу, оцепляющим весь мозг Дани взглядом последняя замирает, полная непонятной покорности судьбе.
Все больнее и больнее сжимает ее плечи Леила-Фатьма, все горячее и нестерпимее жжет ее страшным взором разгоревшихся, как у волчицы, глаз, все невнятнее лепечет что-то пересохшими губами, все нестерпимее, сильнее душит ее непонятный, разум затемняющий, ядовитый аромат.
Какая-то мучительная усталость сковывает члены Дани, разливается по телу теплой волной. Кружится голова. Тускнеет мысль. Словно налетает какой-то вихрь, могучим взмахом крыльев подхватывает ее и…
Даня, потеряв способность чувствовать, рассуждать, покорная чужой страшной воле, летит с головокружительной быстротой в отверзшуюся перед ней бездну, потеряв нить сознания своего естества.
* * *
Леила-Фатьма выходит к гостям.
Теперь уже за голубой тафтяной занавеской не слышится звуков арфы. Зато где-то далеко за стеною гремит зурна, звенит сааз.
Это сыновья Гассана играют на дворе.
Громкая, дикая, воинственная мелодия. Вздрагивают сердца гостей. Вольным духом Кабарды, дикой, свободной еще недавно, а теперь покоренной страной, веет от нее.
И под странную, грозную музыку распахивается занавеска.
Белая девушка выходит из-за нее. Ее лицо неподвижно, как маска, тонкие руки опущены вдоль бедер. Синие глаза стоят без мысли, прозрачные, безмолвные.
По приказанию Фатьмы она, заложив руки, начинает кружиться, плясать, сначала тихо, тихо, потом быстрее, все быстрее.
Пляска ее быстра, как вихрь. Спустя минуту, она беззвучным движением падает на пол.
– Смотри, ага, видал ты такую? – спрашивает Фатьма.
– Ни в Кабарде, ни в здешних горах, ни в долинах Грузии не встречал я ничего подобного! – с изумлением роняет князь-ага.
Курбан-ага взволнован. Эта белокурая девушка в ее беспомощности пробуждает в его суровой душе не то жалость, не то сочувствие.
Леила-Фатьма видит произведенное на гостя впечатление.
– Дана, – говорит она, ломая русский язык и русское имя. – Дана, встань!
Быстро и легко поднимается девушка. Ее лицо спокойно. На устах бродит неопределенная улыбка.
– Спрашивай у нее, что хочешь, по-кабардински, по-грузински, по-русски, она ответит тебе. Из будущего, из настоящего, из прошлого ответит. Самую твою страшную тайну откроет она тебе, – срывающимся голосом говорит Леила-Фатьма на ухо князю.
Курбан-ага встает.
– Я хочу, чтобы она спела мне песнь моей матери, ту самую, что слыхал я в детстве над своей колыбелью, – говорит он громко.
Леила-Фатьма подходит к Дане:
– Ты слышала?
Белокурая головка склоняется медленно, автоматически, как неживая.
– Да! – беззвучно роняют губы.
– Пой! – повелительно, грозно звучит голос Фатьмы.
Даня опускается на пол подле аги и, раскачиваясь из стороны в сторону, поет по-татарски заунывную восточную песнь.
Пышные розы раскрылись.
В ветвях чинары поют соловьи.
Спи, о, засни, мой сынок малолетний,
Сон я навею на глазки твои!
Песни спою о родимой Кабарде,
Вольные песни о прошлом ее.
Спи, мой красавец! Я подле, любимый,
Буду катать и лелеять тебя…
Буду…
– Довольно! – вскочив на ноги, вскрикивает Курбан-ага. – Довольно! Ты права, женщина! Девушка спела песнь моей матери! – И, тяжело дыша, снова опускается на диван.
Снова звучат мелодично тихие струны, снова невидимая арфа поет там, за занавеской.
В кунацкую опять вышли гости.