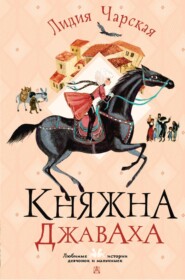По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Джаваховское гнездо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вне себя, старуха кидается вперед.
– Курбан-ага – предатель! – кричит она с перекошенными от бешенства чертами лица, с пеной у рта, с дико сверкающим взглядом, – он пожалел калым дать Леиле-Фатьме, захотел нарушить договор. Так пусть же никому не достанется девчонка!
И, прежде нежели кто успевает предвидеть это, большой турецкий старинный пистолет сверкает в ее руках. Она направляет дуло на спящую Даню.
Последняя, словно руководимая странным толчком, широко раскрывает глаза.
«Это смерть! – проносится в голове девочки. – Это смерть!»
На нее в упор направлено страшное оружие безумной старухи. Дальше – перекошенное ненавистью безобразное лицо, связанный бессильный Сандро, а у двери она, «друг» Нина, Ага-Керим, Селим.
– Спасите! – срывается с губ Дани.
Чья-то светлая фигура становится между Даней и безумной старухой.
Но уже поздно.
Гремит оглушительный выстрел.
И тотчас же легкий, слабый крик проносится над саклей.
Что-то теплое, липкое брызжет в лицо Дани.
– Кровь!
И белая фигура бессильно склоняется подле нее.
* * *
«Друг» убит, спасите «друга»! – кричит Сандро вне себя, трепещущий на полу, как птица.
Пуля Леилы-Фатьмы прорвала сукно бешмета Нины. Алая струйка крови брызнула оттуда.
Но бледное, как смерть, лицо княжны улыбается почти счастливой улыбкой.
Слава Богу! Она подоспела вовремя. Она успела стать между безумной старухой и ее жертвой. Даня спасена.
Ранена Нина, она, Нина, не опасно, должно быть, если есть еще силы думать, двигаться, говорить.
Она зажимает одной рукой рану, другой обнимает Даню:
– Птичка моя бедная! Милое сердце мое!
– Вы ранены? Скажите! Скажите! Да? – Голос Дани слабенький, рвущийся, как струны. А в лице ее ужас, тревога и любовь.
Ага-Керим с наибом держат бьющуюся у них на руках Леилу-Фатьму.
Она воет знакомым страшным воем на всю усадьбу, на весь аул.
Селим подле Сандро. Ударом небольшого, но острого кинжала он разрезает на нем веревки.
– О, Сандро, впервые вижу такого удальца! – На руках Нины трепещет Даня.
– Милая! Родная! Если б я знала только, разве бы я…
И глухое, судорожное рыдание потрясает саклю.
– Девочка моя, не надо, успокойся. Все забыто, моя Даня, все прощено.
Какой бальзам эти слова для измученной Дани, для ее израненного сердца!
Вот она, суровая повелительница питомника, Нина. И где только нашла в ней суровость Даня? Тщеславие, должно быть, ослепляло ее тогда.
Она, Нина, спасшая ее только что от смерти, принявшая на себя предназначенный для нее, Дани, безумной старухой выстрел, не ангел ли она, посланный с неба?
Но что это? Смертельно бледнеет лицо этого ангела, судорожно вздрагивают ее губы, тускнеют черные глаза, державшие Даню руки слабеют.
– «Друг» умирает! Лекаря сюда! Фельдшера! Кого-нибудь скорее! – вне себя вскрикивает Сандро и падает к ногам Нины, лишившись последних сил.
* * *
– Едут! Едут!
– Я ничего не вижу.
– У тебя глаза, как у совы в полдень.
– Арба! Арба! Я вижу горскую арбу.
– Не выдумывай, пожалуйста. Они должны быть верхами.
– Но я вижу арбу, тебе говорят.
– Нет, это экипаж со станции.
– Гема права. Ты все преувеличиваешь, Маруська. Это коляска и всадники. Конечно, да.
– Тетя Люда, сюда! Они едут! Едут!
С утеса, что высится за зеленой саклей, дорога как на ладони.
Валентин, Маруся, Гема и Селтонет стоят на утесе, сосредоточенно устремив глаза вдаль.
Уже месяц прошел с того дня, как четыре всадника ускакали в горы. Месяц в неведении, в тревоге, в ожидании.
Было условлено заранее между «другом» Ниной и Людой: «Не будет вестей – все благополучно. Будут вести – значит плохие. Молитесь о нас».
Все свободное время дети проводят на утесе.
– Курбан-ага – предатель! – кричит она с перекошенными от бешенства чертами лица, с пеной у рта, с дико сверкающим взглядом, – он пожалел калым дать Леиле-Фатьме, захотел нарушить договор. Так пусть же никому не достанется девчонка!
И, прежде нежели кто успевает предвидеть это, большой турецкий старинный пистолет сверкает в ее руках. Она направляет дуло на спящую Даню.
Последняя, словно руководимая странным толчком, широко раскрывает глаза.
«Это смерть! – проносится в голове девочки. – Это смерть!»
На нее в упор направлено страшное оружие безумной старухи. Дальше – перекошенное ненавистью безобразное лицо, связанный бессильный Сандро, а у двери она, «друг» Нина, Ага-Керим, Селим.
– Спасите! – срывается с губ Дани.
Чья-то светлая фигура становится между Даней и безумной старухой.
Но уже поздно.
Гремит оглушительный выстрел.
И тотчас же легкий, слабый крик проносится над саклей.
Что-то теплое, липкое брызжет в лицо Дани.
– Кровь!
И белая фигура бессильно склоняется подле нее.
* * *
«Друг» убит, спасите «друга»! – кричит Сандро вне себя, трепещущий на полу, как птица.
Пуля Леилы-Фатьмы прорвала сукно бешмета Нины. Алая струйка крови брызнула оттуда.
Но бледное, как смерть, лицо княжны улыбается почти счастливой улыбкой.
Слава Богу! Она подоспела вовремя. Она успела стать между безумной старухой и ее жертвой. Даня спасена.
Ранена Нина, она, Нина, не опасно, должно быть, если есть еще силы думать, двигаться, говорить.
Она зажимает одной рукой рану, другой обнимает Даню:
– Птичка моя бедная! Милое сердце мое!
– Вы ранены? Скажите! Скажите! Да? – Голос Дани слабенький, рвущийся, как струны. А в лице ее ужас, тревога и любовь.
Ага-Керим с наибом держат бьющуюся у них на руках Леилу-Фатьму.
Она воет знакомым страшным воем на всю усадьбу, на весь аул.
Селим подле Сандро. Ударом небольшого, но острого кинжала он разрезает на нем веревки.
– О, Сандро, впервые вижу такого удальца! – На руках Нины трепещет Даня.
– Милая! Родная! Если б я знала только, разве бы я…
И глухое, судорожное рыдание потрясает саклю.
– Девочка моя, не надо, успокойся. Все забыто, моя Даня, все прощено.
Какой бальзам эти слова для измученной Дани, для ее израненного сердца!
Вот она, суровая повелительница питомника, Нина. И где только нашла в ней суровость Даня? Тщеславие, должно быть, ослепляло ее тогда.
Она, Нина, спасшая ее только что от смерти, принявшая на себя предназначенный для нее, Дани, безумной старухой выстрел, не ангел ли она, посланный с неба?
Но что это? Смертельно бледнеет лицо этого ангела, судорожно вздрагивают ее губы, тускнеют черные глаза, державшие Даню руки слабеют.
– «Друг» умирает! Лекаря сюда! Фельдшера! Кого-нибудь скорее! – вне себя вскрикивает Сандро и падает к ногам Нины, лишившись последних сил.
* * *
– Едут! Едут!
– Я ничего не вижу.
– У тебя глаза, как у совы в полдень.
– Арба! Арба! Я вижу горскую арбу.
– Не выдумывай, пожалуйста. Они должны быть верхами.
– Но я вижу арбу, тебе говорят.
– Нет, это экипаж со станции.
– Гема права. Ты все преувеличиваешь, Маруська. Это коляска и всадники. Конечно, да.
– Тетя Люда, сюда! Они едут! Едут!
С утеса, что высится за зеленой саклей, дорога как на ладони.
Валентин, Маруся, Гема и Селтонет стоят на утесе, сосредоточенно устремив глаза вдаль.
Уже месяц прошел с того дня, как четыре всадника ускакали в горы. Месяц в неведении, в тревоге, в ожидании.
Было условлено заранее между «другом» Ниной и Людой: «Не будет вестей – все благополучно. Будут вести – значит плохие. Молитесь о нас».
Все свободное время дети проводят на утесе.