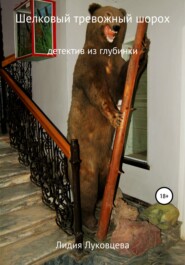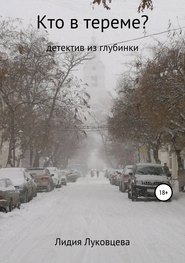По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И нас качают те же волны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она вытащила из сумочки косметичку, из нее – пузыречек с универсальным лекарством. Мать зорким взглядом сопровождала каждое ее движение. Люся тем временем уже смоталась на кухню и принесла чашку с водой и, поменьше, – пустую. Отобрала у хозяйки пузырек – руки у той плясали – отмерила двадцать пять капель в пустую чашку, долила водички. Наталья Павловна лихо опрокинула чашку. Потом, взглянув на пребывающую в добром здравии после ударной дозы витаминов Елену Федоровну, поколебалась и накапала десять капель для нее тоже.
Пока Елена Федоровна с Люсей накрывали по новой чайный стол, Зоя, с младых ногтей усвоившая принцип «общественное – прежде всего, личное второстепенно», объяснялась с Натальей Павловной на предмет «Розы мира». Книга и в самом деле оказалась собственностью учительницы, с дарственной надписью, ей подарили коллеги на пятидесятилетие.
– Не понимаю, зачем она ему понадобилась! Антон сроду не увлекался ни мистикой, ни религией, ни серьезной литературой вообще… Разве что для отца… Муж – любитель литературных изысков.
– Почему же он не попросил у вас почитать?
Тень скользнула по лицу женщины.
– Об этом надо у него спрашивать. Возможно, раз уж пришел в библиотеку, воспользовался случаем. Почему бы не взять библиотечную книгу?
– Не так все просто… Книга ценная, находится в читальном зале. Работала у нас одно время на преддипломной практике студентка библиотечного колледжа – девица с большим ветром в голове. Никакой ответственности, все ей по барабану, кроме мальчиков. Скорее всего, ваш сын воспользовался своим мужским обаянием, уболтал ее, парень он у вас видный, а она знала, что скоро от нас уйдет, с нее взятки гладки. Я по почерку и по срокам вижу, что ее работа.
Ох, лукавила Наталья Павловна! Зоя Васильевна, уже немножко посвященная в историю болезненного семейного вопроса, понимала, что парню было легче охмурить легкомысленную девицу, чем попросить у матери книгу для отца. Юношеское самолюбие бродит извилистыми тропами.
– Знаете, что? Берите мой экземпляр взамен библиотечного. Можно ведь это как-то оформить?
– Оформить несложно, но как же?.. Ведь это подарок коллег, с дарственной надписью! Память…
– Зоя Васильевна, когда-то в ходу была фраза «сын за отца не отвечает». Но родители всю жизнь отвечают за детей. Все, что делают их дети, и чего они не делают – вина и заслуга родителей. Что я вам говорю прописные истины! У вас есть дети?
– Сын и дочь.
– У вас никогда не было повода огорчаться или стыдиться за них?
Зоя вынуждена была признать, что такие поводы были.
– А память… Память – да, жалко, хорошие слова коллеги написали. Учительница литературы стихи сочинила. Ничего, я их перепишу на открытку!
– Нет, это будет уже не то… Знаете что, Наталья Павловна? У нас в библиотеке ксерокс, я вам их отксерокопирую на открытку, и автографы сохранятся!
– Буду очень признательна!
Как и процесс чаепития, и общий труд, порывы великодушия тоже сближают, и хочется быть все великодушнее и великодушнее!
* * *
– Угощайтесь, – сказала Наталья Павловна, когда расселись опять за столом. Зоя-то с Люсей уже пошли по второму кругу, а Милу чаем никто не угощал. А потому рука ее, повинуясь безусловному рефлексу, рванулась к тарелке с нарезаным аппетитными кусками свежайшему румяному лавашу, принесенному хозяйкой, и не менее аппетитным кусочкам брынзы, которую Мила обожала.
А Наталья Павловна все мялась, не зная, с чего начать.
– Ладно, Натка, – пришла, наконец, ей на выручку мать. – Давай я начну. В конце концов, это я с Ольгой дружила, и от меня ты сама все узнала. Я – первоисточник! – напомнила она о своем амплуа.
Ольга родом с Южного Урала, родители ее всю жизнь прожили в Челябинской области, в маленьком городке. Родители – коренные уральцы – дальше Челябинска никуда не выезжали и упокоились на старом городском кладбище среди многочисленной родни. Когда бы пришел ее час, нашлось бы и ей там местечко. Да судьба распорядилась так, что пришлось ей умереть в чужих краях и лежать в соленой поволжской земельке, среди чужих людей.
Из близких родственников со стороны мужа на старом кладбище нашла свой последний приют только его бабушка – Чумаченко Евдокия Тихоновна.
Дуся Тонконогова (в девичестве – Вохминцева) была тридцатипятилетней вдовой с тремя дочерьми-малолетками на руках, когда в их рабочем городке объявился хохол Иван Чумаченко. Случились это году в тридцать третьем. Он устроился учеником токаря на напилочный завод, а учительницей его выпало быть токарю Дусе Тонконоговой. Роман их начался сразу же. Оба были видными, из первого десятка не выкинешь. Правда, она была старше на два года и имела трех детей (муж погиб под поездом по пьяной лавочке), но Иван в свои тридцать три года не имел никакой специальности, приличной зарплаты и своего жилья да еще и с легкими был у него непорядок, все кашлял. Иван сразу предупредил, что не туберкулез, избили его сильно, когда-то в банду его внедряли, оказывается, он в органах работал. (Где конкретно – не уточнял, не любил подобные разговоры и расспросов не допускал, но Дусе понятны стали и его угрюмость, и отсутствие всякой специальности в таком солидном возрасте).
Так что их брак, зарегистрированный через год, ни для одной из сторон не был мезальянсом, хотя некоторым одиноким бабенкам таковым и казался. Еще через год родился сын, Алексей, последний ребенок Дуси и первый – Ивана. Жили они, можно сказать, хорошо. Главное – Иван не пил. Дусю, человека веселого, компанейского, хлебосольного, удивляла его нелюбовь к застольям, праздничным компаниям, встречам с родственниками, даже к обычным мужским посиделкам-перекурам. Молчалив был молодой муж, все дома и дома, что-то мастерит, управляется по хозяйству или в огороде, или читает газету. И подруг Дусиных постепенно отвадил. В остальном все было хорошо, ни жену не обижал, ни детей, дочки сразу же папой его стали называть, а Алешу любил без памяти.
Когда началась война, Ивана тоже призвали, хоть и кашлял – не туберкулез же. Накануне ухода, после ночных прощальных объятий, закурил и, помолчав, сказал:
– Не знаю, вернусь ли… Хоть и не передовая, но пуля – дура, и от судьбы не уйдешь. Спасибо тебе, ты была мне хорошей женой. Тяжело тебе будет с детьми… Никогда тебе не говорил, видно, пришло время. Портфель мой помнишь?
– Какой портфель?.. А-а-а, ну да, помню. Только я его сто лет не видела, думала, ты выбросил его.
Когда Иван переехал к ней в дом, приданое у него было – всего-ничего: старенький чемоданчик с бельишком и старый же, потрепанный, облезлый рыжий портфель, который потом незаметно куда-то делся.
– Нет, не выбросил… Он здесь, под кроватью.
– Где под кроватью? Ни разу не видела!
– Раньше не видела, теперь увидишь.
– А где же он был раньше?
– Где был, там уж нет. Да и ты, как меня проводишь, убери его куда подальше, а как нужда припрет, достань. Для детей ничего не жалей, сбереги их.
– А что там такое, в портфеле?
– Увидишь! Спасибо тебе еще и за то, что не любопытничала, как остальные бабы: не совала нос, куда не следует, не приставала с расспросами, не обшаривала карманы.
Что правда, то правда: Дуся была напрочь лишена женского любопытства по части того, что ее напрямую не касалось, и порой даже досадовала на себя за отсутствие у себя этой черты. Это случалось, когда подруги обсуждали какую-то громкую историю, а она выглядела полной дурочкой, будучи абсолютно не в курсе.
Утром едва не проспали, забывшись после бессонной ночи коротким сном. Обнимая жену в последний раз у калитки, Иван стиснул ее так, что косточки хрустнули, и сказал тихо:
– Люблю тебя, всегда любил. Тебя мне Бог послал, хоть я в него и не верю. Но он, наверно, все-таки есть. Одно знай: чужой крови на мне нет. – Усмехнулся:
– До сих пор не было. А остальное… Бес попутал… Но, видно, грехи мои мне простились, раз тебя мне подарили.
И ушел. И больше не вернулся.
А Дуся, отплакав, стала жить дальше, как все: работать, тянуть детей, пустила на постой эвакуированную семью.
В портфель она заглянула в тот же день. В нем были несколько писем – от родителей Ивана и его сестры, единственном ее письме, в котором она сообщала о смерти родителей, был значок ВЧК – на фоне красного знамени профиль Дзержинского – и был небольшой тяжеленький мешочек – кисет, доверху наполненный золотыми кольцами, брошками, ожерельями. Кольца были разных размеров, обручальные и перстеньки с камушками разных цветов. Одно большое обручальное кольцо, тяжелое, толстое, видно, что мужское, было с гравировкой. Лизанька – Никита было выгравировано на внутренней поверхности. У Дуси захолонуло сердце. Все последующие дни она ходила как пришибленная и все думала, думала. Не в тайге жила – слышала об обысках, расстрельных командах… Кем был ее любимый Ваня? Откуда это богатство у него? Не зря ведь прятал его. Понятны стали и его угрюмость, и его нежелание общаться с людьми, и нелюбовь к спиртному – боялся за пьяный дурной язык.
Был один-единственный случай, когда он хорошо набрался в гостях у Дусиных дяди с тетей на серебряной свадьбе – не пойти было нельзя. Назревала, как водится, драка, – в разгар застолья начались внутрисемейные разборки, и Дуся Ивана утащила домой, поскольку с удивлением отметила желание мужа поучаствовать в акции. Иван ушел, но дома добавил и, сидя за накрытым женой на скорую руку столом в одиночестве, произносил нескончаемый монолог, а точнее, диалог. В диалоге этом один участник был пристрастным и грозным обвинителем, другой – обвиняемым, несущим жалкий оправдательный лепет. Дуся и не вслушивалась в этот пьяный бред, но, снуя туда-сюда, убрать-принести, кое-что слышала, а теперь память ей услужливо напомнила.
– Я один такой, что ли? – вопрошал обвиняемый. Не я, так другой!.. У воды быть, да не замочиться!
Она могла сколько угодно изводить себя мыслями и догадками, но поделиться ни с кем не могла: позор на всю оставшуюся жизнь и на все их племя, да и с точки зрения закона для всех это плохо кончилось бы. Муж-мародер, хотя она всеми силами души искала ему оправдание. Может, он за эти побрякушки кому-то жизнь спасал? Тоже ничего хорошего, но ведь простой деревенский парень, голь перекатная, не устоял перед искушением. И если его поймали на мародерстве, то почему не расстреляли? Нашлись заступники или поделился награбленным с влиятельным человеком? И как умудрился сохранить остальное? Она даже представить не могла те обстоятельства, в каких пришлось побывать ее Ване! Судя по наградному значку, муж ее был на хорошем счету на своей службе.
Но и не выбросишь же этот проклятый мешочек – воплощение крови и подлости. Вернется Ваня – разберемся. Только бы вернулся! И Дуся оставила в портфеле письма и значок и поставила его за футляр со швейной зингеровской машинкой: вроде бы и глаза не мозолит, но и в доме присутствует. Мешочек же засунула в старый отцовский кирзовый сапог, что валялись в сарае, и, дав себе мысленно клятву не прикасаться к нему ни при каких обстоятельствах, постаралась о нем забыть. И забыла, до поры, до времени.
Устроить мужу допрос и выяснить историю драгоценностей Дусе не пришлось. Похоронка пришла в конце первого года войны. Уральские богатые леса обеспечивали грибами-ягодами, озера – рыбой, земелька – знатной картошкой, но Дусе надо было тянуть четверых детей. Она тянула, сколько могла, но настал час, когда пришлось вспомнить о проклятом мешочке и наказе мужа сберечь детей.
Завпроизводством в столовой, у которого морда едва не трескалась, так что сразу было понятно, что именно по этому адресу стоит обращаться, согласился купить у Дуси принесенные ею колечко и брошку, якобы мамины, за продукты. Потом пришел черед еще двух колечек, якобы мужем дареных. Но вскоре завпроизводством куда-то делся, пришлось искать другого покупателя. Это было и хорошо, потому что сошли старые легенды о мамином наследстве и мужниных подарках. К концу войны и по истечении трех первых послевоенных лет мешочек почти опустел. Но, даже когда подросшие дочери одна за другой повыскакивали замуж и поразъехались, мать ни одной из них на свадьбу не подарила ничего из оставшихся украшений. Не хотела она передавать им в наследство чужое несчастье.