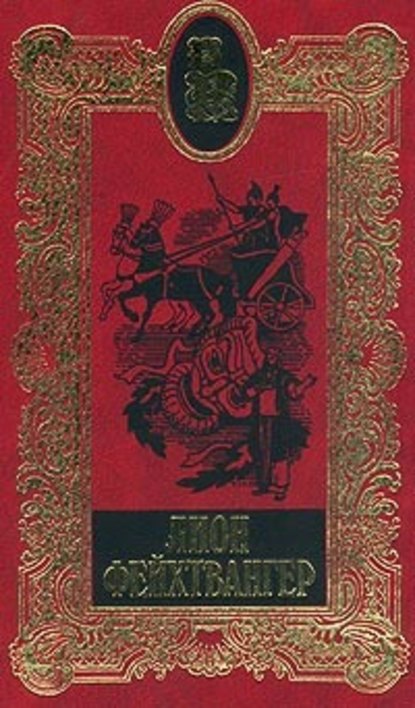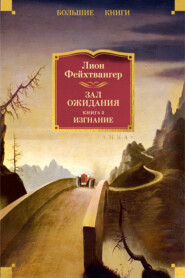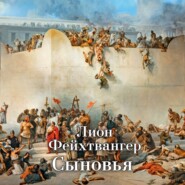По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сыновья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Славьте бога и расточайте себя над землями,
Славьте бога и не щадите себя над морями.
Раб тот, кто к одной земле привязал себя!
Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я, –
Имя его – вселенная».
Это хорошие стихи, они выражают именно то, что он хочет сказать. Но они написаны по-еврейски, и в существующем переводе они звучат бедно и немузыкально. Свое воздействие на мир они могут оказать, лишь когда и в греческом тексте зазвучит музыка, музыка, лившаяся со ступеней храма Ягве. Триста лет тому назад Священное писание было переведено на греческий язык; тогда над переводом работали семьдесят два богослова, которым его доверили; они работали как затворники, строго разъединенные, и все же в конце концов текст каждого дословно совпал с текстом остальных, и возникло великолепное произведение. Но таких чудес больше не происходит. Он не найдет семидесяти двух людей, которые перевели бы его псалом. Он не найдет ни одного, кроме, быть может, этого Финея, да и Финей должен был бы приложить всю свою добрую волю и все свои силы.
И все-таки псалом существует, хоть и на плохом греческом языке. Теперь, когда Тит станет императором, писатель Иосиф Флавий может себе позволить снова быть доктором Иосифом бен Маттафием. Он выразит свои чувства чище, глубже, более по-еврейски, хотя бы и на худшем греческом языке. Он откажется от Финея. Хватит с него Финея. Вопреки всему настанет час, когда все народы поймут его псалом.
Вечером этого дня император Тит Флавий Веспасиан лежал в спальне своего старомодного деревенского дома близ города Коссы. Когда он почувствовал, что его конец близок, он приказал отнести себя в полученное по наследству от бабушки этрусское имение, в котором вырос. Он любил этот крестьянский закопченный дом, который строили поколения и к которому каждое делало пристройки. Веспасиан ничего не изменил, оставил дом таким же неудобным и темным, каким тот был шестьдесят лет назад, в дни его детства. Потолок был низкий, почерневший, дверь большой комнаты без окон широко распахивалась прямо на огромный, осененный древним дубом двор, по которому разгуливала свинья с поросятами. Широкая кровать, возвышавшаяся всего на несколько ладоней над полом, была вделана в невысокую нишу. Это было каменное ложе, устланное толстым слоем шерсти, покрытое грубым деревенским холстом.
И вот теперь на эту простую спальню были устремлены взоры великого города Рима, и не только Рима, но Италии и ближних провинций, ибо весть о близкой кончине императора разнеслась словно на крыльях.
Возле императора находилось всего несколько человек: его сын Тит, лейб-медик Гекатей, адъютант Флор, камердинер, парикмахер; кроме того, Клавдий Регин, придворный ювелир, сын сицилийского вольноотпущенника и еврейки, великий финансист, с которым император охотно советовался по вопросам экономики. Веспасиан вызвал этого человека к своему смертному ложу. А своего младшего сына Домициана строго-настрого приказал не допускать.
Семь часов вечера, но сегодня 23 июня, и стемнеет еще не скоро. Император, лежавший на своей грубой кровати, казался страшно худым. Судороги и понос, мучившие его целый день, поутихли, но тем мучительнее было ощущение слабости. Он думал о том, что сейчас же после смерти сенат объявит его блаженным и причислит к сонму богов. Его длинные губы скривились усмешкой, он обратился к врачу, слегка задыхаясь, так как ему трудно было говорить:
– А что, доктор Гекатей, теперь уж ничего не попишешь, теперь я стану богом? Или вы думаете, мне придется подождать, пока стемнеет?
Все с тревогой посмотрели на доктора Гекатея, ожидая его ответа. Гекатей славился своей прямотой. Он сказал и сейчас без всяких недомолвок:
– Нет, ваше величество. Я думаю, что вам не придется ждать ночи.
Веспасиан громко засопел.
– Ну, так вот, – сказал он, – действуйте, дети мои.
Он отдал приказ, когда приблизится смертный час, одеть его, побрить, причесать. Он не придавал особого значения внешнему виду человека, но считал, что сенат и римский народ имеют право требовать от императора, чтобы он умер прилично. Тит приблизился, широкое мальчишеское лицо тридцатидевятилетнего сына было озабоченно. Он знал, как трудно будет умирающему выдержать купанье и одевание. Но Веспасиан сделал отрицающий жест:
– Нет, мой мальчик, дисциплина необходима.
Он попытался улыбнуться адъютанту Флору. Дело в том, что Флор, всегда стоявший на страже приличий, страдал от пренебрежения императора к внешним формам, от его грубого диалекта. Еще три дня назад, когда Веспасиан назвал городок Коссу, куда хотел отправиться, «Кауза», Флор не удержался, чтобы его не поправить, сказав, что город называется не Кауза, а Косса, на что император ответил адъютанту Флору:
– Да, я знаю, Флаур.
– Дисциплина необходима, – повторил он с некоторым трудом на диалекте. – Не правда ли, Флаур?
Умирающего выкупали. Иссохший старик, – грубая, морщинистая кожа, покрытые грязно-белыми волосами живот и грудь, – висел, пыхтя, на руках своих приближенных. Его вытерли, парикмахер склонился над ним с бритвой. Это был хороший парикмахер, он учился у первоклассного египетского мастера, но в качестве придворного парикмахера бедняга имел мало возможностей показать свое мастерство. Вместо прекрасного галльского мыла ему приходилось пользоваться дешевой лемносской глиной, ибо император считал мыло слишком дорогим и после купания не позволял натирать себя настоящим нардовым бальзамом[4 - Нардовый бальзам – масло, добывавшееся из корней благовонного растения нарда и ценившееся очень высоко.], а требовал ужасную неаполитанскую имитацию. Сегодня парикмахеру было разрешено употреблять все самое драгоценное. Из маленькой коробочки – алебастр и оникс – подарок провинции Вифинии[5 - Вифиния – страна на северном побережье Малой Азии.], он вынул бальзам, ту драгоценнейшую в мире мазь, которую вывозили ничтожнейшими порциями из глубин Аравии. В мире существовали только две коробочки с таким бальзамом, и обе принадлежали еврейской принцессе Беренике. Одну из них она много лет назад подарила принцу Титу, и он отдал ее сегодня в распоряжение парикмахера. Низкая крестьянская горница была полна благородного аромата, к которому временами примешивался доносившийся со двора запах свиней.
– Ну, Флаур, – сказал император, – я надеюсь, что теперь от меня хорошо воняет.
Все вспомнили, как однажды, когда Тит возмущался введенным Веспасианом недостойным налогом на отхожие места, отец поднес к его лицу сестерций, уплаченный по этому налогу, и спросил: «Ну как, по-твоему, воняет?»
Наконец умирающий был выкупан, умащен благовониями и приказал надеть на себя пурпурную парадную одежду, башмаки знати первого ранга на толстой подошве и с черными ремнями. Когда с этим было покончено, он глубоко вздохнул, велел уложить себя обратно в постель.
– Стакан ледяной воды, – приказал он. Веспасиан видел, что присутствующие колеблются. – Ведь теперь это уж не имеет значения, – обратился он к врачу. – Не правда ли, доктор Гекатей?
Доктор чистосердечно ответил:
– Это будет стоить вам не больше десяти минут жизни.
Ему принесли кубок снеговой воды. Вода закапала в его пересохший рот, она была очень сладкая. Вероятно, доктор Гекатей подмешал туда наркотическое средство, чтобы облегчить его страдания. Император слизнул шершавым языком последние капли с длинных потрескавшихся губ. Но теперь, пока он в сознании, он должен еще раз внушить ему.
– Смотрите же, поставьте меня на ноги, когда я сделаю знак пальцем. Я хочу умереть стоя. Пожалуйста, без ложной жалости. Обещайте мне. Обещайте именем Геркулеса.
Он сделал гримасу своему сыну Титу. Тот однажды заказал дорогое и подробное родословное древо их династии, возводя ее к Геркулесу. Но если Веспасиан в вопросах представительства и подчинялся своему сыну, тут он запротестовал. Его отец был податным чиновником, затем банкиром в Швейцарии, его дед держал откупную контору, прадед – контору по найму батраков. Дело обстояло именно так, а не иначе. Он решительно на этом настаивал. Геркулес тут ни при чем.
Он засопел, взглянул, прищурившись, во двор, расстилавшийся перед ним, серый и спокойный. С моря поднялся легкий вечерний ветер, было слышно, как он шумит листвою дуба. Скоро появятся звезды; вечернюю звезду, вероятно, уже видно.
Хорошо, что дело идет к концу. Пока что умирать сравнительно просто. Когда он, в угоду своему сыну Титу, взошел на триумфальную колесницу, чтобы отпраздновать победу над евреями, и должен был целый день разъезжать стоя, в тяжелых одеждах капитолийского Юпитера, это, милые мои, было куда труднее. А теперь ему придется простоять самое большее несколько минут.
Он много и без толку слонялся по свету. В Англии дрался с варварами, в Риме – с сенатом и военным кабинетом. В Иудее его ранили, в Африке забросали конским навозом, в Египте – селедочными головами. Жизнь его протекала бурно. Он был градоправителем Рима, консулом, триумфатором, но был также и экспедитором, посредником по добыванию титулов, агентом по сомнительным финансовым операциям, несколько раз терпел банкротство. Если он не сдался, то это, в сущности, заслуга вон того дуба во дворе, старого священного Марсова дуба. Этот дуб, как неоднократно рассказывали мать и бабушка, дал при его рождении невероятно пышный побег, в знак того, что он, Веспасиан, предназначен судьбой для чего-то высшего. Правда, он достаточно долго срамился, этот священный дуб. Веспасиан кряхтел, когда сначала мать, а затем его подруга, госпожа Кенида, ссылаясь на дуб, мучили его все вновь и вновь, утверждая, что он не имеет права, как ему того хотелось, довольным крестьянином спокойно осесть в этом имении. Ну да, и он, проклиная, продолжал пробиваться вперед. В конце концов дуб все же оказался прав, и его мать и бабушка, чьи закопченные восковые бюсты стоят в сенях[6 - В атриуме (буквально это слово означает: «помещение, почерневшее от копоти»), то есть в первой от входа комнате дома – гостиной (в городских домах) или сенях (в деревне), висели на стене восковые маски заслуженных предков в назидание и в пример потомству. Их выносили в особо торжественных погребальных процессиях, надевая вместе с соответствующим костюмом, чтобы воочию представить знатную родословную умершего.], могут быть довольны.
Смеркается. Его мысли затуманиваются и путаются, наркотик начинает действовать. Чья-то жирная рука отгоняет комаров, которые все вновь пытаются опуститься на потную твердую кожу его лица. Он щурится. Это Клавдий Регин отгоняет от него комаров. Полуеврей, но неплохой человек. Сорока миллиардов не хватало, когда Веспасиан взял в свои руки финансы. Сорок миллиардов! От такой суммы не отмахнешься. И этот еврей не отмахнулся. Без него Веспасиан ее бы не добыл.
Клавдий Регин – полуеврей, человек с Востока. Веспасиан знает, что без помощи Востока он никогда не стал бы императором. Но он – римлянин, Восток наводит на него страх, он не любит его. Нужно извлечь из Востока всю возможную выгоду, но особенно якшаться с ним не следует. Как только Восток стал ему не нужен, он от него отстранился. Он не стеснялся отнимать дарованные им привилегии у целых провинций, как, например, у Греции. И этот Иосиф тоже невыносим. Все литераторы невыносимы, а еврейские – вдвойне. К сожалению, без них не обойдешься. Биографии необходимы. Легче умирать, когда знаешь, что оставишь потомству приятный запах. Хорошая книга устойчивей, чем бюст. Книга этого еврея Иосифа проживет долго. И не дорого, в конце концов. Он не истратил на этого человека и миллиона. Смехотворная цена за несколько тысячелетий посмертной славы. Если, допустим, книга просуществует две тысячи лет, то во что же обойдется один день его посмертной славы? Сейчас сочтем. Во-первых, триста шестьдесят пять помножить на две тысячи, затем миллион разделить на произведение. Если бы только не проклятый туман в голове… Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи. Нет. Не выходит. Но, во всяком случае, выгодное дельце.
У него в рукаве комар. То, что он это еще чувствует, – хороший признак. И он обязательно высчитает, во что ему обойдется один день посмертной славы. Надо бы выгнать комара. Но чтобы говорить, нужна сила, а он приберегает свои силы для приличного последнего слова. Римский император должен умереть с приличным последним словом. «Выгоните комара», конечно, неплохо, но в этом мало достоинства.
Комар улетел. Удачная у него, Веспасиана, смерть. Здесь, в старой уютной горнице, выходящей во двор, где дуб и свиньи, можно умереть легко, честь честью, респектабельно.
Его Тит – хороший сын. Пожалуй, слишком честолюбив. Если бы он за ним так зорко не следил, Тит, наверное, уже много лет, как убрал бы отца с дороги. Тит все время пытался навязать ему своего врача Валента. Может быть, он все-таки велел отравить его? Нет. Доктор Гекатей вполне надежен: это просто болезнь кишечника. Две тысячи лет посмертной славы, в общем, за один миллион сестерциев. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи. Впрочем, он не сердился бы на Тита, если бы тот и подсыпал ему маленькую дозу яда. Шестьдесят девять лет, один месяц и семь дней – хороший возраст, таким возрастом можно довольствоваться. Сорок миллиардов долга тоже погашены. Конечно, это было бы не по-дружески, не по-сыновнему, если бы Тит дал ему яду: ведь во время их совместного правления Веспасиан почти никогда не мешал ему. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи… А ведь он всегда так легко считал в уме!
Хорошо, что он отдал приказ не допускать к себе своего сына Домициана. Ему не хотелось, чтобы тот сейчас был здесь – Домициан, «Малыш», «этот фрукт»! Веспасиан не любит его. И зачем проклятый Тит так изблудился? А теперь у него только одна дочь, и он не может отшить Малыша. Братец нужен для династии.
Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи… Нужно было бы иметь здесь философа. Но философов он выгнал из Италии.[7 - В 74 г. н.э. изгнаны были стоики и киники (циники), позволявшие себе резкую критику единовластия и личные выпады против императора.] Есть четыре вида философов. Во-первых, те, которые молчат и философствуют про себя; они плохи и внушают подозрение, потому что молчат. Во-вторых, те, которые читают регулярные лекции; они плохи и внушают подозрение, потому что говорят. В-третьих, те, которые разъезжают с докладами; те особенно плохи и внушают подозрение, потому что говорят очень много. В-четвертых, нищенствующие философы, циники; эти самые худшие, потому что они ходят даже среди пролетариев и говорят. Несмотря на его неприязненное уважение к литературе, он всех этих типов выгнал из страны. Правда, некоторые задирающие нос аристократы заявили, что это плебейство. Ну что ж, он не салонный шаркун: он старый крестьянин. Больше всего разорялся тогда сенатор Гельвидий[8 - Гельвидий Приск – приверженец стоической философии и непоколебимый сторонник республики; за свои убеждения, которых он никогда не скрывал, он подвергался репрессиям еще при Нероне. Веспасиан отправил его в ссылку, а затем, убедившись, что Гельвидий не смирился, приказал казнить.]. Дьявольски смелый тип этот Гельвидий. До самого конца не желал признавать за ним императорского титула. Такая дерзость даже импонирует. Но она неразумна, если не имеешь за собой двадцати полков. Много было злобы, когда его убрали. Однако в биографии Веспасиана эта история все равно не оставит пятна. Ведь когда он увидел, какую бурю вызвал смертный приговор, он его тотчас же отменил. Правда, лишь после того, как его сын Тит отдал распоряжение о казни, так что при всем желании весть об отмене приговора не могла не опоздать. Ловко он тут сманеврировал. В подобных вещах они с Титом всегда понимали друг друга без слов. Они честно вели себя в отношении друг друга. Большую часть радостей, доставляемых властью, он всегда уступал Титу. Зато Тит должен был брать на себя все неприятные обязанности, дабы основатель династии не сделался слишком непопулярным. Ну, популярным он все равно не стал. Когда ведешь себя разумно, трудно приобрести популярность. Но если династия продержится достаточно долго, то она может приобрести популярность, даже если будет разумна.
Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи… Он никак не может высчитать. А ему еще нужно сказать Титу, чтобы тот убрал и младшего Гельвидия, и Сенециона, и Арулена[9 - Сенецион, Геренний – биограф Гельвидия Приска. Эта биография, составленная уже в правление Домициана, стоила Сенециону жизни. Луций Юний Арулен, Рустик – народный трибун 66 г. н.э., претор 69 г. н.э. Он был казнен одновременно с Сенеционом, в 93 г. н.э., за то, что в своих сочинениях восхвалял Гельвидия Приска и его зятя, Тразею Пета, такого же твердого республиканца, как Гельвидий, покончившего с собою по приказанию Нерона (в 66 г. н.э.).], как бы мудро и молчаливо они ни держались, и еще целый ряд других философствующих господ из оппозиции. Теперь можно себе позволить решительные действия. Династия сидит достаточно прочно. И умирающий хитро улыбается: на его собственной биографии уже не появится ни одного пятна.
Ликвидировать этих господ необходимо. Оппозиция доставляет большое удовольствие тому, кто ее создает. Но нужно, кроме того, знать, чем ты рискуешь, и быть готовым поплатиться за это. Если бы только не было так трудно говорить. Он должен зрело обдумать: отдать ли ему остаток своего дыхания на этот совет Титу или на приличное последнее слово.
Жаль, что у Тита нет сына. Юлия, его дочь, премиленькая девушка. Белая, толстенькая, такой аппетитный кусочек, и она носит свою искусную прическу так, будто ее предок действительно Геркулес, а не владелец посреднической конторы. Настоящий крепкий тип римской женщины – это лучшее, что может быть и в обществе и в постели. И тут у старых родов есть чем похвастаться. Нельзя не признать, «фрукт» обнаружил неплохой вкус, когда с такой энергией притащил Луцию к себе в постель.
Огромного труда стоило тогда, восемь лет назад, оторвать Тита от его еврейки. Если бы его самого захотели оторвать от его Кениды, он бы тоже стал брыкаться. Но есть вещи, которых делать нельзя. Вводить такие жирные налоги и вместе с тем держать руку евреев – невозможно, мой милый. Если ты с финансами сел в лужу, нужно натравливать массы на евреев. От этого правила отступать не приходится. У Тита нередко бывает взгляд его матери, и в глазах – то странное, дикое, безответственное, то, откровенно говоря, немного безумное, что Веспасиана всегда пугало в Домитилле. К тому же, мальчик помешан на аристократизме. Он, вероятно, только потому с таким неистовством втюрился в еврейку, что она древней царской крови. Нужно надеяться, что после его смерти Тит не спутается с ней опять.
Ветер усиливается, слышно, как он шумит листвою дуба. Славный старый дуб. Он оказался прав. Стало немного свежее: благовония, которыми умащен Веспасиан, улетучились. Свиньи ушли в свой закуток. Веспасиан – старый крестьянин: настал вечер, и все дела кончены, он может спокойно умереть. До сих пор он немного боялся, как бы у него опять не заболел живот и он не обмарал свои драгоценные погребальные одежды. Но сейчас он уверен, что за те несколько минут, пока это еще протянется, с ним больше ничего не случится. Он честь честью доведет свое дело до конца. И когда в его похоронной процессии перед ним будут шествовать его отцы и праотцы, его мать и бабушка, он тоже не ударит лицом в грязь. Все, что сделано его предками – банкиром, владельцем конторы, посредником, а также трудолюбивыми землевладельцами с материнской стороны, – все это влилось в него, как реки в широкое море. Он управлял имением, он поставил его превосходно, оно процветало, оно стало огромным, оно распространилось за море, стало всем миром, – море только часть его имения, – оно охватывает Азию, Африку, Англию. Его имение называется Рим.
Уже почти стемнело. Его сын стоит на пороге широкой двери, которая ведет во двор. Он невысокий, но крепкий и статный, у него круглое, открытое лицо, короткий, круто выступающий треугольником подбородок. Веспасиан видит своего сына, он слышит, как шумит ветер в ветвях дуба, его заросшие волосами уши полны этим ветром. Издали, сквозь ветер, он слышит звуки труб, – так же они гремели, когда он в Англии или в Иудее отдавал приказ идти в атаку. У его Тита, к сожалению, нет чувства юмора, но зато в его голосе иногда слышится отзвук этих труб. Веспасиан может спокойно дать обожествить себя, спокойно войти в число богов. Если Геркулес и не был его предком, он все же может позволить себе говорить с ним, как мужчина с мужчиной. Они будут подталкивать друг друга в бок, Геркулес рассмеется и опустит свою палицу, они сядут рядышком и будут рассказывать друг другу анекдоты.
Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи… Туман в его голове вдруг рассеивается, и наступает острая ясность. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи – очень просто: это будет семьсот тридцать тысяч. На круг – он истратил на этого Иосифа миллион. Значит, один день посмертной славы обойдется ему меньше чем в полтора сестерция. Прямо даром!
Он испытывает легкость и полную удовлетворенность. Сейчас уже будет пора. Еще немного, еще две минуты, еще одна… Он должен выдержать. Он должен сохранить достоинство ради дуба.
Он делает рукой условный знак, слабый, едва приметный. Но они замечают, они приподнимают его. Не надо! Ему страшно больно. Он чудовищно слаб, пусть они оставят его на кровати. Но у него нет сил это сказать. Он ведь должен что-то сказать. Но что? Он же знал совершенно точно. Много дней готовился он к своему последнему слову. Они приподнимают его еще выше. Это невыносимо, но у них нет жалости.
Снаружи долетает ветер. Становится немного легче. Пусть не жалеют его. Нужна дисциплина. Он хочет умереть стоя, – так он решил.
И действительно, он стоит, или, вернее, виснет, обхватив за плечи своего сына Тита и своего советчика Клавдия Регина, которые поддерживают его. Он тяжело повисает, клонясь вперед, он жалостно пыхтит, по твердой коже его лба стекает пот, капли пота выступили на огромной лысине.