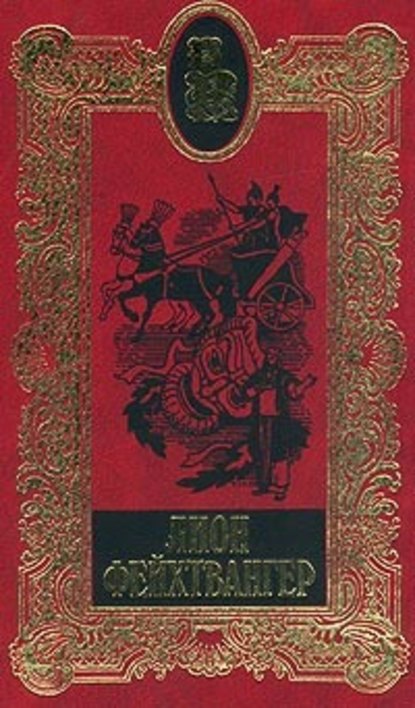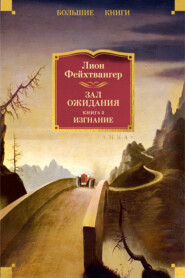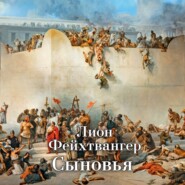По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сыновья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Может быть, вы разрешите мне принять участие в похоронах отца? – спрашивает он с напускным смирением.
– Что это значит? – сердится Тит. – Конечно, ты пойдешь рядом со мной за носилками.
– Очень любезно с вашей стороны, – благодарит Домициан все с тем же напускным смирением. – А вы приказали, чтобы в шествие были включены и трофеи из триумфа над Иудеей? – заботливо осведомляется он. Этот вопрос задан неспроста: в погребальное шествие обыкновенно включается то, что напоминает о заслугах покойника; трофеи же, взятые в Иудейской войне, – это заслуга Тита, а не Веспасиана.
Тит стоял теперь у письменного стола. Он был гораздо меньше ростом, чем Домициан, но сейчас он разозлился и так презрительно посмотрел снизу вверх на Малыша, что тот не выдержал его взгляда. Тит вспомнил об умершем, который лежал внизу, в зале, одетый в пурпур триумфатора; мимо его пышного ложа проходили теперь бесконечной вереницей римляне. Что ответил бы он, что ответил бы отец «этому фрукту»? – старался себе представить Тит. И он нашел ответ:
– Мне положили на стол твои счета, – сказал он холодно, деловито. – На одном твоем имении у Альбанского озера миллион двести тысяч новых долгов. В утерянном отцовском завещании было что-нибудь и о твоих долгах?
Домициан поперхнулся. Отец всегда давал ему денег в обрез, так что пришлось бросить в самом начале недостроенными виллу и театр на Альбанском озере, роскошные здания, начатые им для Луции.
– Не поговорить ли нам наконец серьезно? – начал снова, уже другим тоном, Тит. – Я хочу мира с тобой, я хочу дружбы. У тебя будут деньги. У тебя будет возможность строиться, у тебя будет для Луции все, что ты захочешь. Но будь благоразумен. Дай мне покой.
Домициан испытывает сильный соблазн согласиться. Но он знает, что нужен Титу, на нем держится династия, Марулл уверил его, что можно выжать из брата гораздо больше.
– Не забывайте, пожалуйста, о том, – отвечает он, – что мне по праву принадлежит весь мир. Разве вы на моем месте отступились бы за горсть сестерциев?
Тит, улыбаясь, выписал чек и квитанцию.
– Словом, берешь ты деньги или не берешь? – спрашивает он.
– Разумеется, беру, – бурчит, нахмурившись. Малыш, подписывает квитанцию и прячет чек за широкую пурпурную кайму своей парадной одежды.
Тит чувствует, что обессилел. Все последние годы таилась в нем эта усталость. Он ждал власти так долго. Сколько раз он тешил себя мыслью о том, чтобы взять эту власть силой; ему было очень трудно принудить себя к ожиданию, но он был благоразумен, он переборол себя. Он надеялся, что, когда станет по праву и закону владыкой мира, его усталость исчезнет, ее смоет огромное чувство счастья. И вот это время наступило, старик лежит внизу, в зале. Но усталость не исчезла, он охвачен, как и прежде, глубоким равнодушием; этот первый шаг к желанной цели разочаровал его. Теперь во всем мире для него существует только две приманки. Одна – быть с Береникой, с Никион, связать себя с нею навеки; другая – завоевать этого человека, своего брата. Неужели Тит действительно не в силах этого добиться? Сумел же он привлечь к себе армию, сделать так, что даже трезвый, скрытный отец по-своему любил его, что Никион, несмотря на преданность своему древнему народу, простила ему разрушение храма и любит его. Неужели он бессилен перед этим мальчишкой? Для чего их мелочная, жалкая грызня?
Он встает, подходит к сидящему Домициану, обнимает его за плечи.
– Будь благоразумен, Малыш, – снова просит он. – Не нужно глупостей, которые в конце концов повредят тебе же. Не вынуждай меня быть с тобой суровым.
Он делает ему новые предложения, желая доказать искренность своих намерений. Чтобы окончательно привлечь симпатии народа к династии, он решил начать постройку роскошных общественных зданий, он будет устраивать общественные игры, каких еще не видели. Пусть Малыш, в качестве смотрителя игр и строительства утверждает планы и пожинает славу.
Домициан еще выше вздернул верхнюю губу. Он сидит прямо и неприступно. Наверно, все это западни, которые ему расставляет Тит. Он хочет окончательно привлечь симпатии народа к династии? Ага, брат понимает, как мало он популярен! Домициан нужен ему, ему нужно имя младшего брата! Он хочет возводить роскошные здания. Ага, он собирается переманить к себе лучших архитекторов, всех его Гровиев и Рабириев!
– Я хочу быть соправителем или ничем, – говорит он враждебно, упрямо.
Тит слушает его. В нем закипает гнев. Но он не должен дать ему волю. Если он вспылит, то испортит дело окончательно. Чтобы сохранить спокойствие, он повторяет про себя все, что можно сказать в оправдание брата. Ребенком его держали в ежовых рукавицах; затем, когда он едва достиг восемнадцати лет, ему вдруг пришлось стать заместителем отца в Риме, управлять половиной мира. Не удивительно, если у человека закружилась голова. Брат не лишен способностей. У него есть идеи, есть энергия. Та страстность, с которой этот восемнадцатилетний юноша заставил молодую цветущую Луцию развестись и выйти за него, импонировала. Импонировало и молодечество, хоть и ненужное, с каким он отправился тогда в армию. Неужели нет способа заставить брата почувствовать, насколько нелепо его недоверие и не нужны его происки?
Такого средства нет. Домициан ничего не чувствует.
– Ты, конечно, привлечешь к участию в траурном шествии твоего Деметрия Либания? – спрашивает он злобно.
До того Тит колебался, сделать это или нет. Теперь, раздраженный тоном брата, он, несмотря на все усилия, не в силах сдержаться:
– Да, – говорит он резко, – я позволю себе привлечь этого артиста.
– Ты знаешь, – возражает ядовито Домициан, и теперь уже его вежливости конец, его голос срывается, – что отец выбрал бы Фавора. И никого другого. И, уж конечно, не твоего еврея с его вульгарным переигрыванием.
– А твой Фавор разве скромнее? – насмешливо отзывается Тит. – Разве куплет о свиньях скромнее?
Несмотря на металлический звук его голоса, Демициан на этот раз не робеет.
– Этого следовало ждать, – ответил он, – что твоему восточному вкусу свиньи не понравятся.
Тит злится на себя, что поддался мальчишескому задору брата, что не выдержал. Он делает последнюю отчаянную попытку помириться с ним.
– Я не могу тебя сделать соправителем, – говорит он; его измученный взгляд обращен вовнутрь. – И ты знаешь причины. Все остальное я тебе дам. Женись на Юлии.
Домициан поднимает голову. Это больше, чем он ожидал. Если Тит предлагает ему жениться на Юлии вместо того, чтобы прикончить его, это не пустяк. Кто знает, надолго ли хватит у Тита терпения, не решит ли он однажды освободиться от опасного соперника, устранить его. Будь он, Домициан, на его месте, он давно бы это сделал. Если он женится на Юлии, то жизнь и право на престол ему обеспечены. Кроме того, Юлия красива. Белокурая, упитанная, с белой кожей, полная томной, пленительной лени. С минуту он колеблется. Но скоро к нему возвращается прежнее недоверие. Брат хочет, чтобы он женился на Юлии, развелся с Луцией? Ага, Тит желает иметь Луцию для себя, хочет показать, что женщина, на которой женился его брат, должна считать за честь стать его подругой. Ошибся, мой милый! На эту удочку он, Домициан, не попадется.
Он представляет себе, как будет рассказывать своим друзьям, сенатору Маруллу и адъютанту Аннию, об этом разговоре, как он прежде всего, торжествуя, расскажет о нем своей дорогой Луции. До мельчайших подробностей опишет он ей беспомощные усилия брата уговорить его и то, как он, Домициан, угадал его хитрость и отшил его. Луция будет смеяться; она хорошо смеется, и когда ему удастся ее рассмешить, от нее многого можно добиться. Он очень недоверчив, люди – дерьмо, он в этом глубоко убежден, но когда Луция смеется, он счастлив. Может быть, если она посмеется хорошо и одобрительно его рассказу, то позволит ему поцеловать шрам под своей левой грудью, прикасаться к которому она так часто ему запрещает.
– Я отдаю должное вашим добрым намерениям, брат, – заявляет он наконец очень вежливо, – но это ничего не меняет в вопросе о моих правах. Сокрытие завещания остается преступлением, его, быть может, можно простить, но нельзя искупить подобными предложениями. Я оставляю за собой свободу действий, – заканчивает он, кланяется, уходит.
Когда он затем, 30 июня, шагал за носилками отца, нельзя сказать, чтобы он испытывал недовольство. То, например, что в шествии несли столы для хлебов предложения и золотой семисвечник, взятые в качестве военной добычи в Иудейскую войну, и что таким образом восторжествовала правда и покорителем Иудеи был признан Веспасиан, а не Тит, – этого добился он, брату пришлось согласиться. Чем дольше продолжалась церемония, тем большее удовлетворение испытывал Домициан. Хорошо, что старику уже крышка. Тит прав, теперь достоинство династии можно поддержать совсем иначе. Правда, покойный отец, который полулежит там, в позе живого, на высоких носилках, опершись щекою на руку, не отличается особым достоинством, несмотря на императорские пурпурные одежды. Но процессия предков, идущих впереди, являет собой в высшей степени внушительное зрелище. Теперь у Тита и у него наконец развязаны руки. Актеры, движущиеся впереди бесконечной вереницей на конях, пешком, лежа на носилках и воплощающие предков в их масках, изображают отнюдь не владельца откупной конторы и не посредника, но полководцев, верховных судей, президентов, и их шествие завершает Геркулес, родоначальник династии. Пусть доказательства, подтверждающие таких предков, довольно сомнительны, но если их показывать массам достаточно часто, в них поверят, – он сам уже начинает в них верить.
Рядом с более крепким младшим братом Тит кажется несколько усталым. Время от времени он бормочет вместе с хорами:
– О Веспасиан, о отец мой, Веспасиан! – Но это только машинальное движение губ. Он страдает от жары, от своей вялости. Может быть, Малыш подсунул ему яд, ползучий, медленно действующий? Правда, его врач Валент это отрицает, а Валент достоин доверия. Может быть, действительно его усталость – результат бурной, беспокойной жизни. Может быть, последствие болезни, которой его заразила женщина. Может быть, не яд и не болезнь, а просто кара еврейского бога.
Девять лет прошло с тех пор, как сожгли дом этого бога. Не он – они. Он обещал Беренике пощадить храм и сделал, что мог. Если в конце концов вышло иначе, он в этом повинен не больше, чем его отец, и если он приказал нести в траурном шествии захваченную тогда храмовую утварь, то он по праву уступает умершему честь этого триумфа, но тем самым сваливает на него и всю ответственность за оскорбление еврейского бога.
Он отчетливо помнит, как отдал тогда первому центуриону Пятого легиона приказ на роковое 29 августа: «Если противник будет препятствовать производству работ по тушению и уборке, его следует энергично отбросить, однако сохраняя постройки, поскольку таковые входят в состав самого храма» – так сформулировал он свой приказ. Он застраховался. Военный суд тогда все выяснил. Первая когорта Пятого легиона получила от военного руководства выговор за то, что не предотвратила пожар. Чтобы оправдаться, он даже не нуждается в хорошем адвокате.
Правда, остается другой вопрос: смог ли бы лучший оратор и хитроумнейший адвокат, будь то сам Марулл или Гельвидий, оправдать его перед проклятым хитрым восточным богом, перед этим невидимым Ягве? Центурион Пятого легиона повторил, согласно уставу, полученный приказ. Тит видит его перед собой, этого капитана Педана, как он стоял тогда перед ним, мясистый, с голым, розовым лицом, массивными плечами, мощной шеей, с одним живым и одним стеклянным глазом. Он еще будто слышит, как капитан, повторяя приказ, произносил его своим пискливым голосом. Затем, сейчас же после того, как Педан кончил, наступила крошечная пауза. Тит и теперь хорошо помнит ощущение, испытанное им во время этой крошечной паузы, – нужно разрушить вон то белое с золотым, храм этого жуткого невидимого бога, его нужно растоптать; вот что он тогда почувствовал. Иерусалим должен погибнуть, Hierosolyma est perdita, начальные буквы этих слов, – хеп, хеп, – вот что он тогда почувствовал совершенно так же, как и его солдаты. Но что он почувствовал – это его дело. Мысли невидимы, отвечать нужно только за свои дела. Возможно, конечно, что этот хитрый Ягве придерживается другой точки зрения, он, который, несмотря на свою незримость, решительно все замечает. Может быть, он поэтому сейчас и мстит ему, насылает на него болезнь и лишает всякой радости и энергии. Может быть, умнее было бы вместо доктора Валента посоветоваться с хорошим еврейским священником. Надо это обсудить с евреем Иосифом.
Ах, если бы он мог это обсудить с Береникой! Если бы она была здесь! Ведь это ради нее он устроил огневую сигнализацию. В Иудее, наверно, давно уже известно, что старик умер. Вероятно, узнала об этом и Береника в своих уединенных иудейских имениях. Наверно, она понимает, как нужна ему, и давно отправилась в путь.
– О Веспасиан! О отец мой, Веспасиан! – произносят его губы. Но его мысли заняты Береникой. Он высчитывает, что при попутном ветре она может быть здесь уже через десять дней.
Наконец шествие достигло Форума. Останавливается перед ораторской трибуной. Тит всходит на трибуну. Он хороший оратор, надгробные речи – благодарная задача, он хорошо подготовился. На скрытой в складках рукава табличке он сделал стенографические заметки. Итак, вполне уверенный в себе, он начинает говорить даже с известным удовольствием. Однако, как ни странно, он скоро отклоняется от того, о чем хотел сказать. Он почти не упоминает об английском походе умершего и говорит очень мало о спасении государства и стабилизации народного хозяйства, но металлическим голосом командующего, в длинных фразах прославляет он взятие и разрушение Веспасианом Иерусалима, этого никем до тех пор не завоеванного города. С удивлением слушали его римляне, Домициан откровенно ухмылялся. Удивлены были и евреи: почему новый император не желал признать себя разрушителем храма? К добру это или к худу, что новый владыка словно хочет сжечь свои деяния вместе с останками прежнего императора?
На Марсовом поле был сложен огромный костер в виде пирамиды в семь все уменьшавшихся кверху этажей. Пирамида эта была покрыта затканными золотом коврами; барельефы из слоновой кости и картины прославляли деяния человека, который вот-вот станет богом. Дары, принесенные умершему сенатом и народом, были разложены на этих семи этажах: кушанья, одежда, драгоценности, оружие, утварь – все, что на том свете могло ему пригодиться или доставить удовольствие. Далеко разносились вокруг ароматы смол, курений, благовонных масел, которые должны были заглушить смрад костра.
Крыши окружающих зданий – театров, бань, галерей – были усеяны зрителями. Для тех, кто не мог принять участие в процессии, ибо расстояние между Палатином и Марсовым полем оказалось недостаточным, чтобы вместить всех, имевших на это право, были возведены четыре большие трибуны.
На одной из них отвели места для представителей семи иудейских общин Рима. К ним присоединился и Клавдий Регин. Места были очень хорошие, и иудеи рассматривали это как благоприятный знак.
Давно пора повеять более дружелюбному ветру. Правительство в свое время не заставило римских евреев нести кару за Иудейское восстание. И все-таки разрушение их государства и их храма причинило им тяжкое горе. Хотя многие семьи жили в Риме уже полтора века, они не переставали считать Иудею своей родиной и через каждые несколько лет, полные благочестивой радости, совершали паломничество на праздник пасхи в Иерусалим, к дому Ягве. Теперь они навеки утратили свою истинную родину. И, помимо того, изо дня в день им напоминали особенно унизительным образом о разрушении их святыни. Именно этот человек, тело которого проносили теперь мимо них, не пожелал подарить им те небольшие отчисления, которые они делали раньше в пользу Иерусалимского храма. Наоборот: злорадно издеваясь, отдал он приказ, чтобы все пять миллионов евреев, живших в Римском государстве, отныне вносили этот налог на культ Юпитера Капитолийского. Под страхом смертной казни им было запрещено приближаться к развалинам храма ближе, чем на десять миль; и вместе с тем в насмешливом великолепии перед ними вздымалось обновленное на их деньги святилище Капитолийской троицы[16 - Капитолийская троица – Юпитер, Юнона и Минерва. Центральная часть Капитолийского храма принадлежала Юпитеру, а боковые приделы, или часовни, – Юноне и Минерве.], дом того самого Юпитера, который, по мнению римлян, победил их Ягве и поверг его во прах.
Их угнетал не только этот постыдный налог. Существовал еще вопрос об иммигрантах из Иудеи. Война вымела из Иудеи огромное множество евреев. Большие города восточных провинций, Антиохия и Александрия, поглотили сотни тысяч; но около тридцати тысяч все же добрались до столицы. В Риме были евреи, обладавшие огромным богатством и влиянием, но большинство состояло из пролетариев; они влачили жалкое существование в добровольном гетто на правом берегу Тибра, своей нищетой и обособленностью они вызывали досаду и насмешки, и новый прилив, по большей части обнищавших иммигрантов, был для старожилов нежелателен. Кроме того, множество евреев в результате войны превратилось в рабов; до сих пор большая часть человеческого материала, служившего для травли зверями и других кровавых игр на арене, состояла из иудеев. Разумеется, соотечественники старались выкупать из рабства как можно больше народу, но это требовало больших средств, и выкупленных приходилось содержать. К тому же еврейские общины Александрии и Антиохии посылали все новых делегатов, чтобы уговорить римских иудеев наконец внести большие суммы в общий комитет помощи. Правда, восточные общины делали несравненно более крупные взносы в пользу жертв войны, чем Рим. Но Рим большего дать не мог; и это постоянное напоминание о том, насколько восточные иудеи богаче и влиятельнее западных и с каким высокомерием они смотрят на своих западных соплеменников, было очень мучительно.
Но сегодня эти мысли преследовали евреев города Рима меньше, чем обычно. Веспасиан умер. На трибунах Марсова поля сидели представители их семи общин – их председатели, старейшины и ученые, и ждали, чтобы он вступил в число богов. Они возлагали немало надежд на то время, когда Веспасиан наконец станет богом, а Тит – императором. Портрет Береники открыто висел в приемной нового властителя, – очень скоро иудейская принцесса взойдет на Палатин. Она, как новая Эсфирь, спасет свой народ от унижения, которому его подвергают враги.
Семь общин не любили друг друга. Одна была более модернистична, либеральна, в состав другой входили только рабы и вольноотпущенники, в третью – только римские граждане и знатные господа, но все они, знатные и пролетарии, свободомыслящие и строго ортодоксальные, были связаны общей болью о своем погибшем государстве, общим унижением, причиняемым особым налогом на евреев и внесением в особые налоговые списки, а теперь – и общей надеждой на перемену.
Евреи сидели на трибуне тесным кружком. Гай Барцаарон, председатель наиболее многочисленной Агрипповой общины, настроен не так оптимистически, как остальные. Он много пережил и многое видел. Ягве – добрый бог и довольно терпим, но император, каждый император, очень часто присваивает себе права Ягве, и тогда евреям живется трудновато. Старик покачивает умной головой. Трудно быть одновременно хорошим иудеем и хорошим римлянином. Ему самому трудно держать на высоте свою мебельную фабрику, первую в Риме, и вместе с тем выполнять законы Ягве. Все последние годы жизни его отца, которого он очень любил, были омрачены внутренними конфликтами, связанными с этой ситуацией. И на этот раз, заявил он, все будет не так просто, как они себе представляют. Вероятно, еще много воды утечет в Тибре, пока принцесса Береника станет императрицей, а если она действительно станет ею, кто знает, насколько ей придется поступиться для этого своим иудаизмом. Примеры налицо.
Все знают, кого имеет в виду этот умный, покачивающий головой старик. Писатель Иосиф бен Маттафий служит для иудеев постоянным предметом ссор и раздражения. Этот человек, его жизнь, его книга, его многократные измены и многократные заслуги перед еврейством продолжают оставаться загадкой. Правящая Иерусалимская коллегия в свое время приговорила его к отлучению. Некоторые из римских богословов считают, что теперь, после разрушения храма, эта мера потеряла свой смысл. Но для большинства римских иудеев Иосиф все же отщепенец, и они, встречаясь с ним, соблюдают расстояние в семь шагов, как будто он прокаженный. Соблюдает его и Гай Барцаарон.