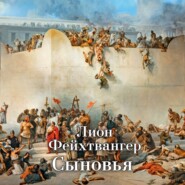По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зал ожидания. Книга 3. Изгнание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Письмо из Лондона, – ответила Ильза. – Оно получено в среду утром. С собой его у меня нет, оно дома.
– Как бы там ни было, надо известить полицию, – звонким голосом решительно сказал Траутвейн. Ильза взглянула на него зло, как на врага, который отнимает у нее последнюю надежду. Гейльбрун в свою очередь вставил:
– Надо непременно разыскать в Лондоне этого Дитмана и связаться с ним по телефону, по телеграфу, как угодно.
– Но прежде всего я позвоню в полицию, – повторил Траутвейн.
Ильза сидела перед ним, ее карие глаза растерянно, беспомощно блуждали от одного к другому. Резче выступили широкие скулы, она уже не была красивой, и даже сам Фридрих Беньямин не сказал бы теперь, что задорная изящная тирольская шляпка ей к лицу. Машинально мяла она в руках крохотный носовой платочек.
– Незачем так уж сразу предполагать самое страшное, – утешал Гейльбрун, но Траутвейн сказал:
– Правильнее предположить именно самое страшное. Надо действовать и заставить действовать официальные инстанции.
«Щепотка насилия лучше, чем мешок права», – писала «Дейче юстиц», официальный орган германского судебного ведомства, и «третья империя» действовала соответственно этому принципу. Чиновники гестапо увезли из Швейцарии, из окрестностей Рамзена, коммуниста Вебера, насильно утащили в Германию из Саарской области эмигранта Вальтера Кана. На тирольско-баварской границе был убит шотландский инженер Джордж Белл, которому были известны многие тайны нынешних германских правителей, полицейские агенты схватили и увезли из Голландии в Германию немецкого матроса Шольца и других немецких «бунтовщиков». В Чехословакии агенты германской полиции похитили ряд людей и много раз пытались осуществить такие похищения. Нацисты убили там германского философа Лессинга, а совсем недавно – инженера Рудольфа Формиса, эмигранта. Обо всех этих случаях Ильза слышала; она забыла подробности, помнила лишь, что насилия эти совершались ужасающими, гнуснейшими средствами, и мысль о том, что могли сделать с Фрицем в эти дни, переворачивала ей всю душу. Она не в состоянии была усидеть на стуле. Перед обоими мужчинами стояла не прежняя элегантная дама, а затравленное существо, с дрожащими губами и тихим голосом.
– Помогите мне, помогите же мне, – с трудом выговорила Ильза.
Протелефонировали в полицию, в министерство иностранных дел, в швейцарское посольство. Недавнее злодеяние, о котором только что невольно вспомнила Ильза, зверское убийство в Чехословакии инженера-эмигранта, чем-то насолившего германским властям, – убийство, безнаказанно совершенное германской полицией полтора месяца назад, взволновало общественное мнение всего мира; поэтому сообщение «Новостей» о том, что и редактор Беньямин исчез при весьма подозрительных обстоятельствах, нашло живой отклик.
Уже через час после заявления французский полицейский комиссар учинил Ильзе подробнейший допрос. Она взяла себя в руки, спокойно и четко давала показания. Но как только допрос кончился, ее охватил безумный страх. Надо что-то сделать, надо что-то предпринять. Она позвонила своей приятельнице Эдит и попросила ее приехать. Через пятнадцать минут Эдит была у Ильзы, и в ее испуге отразился весь ужас происшедшего. Тогда, сама не зная зачем, Ильза позвонила еще десятку знакомых, наспех, сбивчиво, лихорадочно рассказала о том, что случилось, прося совета и помощи у людей, которые при всем желании ничего не могли тут поделать. И Яноша она хотела просить помочь ей, но не дозвонилась. Графа Боннини ей удалось застать; охваченная паникой, она даже не заметила, как он, поняв, о чем речь, смешался, стал отвечать ей все холоднее и холоднее.
Когда Эдит ушла, она осталась одна в маленьком номере гостиницы «Атлантик». Было далеко за полдень, она еще ничего не ела, но голода не чувствовала.
Ильза Беньямин по-своему любила мужа. Она читала и слышала жуткие описания того, что в Германии называлось «допросом», ей случалось лично разговаривать с «допрошенными», которым посчастливилось бежать; трепетно, с любопытством, с содроганием она осматривала, щупала их рубцы. Когда она представляла себе, что, может быть, в эту самую минуту Фриц – она уже не осмеливалась даже в мыслях называть его Фрицхен – подвергается такому «допросу», она зябко поднимала плечи, что-то глухо и грозно подступало к горлу, во рту пересыхало. Она сидела согнувшись, наморщив широкий, низкий лоб, хотя не раз давала себе слово отучиться от этой скверной привычки.
Телефон звонил теперь довольно часто. Кругом говорили о случившемся, главным образом благодаря Эдит. Звонили друзья, знакомые, соболезнующие, жаждущие сенсации, звонили из редакций газет, просили разрешения прислать репортеров. Ильзу вдруг обуяла жажда деятельности, в глубине души шевельнулось смутное чувство удовлетворения оттого, что она оказалась в центре такого сенсационного происшествия. Но у нее хватило благоразумия спросить в редакции «Новостей» совета, что ей делать, и там ей рекомендовали пока ничего не предпринимать.
Она осталась у себя, в номере гостиницы «Атлантик». Если она ходила по комнате, ей хотелось сидеть, лежать, думать; если она сидела или лежала, ее тянуло встать, двигаться. Все напоминало ей о Фрице. Она подолгу смотрела на его портрет, точно ждала, что фотография, если как следует всмотреться, заговорит и она, Ильза, узнает, что с Фрицем. Быть может, его уж нет в живых. Тогда она виновата в этом. Она обвиняла себя: как могла она не понять тотчас же, что телеграмма не от него, что она подделана. Если его уже нельзя спасти, то это ее вина. И то, что она запретила ему звонить, тоже ее вина.
Если он и в самом деле умер, что будет с ней? Этот зловещий вопрос, вероятно, с первой же минуты возник в ней, но она не давала ему стать мыслью, а тем более словом. Теперь же, когда она вопрошала портрет, который молчал, и ее угнетали сомнения, жив ли Фриц, она вдруг поняла, перед каким множеством проблем сама оказалась.
Если он умер, значит она осталась без средств к существованию и положение ее – в высшей степени неопределенное. В эмигрантской среде ее не любят; правда, хотя бы только в целях пропаганды, ее объявят «жертвой» и бросят ей какую-нибудь подачку, но, по существу, она там чужая, ее не понимают. Но разве она зависит от эмигрантов? Случись «это», она и без эмигрантов была бы по-прежнему – правда, уже ненадолго – красивой, интересной женщиной и чем-то вроде мученицы. Перспективы у нее откроются, стоит ей только захотеть. «Допросы» германской полиции. Быть может, и для него, и для нее было бы лучше, если бы он умер.
Как бы там ни было, она еще не купалась сегодня. Она пустила воду, машинально разделась, села в ванну. Опять встали перед ней страшные сцены «допроса». Она почувствовала себя несчастной, замученной и к тому же вконец испорченной, оттого что слишком много думает о себе. Чем она могла ему помочь? Она ничем не могла ему помочь.
Ильза вытерлась, оделась, села перед зеркалом. Ее удивило, что перед ней та же Ильза, что ее глаза не потеряли блеска, что золото ее волос не потускнело, что она не изменилась. Но хотя ничто в ней не изменилось, она все же чувствовала себя старой, усталой, опустошенной.
В дверь постучали, принесли письма. Она слегка вздрогнула от испуга. Она где-то читала, что германские власти имеют обыкновение посылать родственникам по почте останки убитых, урну с пеплом. Как ни глупо это было, она боялась, что ей вручат сейчас такую посылку.
Зазвонил телефон. Говорил Янош: ему передавали, что она звонила ему, вероятно, она хочет провести с ним вечер. Но как раз потому, что ей самой этого смутно хотелось, она вдруг страшно, до удушья, рассердилась на него, она не могла говорить.
– Так мы, значит, проведем сегодня вечер вместе? – донесся его красивый, глупый голос.
– Нет, – возразила она резко, и, так как он оторопело спросил почему, что случилось, называл ее ласкательными именами и опять повторил свою просьбу, она сказала еще резче:
– Нет, ни сегодня, ни завтра, никогда, – и, не слушая его удивленного лепета, повесила трубку.
И ужинать она не могла, на нее нашло тупое оцепенение. Она позвонила в полицию, позвонила Гейльбруну. Поиски ведутся во всех направлениях, работают опытнейшие люди, ответили ей; как только что-нибудь выяснится, ей позвонят.
Она легла спать, лежала, несчастная, в тупой безнадежности. Тело болело от усталости, но сна не было. Она погасила свет, снова включила его. Портрет Фрицхена – он опять был Фрицхеном – смотрел на нее со стола. Фрицхен уставился на нее круглыми глазами, в них был фанатизм, было отчаяние; так он смотрел на нее, когда она высмеивала его в присутствии третьих лиц. Она вспомнила, что мысленно ссорилась с ним потому, что он трусливо не позвонил ей, подчинившись ее запрету. Корила себя, что не почувствовала, какие силы помешали ему звонить. Обвиняла себя в тупости, в бесчувствии. Была минута, когда она считала себя мученицей. Вздор. Не из такого теста делаются мученицы.
Она думала о великом множестве забитых насмерть, истерзанных пытками, задушенных. Как звали последнего, которого замучили нацисты? Замучили? Сплавили, убрали, ликвидировали. Так они это называют. Как же все-таки фамилия последнего? Формис его фамилия. Да, Формис, и случилось это в Чехословакии. Завтра, значит, в газетах будет напечатано: известный журналист Фридрих Беньямин пропал без вести, подозревают, что его похитили агенты гестапо. А что потом будет напечатано в газетах? Не думать, всего не передумаешь.
Надо наконец заставить себя уснуть. Нельзя так. Мысли назойливо кружат вокруг одного и того же. Помочь ведь она ничем не может, остается только сидеть и ждать. Она принимает снотворное. Проходит бесконечно много времени, прежде чем оно оказывает действие и она засыпает неспокойным сном.
Под утро ей снится: она на лыжах. Как же так, значит, она все-таки приняла приглашение Яноша? Склон, по которому ей предстоит спуститься, очень крут, на нем лежит рыхлый, совсем уже черный снег, кое-где виднеются даже трещины. Тренер – против, да и родители ее против того, чтобы она спускалась, это безумие. Но гостиница и без того ей не по средствам, и если она не спустится по этому склону, тогда ради чего же она приняла приглашение Яноша и что подумают о ней все? Фрицхен стоит рядом, у него грустные глаза, он смазывает ее лыжи. Это, в сущности, странно, как он может смазывать ей лыжи, раз она уже прикрепила их? И отец ее тоже говорит: «И не стыдно тебе позволять этому уроду еврею вощить твои лыжи?» – Вощить, сказал он, это смешно, и говорит он с саксонским акцентом, она даже сконфузилась. Ей бесконечно страшно спуститься вниз, но ничего не поделаешь. Так всегда бывает, когда расхвастаешься, она зарвалась, и все на нее смотрят. А если она задержится, то не успеет к поезду и опоздает на похороны. Она слегка подталкивает Яноша, пусть спускается первый, на нем только коротенькие трусики, это возмутительный снобизм, ведь солнца нет, но он красив, и у Фрицхена глаза все круглее. Но когда Янош, которого она подтолкнула, съезжает вниз, она глуповато смеется, сама не трогаясь с места, и делает вид, что только хотела пошутить. Здорово она схитрила. Но Янош не так глуп, как кажется. Летит он как пуля, но внезапно останавливается, великолепно это у него вышло, и тренер тоже говорит: «Великолепно, глядите, каков наш Янош», – а Янош уже взбирается наверх, он смеется, но в то же время угрожает. Остаться наверху у нее нет больше предлога, надо съехать с горы. Вон там и в самом деле трещина, она это знала, она кричит, никто не может, конечно, заглянуть в трещину, но она все видит, в глубине поблескивает лед, она кричит, страшно кричит, не переставая; это вовсе не лед, там лежит человек, у него открытые круглые глаза; она проваливается в трещину. Янош ее не поддержал, она так и думала, и отец тоже не приходит ей на помощь, он только смешно всплескивает руками и кричит, что он так и знал, ей просто стыдно за него. А лед никак не ухватишь. Она хватается за кромку, но лед – она так и знала – рассекает толстую перчатку, режет ей пальцы, обжигает их. Она падает.
Телефонный звонок давно трещит. Вся в поту, ничего не понимая, она озирается, хватает трубку. Это голос Гейльбруна. Да, к несчастью, все подтвердилось: Беньямин увезен в Германию. Швейцарская полиция отлично поработала. Увез его действительно Дитман, это доказано неопровержимо. Его арестовали на итальянской границе по обвинению в похищении человека.
5
Зубная боль
Анна Траутвейн взглянула на часы. Двадцать минут третьего. Она охотно посидела бы еще немного с Элли Френкель, постаралась бы утешить ее. Да нельзя. Надо идти. И так уж она почти на час опоздала на вечернюю работу к доктору Вольгемуту.
Она нерешительно смотрит на Элли. Та сидит против нее, угасшая, вялая, опустив глаза на грязную скатерть. По-видимому изголодавшись, она жадно набросилась на скверные кушанья, которые подавались в этом дешевом ресторане; а теперь сидит, отупев от сытости. Несмотря на энергичные усилия и хорошо разыгранный оптимизм, Анне не удалось пробить броню тупого оцепенения, которой прикрылась Элли. Получив от нее письмо, полное отчаяния, Анна была подготовлена к тому, что найдет ее несчастной и подавленной, но она не представляла себе, что Элли так опустилась, так одинока и изнурена. Кто мог предвидеть, что богатая, холеная, избалованная Элли Френкель, которая ей, Анне, когда они вместе учились, казалась воплощением роскоши, так быстро скатится под гору; это трудно было предвидеть даже тогда, когда муж Элли, социал-демократ, погиб в концентрационном лагере и она без средств очутилась в Париже.
Но, как ни жаль ее Анне, оставаться с ней дольше нельзя. Она встает.
– Мне пора к доктору Вольгемуту, – говорит она решительно.
Элли, беспомощно глядя на нее, спрашивает:
– Ты уже уходишь?
И Анна чувствует, что так бросить ее не может. Хотя она раз навсегда решила про себя не давать легкомысленных обещаний, все же она уговаривает Элли:
– Не унывай, Элли. Мы тебя как-нибудь устроим. Я поговорю с Вольгемутом. Он, кстати, ищет помощницу.
Не успев договорить, она уже раскаивается. Правда, было бы вполне естественно порекомендовать Элли Френкель доктору Вольгемуту, который недавно уволил работницу-француженку; с такой работой, наполовину приходящей прислуги, наполовину секретаря, справится всякая. Всякая, но только не Элли. Слишком уж она беспомощна. Это лишь приведет к неприятностям для всех троих. Однако она уже пообещала. Анна с трудом подавляет вздох: мало ей своих хлопот. Но теперь по крайней мере ей легче оставить Элли одну и наконец уйти.
Анна мчится на станцию метро, протискивается в вагон, ее мнут, толкают, приходится стоять в неприятной тесноте. Она едва это замечает. Она не может забыть, с какой жадностью Элли набросилась на жалкую еду, не может забыть апатии в ее голосе, когда она рассказывала о своих злополучных попытках найти заработок. Какая она сидела померкшая, убитая. Анна же, спокойная, подтянутая, ободряла ее словом и делом, уговаривала, кормила, предлагала деньги и казалась себе воплощением благополучия и олицетворенной энергией. Да так оно и есть. Разве по своему материальному благополучию она не стоит выше Элли настолько же, насколько директор Французского банка стоит выше ее, Анны? У Элли ровным счетом ничего нет; у Анны же, во всяком случае на ближайшие месяцы, есть средства к существованию, есть крыша над головой, муж, работа, деньги. А в первую очередь – мужество и уверенность. И все же она сознает, что не только жалость взволновала ее при виде Элли, здесь было и нечто похожее на отдаленную тревогу: никто из нас не уверен в завтрашнем дне; через полгода, через год каждый из нас может оказаться в таком же положении.
Анна проталкивается вперед, старается стать поудобнее, пускает в ход локти. Вздор, Элли исключение, в ней меньше жизнеспособности, чем у большинства, она не училась ничему полезному, она не способна к языкам. Гиршберги очень хотели ей помочь и все-таки вынуждены были ее рассчитать. Она не годится в прислуги. И не только по неспособности, но и потому, что внутренне противится такого рода работе, при всей внешней готовности.
Элли слишком требовательна, вот в чем суть. Но раз так, не следовало ей ничего обещать. Ей все равно не помочь. Даже если Вольгемут согласится, он, как и Гиршберги, уволит ее через две недели, и она снова окажется в том же положении. Еще только хуже будет, потому что на новые разочарования Элли не хватит. «Слабый – умирает, сильный – сражается». Зепп прав, постоянно цитируя эту поговорку.
Вот наконец и ее остановка. Без десяти три. Она бежит под мелким мартовским дождем по узкому тротуару вдоль широкой авеню Великой Армии к дому, где живет доктор Вольгемут. Она торопится и шагает прямо по мелким лужам. Опоздала почти на целый час. Она, правда, предупредила доктора Вольгемута, да и он не из тех, кто устраивает скандалы; но он способен доконать человека своими ироническими замечаниями, а тут она еще хочет поговорить с ним об Элли; поэтому сегодня опоздать особенно некстати.
Наконец она на месте. Она быстро надевает белый халат и заглядывает в приемную. Там полно народу, и всех к половине шестого необходимо спровадить; на этот час назначен барон фон Герке, ему нужно спилить верхние передние зубы и снять мерку для штифтовых зубов и протезов. День предстоит горячий, неблагоприятный для ее планов.
Анна вошла в кабинет.
– Лучше поздно, чем никогда, – не без приветливости прогудел доктор Вольгемут; в кресле у него сидит француженка. Вольгемут продолжает усердно работать, а кончив, велит впустить следующего пациента; он сверлит, стучит, закладывает дупла в зубах цементом, уговаривает своих больных весело, сердито, любезно. От него исходит спокойствие и уверенность, и пациенты находят долговязого врача очаровательным.
Анна тем временем приступает к исполнению своих разнообразных обязанностей. Помогает кое в чем врачу, отпирает входную дверь, следит за порядком в приемной, отвечает на телефонные звонки, успокаивает нетерпеливых пациентов, записывает их на следующий прием. Доктор Вольгемут не любит, чтобы его отрывали от работы, поэтому, когда она спрашивает у него о чем-нибудь, он на нее напускается:
– Да делайте, пожалуйста, как хотите. – Но затем он долго ворчит и отменяет то, о чем она договорилась с пациентом.
– Как бы там ни было, надо известить полицию, – звонким голосом решительно сказал Траутвейн. Ильза взглянула на него зло, как на врага, который отнимает у нее последнюю надежду. Гейльбрун в свою очередь вставил:
– Надо непременно разыскать в Лондоне этого Дитмана и связаться с ним по телефону, по телеграфу, как угодно.
– Но прежде всего я позвоню в полицию, – повторил Траутвейн.
Ильза сидела перед ним, ее карие глаза растерянно, беспомощно блуждали от одного к другому. Резче выступили широкие скулы, она уже не была красивой, и даже сам Фридрих Беньямин не сказал бы теперь, что задорная изящная тирольская шляпка ей к лицу. Машинально мяла она в руках крохотный носовой платочек.
– Незачем так уж сразу предполагать самое страшное, – утешал Гейльбрун, но Траутвейн сказал:
– Правильнее предположить именно самое страшное. Надо действовать и заставить действовать официальные инстанции.
«Щепотка насилия лучше, чем мешок права», – писала «Дейче юстиц», официальный орган германского судебного ведомства, и «третья империя» действовала соответственно этому принципу. Чиновники гестапо увезли из Швейцарии, из окрестностей Рамзена, коммуниста Вебера, насильно утащили в Германию из Саарской области эмигранта Вальтера Кана. На тирольско-баварской границе был убит шотландский инженер Джордж Белл, которому были известны многие тайны нынешних германских правителей, полицейские агенты схватили и увезли из Голландии в Германию немецкого матроса Шольца и других немецких «бунтовщиков». В Чехословакии агенты германской полиции похитили ряд людей и много раз пытались осуществить такие похищения. Нацисты убили там германского философа Лессинга, а совсем недавно – инженера Рудольфа Формиса, эмигранта. Обо всех этих случаях Ильза слышала; она забыла подробности, помнила лишь, что насилия эти совершались ужасающими, гнуснейшими средствами, и мысль о том, что могли сделать с Фрицем в эти дни, переворачивала ей всю душу. Она не в состоянии была усидеть на стуле. Перед обоими мужчинами стояла не прежняя элегантная дама, а затравленное существо, с дрожащими губами и тихим голосом.
– Помогите мне, помогите же мне, – с трудом выговорила Ильза.
Протелефонировали в полицию, в министерство иностранных дел, в швейцарское посольство. Недавнее злодеяние, о котором только что невольно вспомнила Ильза, зверское убийство в Чехословакии инженера-эмигранта, чем-то насолившего германским властям, – убийство, безнаказанно совершенное германской полицией полтора месяца назад, взволновало общественное мнение всего мира; поэтому сообщение «Новостей» о том, что и редактор Беньямин исчез при весьма подозрительных обстоятельствах, нашло живой отклик.
Уже через час после заявления французский полицейский комиссар учинил Ильзе подробнейший допрос. Она взяла себя в руки, спокойно и четко давала показания. Но как только допрос кончился, ее охватил безумный страх. Надо что-то сделать, надо что-то предпринять. Она позвонила своей приятельнице Эдит и попросила ее приехать. Через пятнадцать минут Эдит была у Ильзы, и в ее испуге отразился весь ужас происшедшего. Тогда, сама не зная зачем, Ильза позвонила еще десятку знакомых, наспех, сбивчиво, лихорадочно рассказала о том, что случилось, прося совета и помощи у людей, которые при всем желании ничего не могли тут поделать. И Яноша она хотела просить помочь ей, но не дозвонилась. Графа Боннини ей удалось застать; охваченная паникой, она даже не заметила, как он, поняв, о чем речь, смешался, стал отвечать ей все холоднее и холоднее.
Когда Эдит ушла, она осталась одна в маленьком номере гостиницы «Атлантик». Было далеко за полдень, она еще ничего не ела, но голода не чувствовала.
Ильза Беньямин по-своему любила мужа. Она читала и слышала жуткие описания того, что в Германии называлось «допросом», ей случалось лично разговаривать с «допрошенными», которым посчастливилось бежать; трепетно, с любопытством, с содроганием она осматривала, щупала их рубцы. Когда она представляла себе, что, может быть, в эту самую минуту Фриц – она уже не осмеливалась даже в мыслях называть его Фрицхен – подвергается такому «допросу», она зябко поднимала плечи, что-то глухо и грозно подступало к горлу, во рту пересыхало. Она сидела согнувшись, наморщив широкий, низкий лоб, хотя не раз давала себе слово отучиться от этой скверной привычки.
Телефон звонил теперь довольно часто. Кругом говорили о случившемся, главным образом благодаря Эдит. Звонили друзья, знакомые, соболезнующие, жаждущие сенсации, звонили из редакций газет, просили разрешения прислать репортеров. Ильзу вдруг обуяла жажда деятельности, в глубине души шевельнулось смутное чувство удовлетворения оттого, что она оказалась в центре такого сенсационного происшествия. Но у нее хватило благоразумия спросить в редакции «Новостей» совета, что ей делать, и там ей рекомендовали пока ничего не предпринимать.
Она осталась у себя, в номере гостиницы «Атлантик». Если она ходила по комнате, ей хотелось сидеть, лежать, думать; если она сидела или лежала, ее тянуло встать, двигаться. Все напоминало ей о Фрице. Она подолгу смотрела на его портрет, точно ждала, что фотография, если как следует всмотреться, заговорит и она, Ильза, узнает, что с Фрицем. Быть может, его уж нет в живых. Тогда она виновата в этом. Она обвиняла себя: как могла она не понять тотчас же, что телеграмма не от него, что она подделана. Если его уже нельзя спасти, то это ее вина. И то, что она запретила ему звонить, тоже ее вина.
Если он и в самом деле умер, что будет с ней? Этот зловещий вопрос, вероятно, с первой же минуты возник в ней, но она не давала ему стать мыслью, а тем более словом. Теперь же, когда она вопрошала портрет, который молчал, и ее угнетали сомнения, жив ли Фриц, она вдруг поняла, перед каким множеством проблем сама оказалась.
Если он умер, значит она осталась без средств к существованию и положение ее – в высшей степени неопределенное. В эмигрантской среде ее не любят; правда, хотя бы только в целях пропаганды, ее объявят «жертвой» и бросят ей какую-нибудь подачку, но, по существу, она там чужая, ее не понимают. Но разве она зависит от эмигрантов? Случись «это», она и без эмигрантов была бы по-прежнему – правда, уже ненадолго – красивой, интересной женщиной и чем-то вроде мученицы. Перспективы у нее откроются, стоит ей только захотеть. «Допросы» германской полиции. Быть может, и для него, и для нее было бы лучше, если бы он умер.
Как бы там ни было, она еще не купалась сегодня. Она пустила воду, машинально разделась, села в ванну. Опять встали перед ней страшные сцены «допроса». Она почувствовала себя несчастной, замученной и к тому же вконец испорченной, оттого что слишком много думает о себе. Чем она могла ему помочь? Она ничем не могла ему помочь.
Ильза вытерлась, оделась, села перед зеркалом. Ее удивило, что перед ней та же Ильза, что ее глаза не потеряли блеска, что золото ее волос не потускнело, что она не изменилась. Но хотя ничто в ней не изменилось, она все же чувствовала себя старой, усталой, опустошенной.
В дверь постучали, принесли письма. Она слегка вздрогнула от испуга. Она где-то читала, что германские власти имеют обыкновение посылать родственникам по почте останки убитых, урну с пеплом. Как ни глупо это было, она боялась, что ей вручат сейчас такую посылку.
Зазвонил телефон. Говорил Янош: ему передавали, что она звонила ему, вероятно, она хочет провести с ним вечер. Но как раз потому, что ей самой этого смутно хотелось, она вдруг страшно, до удушья, рассердилась на него, она не могла говорить.
– Так мы, значит, проведем сегодня вечер вместе? – донесся его красивый, глупый голос.
– Нет, – возразила она резко, и, так как он оторопело спросил почему, что случилось, называл ее ласкательными именами и опять повторил свою просьбу, она сказала еще резче:
– Нет, ни сегодня, ни завтра, никогда, – и, не слушая его удивленного лепета, повесила трубку.
И ужинать она не могла, на нее нашло тупое оцепенение. Она позвонила в полицию, позвонила Гейльбруну. Поиски ведутся во всех направлениях, работают опытнейшие люди, ответили ей; как только что-нибудь выяснится, ей позвонят.
Она легла спать, лежала, несчастная, в тупой безнадежности. Тело болело от усталости, но сна не было. Она погасила свет, снова включила его. Портрет Фрицхена – он опять был Фрицхеном – смотрел на нее со стола. Фрицхен уставился на нее круглыми глазами, в них был фанатизм, было отчаяние; так он смотрел на нее, когда она высмеивала его в присутствии третьих лиц. Она вспомнила, что мысленно ссорилась с ним потому, что он трусливо не позвонил ей, подчинившись ее запрету. Корила себя, что не почувствовала, какие силы помешали ему звонить. Обвиняла себя в тупости, в бесчувствии. Была минута, когда она считала себя мученицей. Вздор. Не из такого теста делаются мученицы.
Она думала о великом множестве забитых насмерть, истерзанных пытками, задушенных. Как звали последнего, которого замучили нацисты? Замучили? Сплавили, убрали, ликвидировали. Так они это называют. Как же все-таки фамилия последнего? Формис его фамилия. Да, Формис, и случилось это в Чехословакии. Завтра, значит, в газетах будет напечатано: известный журналист Фридрих Беньямин пропал без вести, подозревают, что его похитили агенты гестапо. А что потом будет напечатано в газетах? Не думать, всего не передумаешь.
Надо наконец заставить себя уснуть. Нельзя так. Мысли назойливо кружат вокруг одного и того же. Помочь ведь она ничем не может, остается только сидеть и ждать. Она принимает снотворное. Проходит бесконечно много времени, прежде чем оно оказывает действие и она засыпает неспокойным сном.
Под утро ей снится: она на лыжах. Как же так, значит, она все-таки приняла приглашение Яноша? Склон, по которому ей предстоит спуститься, очень крут, на нем лежит рыхлый, совсем уже черный снег, кое-где виднеются даже трещины. Тренер – против, да и родители ее против того, чтобы она спускалась, это безумие. Но гостиница и без того ей не по средствам, и если она не спустится по этому склону, тогда ради чего же она приняла приглашение Яноша и что подумают о ней все? Фрицхен стоит рядом, у него грустные глаза, он смазывает ее лыжи. Это, в сущности, странно, как он может смазывать ей лыжи, раз она уже прикрепила их? И отец ее тоже говорит: «И не стыдно тебе позволять этому уроду еврею вощить твои лыжи?» – Вощить, сказал он, это смешно, и говорит он с саксонским акцентом, она даже сконфузилась. Ей бесконечно страшно спуститься вниз, но ничего не поделаешь. Так всегда бывает, когда расхвастаешься, она зарвалась, и все на нее смотрят. А если она задержится, то не успеет к поезду и опоздает на похороны. Она слегка подталкивает Яноша, пусть спускается первый, на нем только коротенькие трусики, это возмутительный снобизм, ведь солнца нет, но он красив, и у Фрицхена глаза все круглее. Но когда Янош, которого она подтолкнула, съезжает вниз, она глуповато смеется, сама не трогаясь с места, и делает вид, что только хотела пошутить. Здорово она схитрила. Но Янош не так глуп, как кажется. Летит он как пуля, но внезапно останавливается, великолепно это у него вышло, и тренер тоже говорит: «Великолепно, глядите, каков наш Янош», – а Янош уже взбирается наверх, он смеется, но в то же время угрожает. Остаться наверху у нее нет больше предлога, надо съехать с горы. Вон там и в самом деле трещина, она это знала, она кричит, никто не может, конечно, заглянуть в трещину, но она все видит, в глубине поблескивает лед, она кричит, страшно кричит, не переставая; это вовсе не лед, там лежит человек, у него открытые круглые глаза; она проваливается в трещину. Янош ее не поддержал, она так и думала, и отец тоже не приходит ей на помощь, он только смешно всплескивает руками и кричит, что он так и знал, ей просто стыдно за него. А лед никак не ухватишь. Она хватается за кромку, но лед – она так и знала – рассекает толстую перчатку, режет ей пальцы, обжигает их. Она падает.
Телефонный звонок давно трещит. Вся в поту, ничего не понимая, она озирается, хватает трубку. Это голос Гейльбруна. Да, к несчастью, все подтвердилось: Беньямин увезен в Германию. Швейцарская полиция отлично поработала. Увез его действительно Дитман, это доказано неопровержимо. Его арестовали на итальянской границе по обвинению в похищении человека.
5
Зубная боль
Анна Траутвейн взглянула на часы. Двадцать минут третьего. Она охотно посидела бы еще немного с Элли Френкель, постаралась бы утешить ее. Да нельзя. Надо идти. И так уж она почти на час опоздала на вечернюю работу к доктору Вольгемуту.
Она нерешительно смотрит на Элли. Та сидит против нее, угасшая, вялая, опустив глаза на грязную скатерть. По-видимому изголодавшись, она жадно набросилась на скверные кушанья, которые подавались в этом дешевом ресторане; а теперь сидит, отупев от сытости. Несмотря на энергичные усилия и хорошо разыгранный оптимизм, Анне не удалось пробить броню тупого оцепенения, которой прикрылась Элли. Получив от нее письмо, полное отчаяния, Анна была подготовлена к тому, что найдет ее несчастной и подавленной, но она не представляла себе, что Элли так опустилась, так одинока и изнурена. Кто мог предвидеть, что богатая, холеная, избалованная Элли Френкель, которая ей, Анне, когда они вместе учились, казалась воплощением роскоши, так быстро скатится под гору; это трудно было предвидеть даже тогда, когда муж Элли, социал-демократ, погиб в концентрационном лагере и она без средств очутилась в Париже.
Но, как ни жаль ее Анне, оставаться с ней дольше нельзя. Она встает.
– Мне пора к доктору Вольгемуту, – говорит она решительно.
Элли, беспомощно глядя на нее, спрашивает:
– Ты уже уходишь?
И Анна чувствует, что так бросить ее не может. Хотя она раз навсегда решила про себя не давать легкомысленных обещаний, все же она уговаривает Элли:
– Не унывай, Элли. Мы тебя как-нибудь устроим. Я поговорю с Вольгемутом. Он, кстати, ищет помощницу.
Не успев договорить, она уже раскаивается. Правда, было бы вполне естественно порекомендовать Элли Френкель доктору Вольгемуту, который недавно уволил работницу-француженку; с такой работой, наполовину приходящей прислуги, наполовину секретаря, справится всякая. Всякая, но только не Элли. Слишком уж она беспомощна. Это лишь приведет к неприятностям для всех троих. Однако она уже пообещала. Анна с трудом подавляет вздох: мало ей своих хлопот. Но теперь по крайней мере ей легче оставить Элли одну и наконец уйти.
Анна мчится на станцию метро, протискивается в вагон, ее мнут, толкают, приходится стоять в неприятной тесноте. Она едва это замечает. Она не может забыть, с какой жадностью Элли набросилась на жалкую еду, не может забыть апатии в ее голосе, когда она рассказывала о своих злополучных попытках найти заработок. Какая она сидела померкшая, убитая. Анна же, спокойная, подтянутая, ободряла ее словом и делом, уговаривала, кормила, предлагала деньги и казалась себе воплощением благополучия и олицетворенной энергией. Да так оно и есть. Разве по своему материальному благополучию она не стоит выше Элли настолько же, насколько директор Французского банка стоит выше ее, Анны? У Элли ровным счетом ничего нет; у Анны же, во всяком случае на ближайшие месяцы, есть средства к существованию, есть крыша над головой, муж, работа, деньги. А в первую очередь – мужество и уверенность. И все же она сознает, что не только жалость взволновала ее при виде Элли, здесь было и нечто похожее на отдаленную тревогу: никто из нас не уверен в завтрашнем дне; через полгода, через год каждый из нас может оказаться в таком же положении.
Анна проталкивается вперед, старается стать поудобнее, пускает в ход локти. Вздор, Элли исключение, в ней меньше жизнеспособности, чем у большинства, она не училась ничему полезному, она не способна к языкам. Гиршберги очень хотели ей помочь и все-таки вынуждены были ее рассчитать. Она не годится в прислуги. И не только по неспособности, но и потому, что внутренне противится такого рода работе, при всей внешней готовности.
Элли слишком требовательна, вот в чем суть. Но раз так, не следовало ей ничего обещать. Ей все равно не помочь. Даже если Вольгемут согласится, он, как и Гиршберги, уволит ее через две недели, и она снова окажется в том же положении. Еще только хуже будет, потому что на новые разочарования Элли не хватит. «Слабый – умирает, сильный – сражается». Зепп прав, постоянно цитируя эту поговорку.
Вот наконец и ее остановка. Без десяти три. Она бежит под мелким мартовским дождем по узкому тротуару вдоль широкой авеню Великой Армии к дому, где живет доктор Вольгемут. Она торопится и шагает прямо по мелким лужам. Опоздала почти на целый час. Она, правда, предупредила доктора Вольгемута, да и он не из тех, кто устраивает скандалы; но он способен доконать человека своими ироническими замечаниями, а тут она еще хочет поговорить с ним об Элли; поэтому сегодня опоздать особенно некстати.
Наконец она на месте. Она быстро надевает белый халат и заглядывает в приемную. Там полно народу, и всех к половине шестого необходимо спровадить; на этот час назначен барон фон Герке, ему нужно спилить верхние передние зубы и снять мерку для штифтовых зубов и протезов. День предстоит горячий, неблагоприятный для ее планов.
Анна вошла в кабинет.
– Лучше поздно, чем никогда, – не без приветливости прогудел доктор Вольгемут; в кресле у него сидит француженка. Вольгемут продолжает усердно работать, а кончив, велит впустить следующего пациента; он сверлит, стучит, закладывает дупла в зубах цементом, уговаривает своих больных весело, сердито, любезно. От него исходит спокойствие и уверенность, и пациенты находят долговязого врача очаровательным.
Анна тем временем приступает к исполнению своих разнообразных обязанностей. Помогает кое в чем врачу, отпирает входную дверь, следит за порядком в приемной, отвечает на телефонные звонки, успокаивает нетерпеливых пациентов, записывает их на следующий прием. Доктор Вольгемут не любит, чтобы его отрывали от работы, поэтому, когда она спрашивает у него о чем-нибудь, он на нее напускается:
– Да делайте, пожалуйста, как хотите. – Но затем он долго ворчит и отменяет то, о чем она договорилась с пациентом.