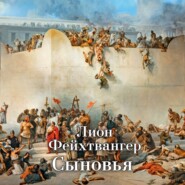По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зал ожидания. Книга 3. Изгнание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так думал и чувствовал Зепп Траутвейн, когда Гингольд предложил ему окончательно занять в редакции место Фридриха Беньямина. Предложение это взволновало Траутвейна. Он знал: если он примет его, придется надолго забросить музыку.
Но совесть не позволяет ему отклонить предложение Гингольда. Как один из редакторов «Парижских новостей», он будет ближе к источникам информации о Фридрихе Беньямине, сможет быстрее предпринять необходимые шаги, войти в контакт с крупными европейскими газетами, успешнее бороться за дело Беньямина. А дело это не оставляло его в покое. От увезенного, замученного Фридриха Беньямина, от его письменного стола, даже от его неприятного голоса, звучавшего в ушах у Зеппа, исходила магическая сила, против которой он тщетно боролся, взывая к своему рассудку.
В состоянии полной нерешительности, какой он еще никогда в жизни не испытывал, он попросил дать ему время на размышление.
Обсудил этот вопрос с Анной. Она стала отговаривать его с горячностью, какой он никак не ожидал.
– Что? – негодовала она. – Они собираются целиком запрячь тебя в эти смехотворные «Парижские новости»? Они смеют требовать от тебя, чтобы ты совсем забросил свою музыку? Они, верно, рехнулись.
Зепп, раздосадованный ее горячностью, ответил:
– Мне предлагают штатное место в редакции. Неужели это дерзость? Они найдут сотни охотников, которых стоит только поманить пальцем. И опасение, что мне придется отказаться от музыки, совершенно неоправданно, преувеличено. Отказаться придется разве от преподавания в Академии, ну да и бог с ним. А для «Персов» у меня останется масса времени.
Анна хорошо знала своего Зеппа и видела, что он сам не верит в свои слова.
– Ты сам в это не веришь, – безжалостно отметила она. – «Персы» уж и так немало пострадали от твоих дурацких «Парижских новостей». Кому нужно, чтобы твоя политика окончательно тебя съела? Ты ведь всерьез и сам этого не хочешь. Борьба против нацистов – хорошее дело, бесспорно, и это – твое дело. Но, уехав из Германии и все бросив, ты, право, сделал уже достаточно. Нет нужды окончательно похоронить себя в этой захудалой газетке.
Разумом он понимал, что она права. Но о том, что не давало ему покоя, о своем неукротимом желании помочь Фридриху Беньямину, он не мог ей сказать; он почти стыдился непонятной страстности своего чувства.
– Пойми, старушка, – осторожно начал он, – вот, например, это дело Беньямина. О нем у меня просто потребность писать. Тут у меня есть что сказать.
– Но ты можешь все сказать, и не продавшись душой и телом «Парижским новостям», – нетерпеливо перебила его Анна.
– Ведь мне нужен материал, – пояснил Зепп, – материал из первых рук, а его я могу получить, только сидя в аппарате редакции. Добиться чего-нибудь в деле Беньямина можно одним – непрерывно показывать, что нацисты лгут, систематически раскрывать ложь за ложью.
– Я тебя не понимаю, – покачала головой Анна. – Мы все жалеем Беньямина, все негодуем. Но в конце концов, в лапы гитлеровских молодчиков попадали люди и более близкие нам. Ты хлопотал за них, обивал пороги. Но ты и не думал отказываться от дела своей жизни, забросить музыку. И вдруг теперь?..
Зепп и сам говорил себе, что его самопожертвование бессмысленно. Анна права, разумом он соглашался с ее доводами, но ничто не помогало. Анне легко так разумно рассуждать. За других всегда разумно рассуждаешь, на себя же разума никогда не хватает. Так уж оно есть, половина всех поступков, совершаемых так называемым разумным человеком, диктуется подсознанием наперекор разуму. Это понимаешь в ясные минуты, на деле же всегда следуешь темным голосам, имеющим мало общего со здравым смыслом.
Так как ничего лучшего ему в голову не пришло, он сказал:
– Наконец, мне хотелось бы иметь возможность больше вносить в наш бюджет. Не жить же мне вечно на твой счет. – Но он не успел кончить, как спохватился, что сделал большую бестактность. И в самом деле – Анна сверкнула на него сердитым взглядом.
– Зачем ты мелешь такой вздор? – сказала она. – С каких пор ты заришься на деньги? Забросить «Персов» ради нескольких сот франков в месяц? Да если я добьюсь от дирекции радио согласия на передачу «Персов», это одно даст больше, чем ты за полгода выжмешь из твоего Гингольда. Будь же благоразумен, Зепп, – просительным тоном добавила она, – ты проявил достаточно мужества тем, что по приходе Гитлера сразу сделал правильный шаг. Ты послужил примером для многих, и это важнее сотни статей. Заниматься изо дня в день практической политикой ты не способен. Предоставь это, прошу тебя, профессионалам-политикам и профессионалам-журналистам. Здесь нужны хитрость да увертка, а это не по твоей части. Для таких вещей ты слишком непосредствен, слишком порядочен. Ты хочешь конкурировать с Гитлером. В наше время, чтобы отстоять правое дело, чтобы привлечь массы на сторону правого дела, требуется быть одновременно и Христом, и Макиавелли.
Зепп рассмеялся:
– Не говори афоризмами, старушка. С меня достаточно ясно представлять себе, чего я хочу, и хорошо писать об этом.
Анна поняла, что имеет дело с чем-то глубоко затаенным и что доводы рассудка тут бессильны.
– Очень прошу тебя, – сказала она настойчиво, и у Зеппа потеплело на душе от ее прекрасного, звучного голоса, – не ввязывайся ты в политику еще сильнее. Ты сам часто говорил, что хорошее искусство – это лучшая политика. Достаточно тяжело, что я не могу тебе помогать в твоей большой работе; для меня это ужасное лишение. Нельзя допустить, чтобы ты оторвался от музыки. Творить музыку – твое призвание. У меня таланта нет, я не стою того, чтобы жалеть, что я трачу себя на противную черную работу у доктора Вольгемута. Но ты, – если ты закабалишься Гингольду и «Парижским новостям», если ты возьмешься за работу, которую другие могут делать лучше тебя, вместо музыки, которую можешь делать только ты, это будет безумием.
Зепп не хотел сознаться себе, что слова Анны произвели на него впечатление.
– Невысоко же ты ставишь мою журналистскую работу, – не то шутя, не то обиженно протянул он. – Кто тебя уверил, что это никуда не годная дрянь? Ну а что ты скажешь, если я все-таки вырву Фридриха Беньямина у нацистов?
Она не поддержала его шутливого тона.
– Дай мне слово, – сказала она, – что ты еще раз подумаешь, прежде чем сделаешь решительный шаг. – Он дал слово и мысленно поклялся еще раз основательно все обдумать. Но в глубине души он знал, что это все равно ни к чему.
Он обещал Гингольду завтра утром дать окончательный ответ. Наступил вечер, а он все так же колебался, как в первую минуту. В нем все еще боролись «да» и «нет» – голос чувства и голос рассудка.
Он решил поговорить со своим другом Оскаром Чернигом.
* * *
Многие находили Оскара Чернига интересным, но всерьез его почти никто не принимал. Зепп Траутвейн горячо любил Чернига, его самого и его стихи. Независимость Чернига, его анархизм, его нигилизм влекли к нему Траутвейна. Анна глубоко чувствовала прелесть его стихов; но все, что Зеппу нравилось в Оскаре Черниге, Анну отталкивало. Она возмущалась его цыганскими наклонностями, его ленью, увиливанием от обязанностей, которые накладывал на него талант. Всю свою жизнь этот теперь уже сорокалетний человек только и делал, что читал, слушал музыку, смотрел картины, гулял, время от времени спал с какой-нибудь женщиной, обо всем и обо всех спорил. Разве это жизнь? Разве талант освобождает человека от обязанностей по отношению к себе и к окружающему миру?
Траутвейн только смеялся, слушая Анну. Потому-то ему, может быть, и нравился Черниг, что тот во всем был иным, чем он; ему нравилось все, что Черниг делал, вся жизнь этого человека, его замашки, его стихи, его проза. Оскар Черниг, по его мнению, один из немногих, кто понимает, что он, Зепп, хочет сказать своей музыкой. А Черниг – судья суровый, несговорчивый, дерзкий, он презрительно отвергает большую часть созданного Зеппом и только немногое расценивает как ростки истинной музыки – «классической, математической». «Опиум, профессор, – говорил он иногда, прослушав какую-нибудь новую вещь Траутвейна, – чистейший опиум. Порой вы опускаетесь до Рихарда Вагнера. На двенадцати страницах, которые вы только что сыграли, в лучшем случае найдется тактов десять настоящей музыки». Так строго он судил не только о музыке Траутвейна, но и обо всей его деятельности.
В Германии Черниг существовал на небольшую ренту, выделенную ему родственниками, и вел цыганский образ жизни. В изгнании рента настолько уменьшилась, что он окончательно опустился. Траутвейн помогал ему чем только мог, но он мало что мог. В конце концов Чернигу пришлось искать пристанища в бараках для беднейших эмигрантов, построенных одним из комитетов помощи. Этот последний поворот колеса фортуны он принял со стоическим цинизмом, как подтверждение своей горькой всеотрицающей мудрости.
Для того чтобы добраться до бараков, Траутвейну пришлось проехать значительное расстояние на метро, а затем еще минут двадцать идти пешком. Он очутился в унылом городском предместье, многоэтажные облезлые дома-казармы перемежались здесь с голыми пустырями, улицы были грязны и запущенны. Но он ничего этого не замечал и торопливо шел, почти не поднимая головы, сквозь пронизывающе-сырой, невеселый мартовский вечер. Наконец он увидел перед собой длинный ряд низких, безобразных бараков. Сторож долго ворчал и подозрительно оглядывал Зеппа, прежде чем впустить его в такой поздний час.
Зеппу Траутвейну приходилось бывать у Чернига, но только днем. Уж на что он был равнодушен к внешним благам жизни, но у него мороз пробежал по коже, когда он увидел в резком свете ничем не затененной электрической лампы всю безотрадность помещения, где Черниг, загнанный сюда вместе с двадцатью другими бедняками, проводил свои дни и ночи. Тесно сдвинутые матрацы лежали прямо на полу, покрытые тонкими, грязными, дырявыми одеялами, в стены было вбито несколько крюков и гвоздей, на которые обитатели барака могли вешать свое платье, для прочих же пожитков места не было. Отвратительный, удушливый воздух стоял в голом, большом и все же тесном помещении, вдвойне унылом при ярком электрическом свете.
Черниг лежал на матраце, заложив красные руки под лысую голову, ленивый, апатичный. Увидев Траутвейна, он слегка приподнялся.
– Пробирайтесь сюда, профессор, – крикнул он ему кротким, тоненьким детским голосом: он всегда величал людей, с которыми разговаривал, их полным титулом. – Шагайте спокойно по матрацам, они от этого только лучше станут. Садитесь ко мне на постель, другого места я вам предложить не могу.
Траутвейн последовал его приглашению. В неудобной позе, высоко подняв острые колени, сидел он на матраце Чернига. Черниг снова улегся, его бледное лицо, рыхлое, веснушчатое, плохо выбритое, коротконосое, было обращено к Траутвейну, выпуклые глаза, блестевшие под огромным, переходящим в лысину лбом, щурились на свет.
– Очень мило, профессор, что вы заглянули ко мне, – сказал он. – Мне хочется немедленно вас вознаградить. Я придумал три строфы для «Персов». Три строфы для описания битвы, ведь они нас никогда не удовлетворяли. – Он говорил не очень громко, вероятно, для того, чтобы не слышали соседи, с любопытством и неприязнью оглядывавшие Траутвейна. Как ни близко он сидел, ему приходилось напряженно вслушиваться, чтобы понять Чернига. Зеппу было не по себе.
Черниг, работавший над текстом для «Персов», не допускал в вопросах искусства ни малейшей небрежности и годами отшлифовывал каждый стих. Это было именно то, чего желал себе Траутвейн, и ему всегда доставляло радость говорить с Чернигом о его стихах. Сегодня, однако, дело, по которому он пришел, настолько его занимало, что ему трудно было думать о «Персах», да и резкий свет мешал сосредоточиться.
Ему просто невмоготу было в этой обстановке продолжать разговор с Чернигом.
– Послушайте, – взмолился он, – пойдемте куда-нибудь. Я не в состоянии разговаривать здесь всерьез.
– Напрасно, – мелодичным голосом насмешливо сказал Черниг. – А вот мне приходится жить здесь всерьез.
Траутвейн продолжал настаивать. Черниг пояснил:
– Тут есть такая штука, которая называется «внутренний распорядок». Человека на каждом повороте его судьбы встречает какой-нибудь новый главный враг. Здесь это – внутренний распорядок. Меня удивляет, профессор, как вы умудрились проникнуть сюда в такой поздний час. После семи вечера подвергаешься ряду допросов, прежде чем войти в барак или выйти отсюда.
В конце концов они все-таки собрались и, уломав кое-как сторожа, вышли на улицу.
Они побрели по грязному, запущенному пустынному предместью. На Черниге было ветхое, дырявое непромокаемое пальтишко, грязно-красный шерстяной шарф он обмотал вокруг шеи. Видно было, как он дрогнет от ночной сырости. Траутвейн решил, что для задуманной беседы надо поискать теплый уголок. На высоком доме, одиноко торчавшем посреди унылых пустырей, светилась электрическая вывеска кафе «Добрая надежда». Они вошли.
Это было ярко освещенное помещение, насквозь пропитанное запахом прогорклого масла, но зато теплое. У стойки несколько мужчин шумно разговаривали с хозяином, за одним из столиков пестро разряженная девица сидела рядом со стариком, радио оглашало воздух танцевальной музыкой. Траутвейн заказал для Чернига стакан глинтвейна, для себя – пиво; они сидели, наслаждались зловонным теплом, попивали из своих стаканов.
Черниг, одутловатый, похожий на гигантского раскормленного недоноска, с капельками пота на лысине, с косо торчащей в лягушачьих губах сигарой, произносил надменные, полные аристократического нигилизма речи об искусстве. Траутвейн слушал его. Обоим было хорошо. Наконец Черниг вытащил рукопись – стихи, написанные им за последнее время, популярные стишки, как он их назвал, со скидкой на глупость толпы; среди общего гомона тонким голосом он прочел Траутвейну неистовые, сумасшедшие стихотворные строки, проникнутые презрением, горечью, отчаянием, изображающие мир грязным сосудом, наполненным глупостью, страхами, суетностью, похотью.
Черниг старается придать своему лицу равнодушное выражение, но Траутвейн знает, как он взволнован, ибо он читает свои стихи ему – единственному другу и ценителю. В цинизме их Траутвейн угадывает муку и тоску униженного поэта. Чернигские стихи взбудоражили его, они всегда будоражат его, у них свой собственный голос, их сразу же отличишь среди всех стихов мира. Вот он сидит напротив, замызганный и засаленный, в ярком свете видна каждая щетинка на его небритом лице, его дыхание нечисто. Посетители, как их ни мало, шумят, Черниг, стесняясь того, что он читает свои стихи, понижает и без того слабый голос, и Траутвейну приходится напрягаться, чтобы не упустить ни слова. Он весь напряжен, эта поэзия волнует его, как обычно только очень высокое искусство, и, слушая кроткий, насильственно замороженный голос, он среди шума и вонючего угара кабака отдается нахлынувшим звукам, музыке. Как ни язвительно издевается Черниг над его мещанством, Траутвейн знает, что их связывает глубокая, благородная близость.
– Хорошо, – говорит он, когда Черниг кончает чтение, – превосходно.
Но совесть не позволяет ему отклонить предложение Гингольда. Как один из редакторов «Парижских новостей», он будет ближе к источникам информации о Фридрихе Беньямине, сможет быстрее предпринять необходимые шаги, войти в контакт с крупными европейскими газетами, успешнее бороться за дело Беньямина. А дело это не оставляло его в покое. От увезенного, замученного Фридриха Беньямина, от его письменного стола, даже от его неприятного голоса, звучавшего в ушах у Зеппа, исходила магическая сила, против которой он тщетно боролся, взывая к своему рассудку.
В состоянии полной нерешительности, какой он еще никогда в жизни не испытывал, он попросил дать ему время на размышление.
Обсудил этот вопрос с Анной. Она стала отговаривать его с горячностью, какой он никак не ожидал.
– Что? – негодовала она. – Они собираются целиком запрячь тебя в эти смехотворные «Парижские новости»? Они смеют требовать от тебя, чтобы ты совсем забросил свою музыку? Они, верно, рехнулись.
Зепп, раздосадованный ее горячностью, ответил:
– Мне предлагают штатное место в редакции. Неужели это дерзость? Они найдут сотни охотников, которых стоит только поманить пальцем. И опасение, что мне придется отказаться от музыки, совершенно неоправданно, преувеличено. Отказаться придется разве от преподавания в Академии, ну да и бог с ним. А для «Персов» у меня останется масса времени.
Анна хорошо знала своего Зеппа и видела, что он сам не верит в свои слова.
– Ты сам в это не веришь, – безжалостно отметила она. – «Персы» уж и так немало пострадали от твоих дурацких «Парижских новостей». Кому нужно, чтобы твоя политика окончательно тебя съела? Ты ведь всерьез и сам этого не хочешь. Борьба против нацистов – хорошее дело, бесспорно, и это – твое дело. Но, уехав из Германии и все бросив, ты, право, сделал уже достаточно. Нет нужды окончательно похоронить себя в этой захудалой газетке.
Разумом он понимал, что она права. Но о том, что не давало ему покоя, о своем неукротимом желании помочь Фридриху Беньямину, он не мог ей сказать; он почти стыдился непонятной страстности своего чувства.
– Пойми, старушка, – осторожно начал он, – вот, например, это дело Беньямина. О нем у меня просто потребность писать. Тут у меня есть что сказать.
– Но ты можешь все сказать, и не продавшись душой и телом «Парижским новостям», – нетерпеливо перебила его Анна.
– Ведь мне нужен материал, – пояснил Зепп, – материал из первых рук, а его я могу получить, только сидя в аппарате редакции. Добиться чего-нибудь в деле Беньямина можно одним – непрерывно показывать, что нацисты лгут, систематически раскрывать ложь за ложью.
– Я тебя не понимаю, – покачала головой Анна. – Мы все жалеем Беньямина, все негодуем. Но в конце концов, в лапы гитлеровских молодчиков попадали люди и более близкие нам. Ты хлопотал за них, обивал пороги. Но ты и не думал отказываться от дела своей жизни, забросить музыку. И вдруг теперь?..
Зепп и сам говорил себе, что его самопожертвование бессмысленно. Анна права, разумом он соглашался с ее доводами, но ничто не помогало. Анне легко так разумно рассуждать. За других всегда разумно рассуждаешь, на себя же разума никогда не хватает. Так уж оно есть, половина всех поступков, совершаемых так называемым разумным человеком, диктуется подсознанием наперекор разуму. Это понимаешь в ясные минуты, на деле же всегда следуешь темным голосам, имеющим мало общего со здравым смыслом.
Так как ничего лучшего ему в голову не пришло, он сказал:
– Наконец, мне хотелось бы иметь возможность больше вносить в наш бюджет. Не жить же мне вечно на твой счет. – Но он не успел кончить, как спохватился, что сделал большую бестактность. И в самом деле – Анна сверкнула на него сердитым взглядом.
– Зачем ты мелешь такой вздор? – сказала она. – С каких пор ты заришься на деньги? Забросить «Персов» ради нескольких сот франков в месяц? Да если я добьюсь от дирекции радио согласия на передачу «Персов», это одно даст больше, чем ты за полгода выжмешь из твоего Гингольда. Будь же благоразумен, Зепп, – просительным тоном добавила она, – ты проявил достаточно мужества тем, что по приходе Гитлера сразу сделал правильный шаг. Ты послужил примером для многих, и это важнее сотни статей. Заниматься изо дня в день практической политикой ты не способен. Предоставь это, прошу тебя, профессионалам-политикам и профессионалам-журналистам. Здесь нужны хитрость да увертка, а это не по твоей части. Для таких вещей ты слишком непосредствен, слишком порядочен. Ты хочешь конкурировать с Гитлером. В наше время, чтобы отстоять правое дело, чтобы привлечь массы на сторону правого дела, требуется быть одновременно и Христом, и Макиавелли.
Зепп рассмеялся:
– Не говори афоризмами, старушка. С меня достаточно ясно представлять себе, чего я хочу, и хорошо писать об этом.
Анна поняла, что имеет дело с чем-то глубоко затаенным и что доводы рассудка тут бессильны.
– Очень прошу тебя, – сказала она настойчиво, и у Зеппа потеплело на душе от ее прекрасного, звучного голоса, – не ввязывайся ты в политику еще сильнее. Ты сам часто говорил, что хорошее искусство – это лучшая политика. Достаточно тяжело, что я не могу тебе помогать в твоей большой работе; для меня это ужасное лишение. Нельзя допустить, чтобы ты оторвался от музыки. Творить музыку – твое призвание. У меня таланта нет, я не стою того, чтобы жалеть, что я трачу себя на противную черную работу у доктора Вольгемута. Но ты, – если ты закабалишься Гингольду и «Парижским новостям», если ты возьмешься за работу, которую другие могут делать лучше тебя, вместо музыки, которую можешь делать только ты, это будет безумием.
Зепп не хотел сознаться себе, что слова Анны произвели на него впечатление.
– Невысоко же ты ставишь мою журналистскую работу, – не то шутя, не то обиженно протянул он. – Кто тебя уверил, что это никуда не годная дрянь? Ну а что ты скажешь, если я все-таки вырву Фридриха Беньямина у нацистов?
Она не поддержала его шутливого тона.
– Дай мне слово, – сказала она, – что ты еще раз подумаешь, прежде чем сделаешь решительный шаг. – Он дал слово и мысленно поклялся еще раз основательно все обдумать. Но в глубине души он знал, что это все равно ни к чему.
Он обещал Гингольду завтра утром дать окончательный ответ. Наступил вечер, а он все так же колебался, как в первую минуту. В нем все еще боролись «да» и «нет» – голос чувства и голос рассудка.
Он решил поговорить со своим другом Оскаром Чернигом.
* * *
Многие находили Оскара Чернига интересным, но всерьез его почти никто не принимал. Зепп Траутвейн горячо любил Чернига, его самого и его стихи. Независимость Чернига, его анархизм, его нигилизм влекли к нему Траутвейна. Анна глубоко чувствовала прелесть его стихов; но все, что Зеппу нравилось в Оскаре Черниге, Анну отталкивало. Она возмущалась его цыганскими наклонностями, его ленью, увиливанием от обязанностей, которые накладывал на него талант. Всю свою жизнь этот теперь уже сорокалетний человек только и делал, что читал, слушал музыку, смотрел картины, гулял, время от времени спал с какой-нибудь женщиной, обо всем и обо всех спорил. Разве это жизнь? Разве талант освобождает человека от обязанностей по отношению к себе и к окружающему миру?
Траутвейн только смеялся, слушая Анну. Потому-то ему, может быть, и нравился Черниг, что тот во всем был иным, чем он; ему нравилось все, что Черниг делал, вся жизнь этого человека, его замашки, его стихи, его проза. Оскар Черниг, по его мнению, один из немногих, кто понимает, что он, Зепп, хочет сказать своей музыкой. А Черниг – судья суровый, несговорчивый, дерзкий, он презрительно отвергает большую часть созданного Зеппом и только немногое расценивает как ростки истинной музыки – «классической, математической». «Опиум, профессор, – говорил он иногда, прослушав какую-нибудь новую вещь Траутвейна, – чистейший опиум. Порой вы опускаетесь до Рихарда Вагнера. На двенадцати страницах, которые вы только что сыграли, в лучшем случае найдется тактов десять настоящей музыки». Так строго он судил не только о музыке Траутвейна, но и обо всей его деятельности.
В Германии Черниг существовал на небольшую ренту, выделенную ему родственниками, и вел цыганский образ жизни. В изгнании рента настолько уменьшилась, что он окончательно опустился. Траутвейн помогал ему чем только мог, но он мало что мог. В конце концов Чернигу пришлось искать пристанища в бараках для беднейших эмигрантов, построенных одним из комитетов помощи. Этот последний поворот колеса фортуны он принял со стоическим цинизмом, как подтверждение своей горькой всеотрицающей мудрости.
Для того чтобы добраться до бараков, Траутвейну пришлось проехать значительное расстояние на метро, а затем еще минут двадцать идти пешком. Он очутился в унылом городском предместье, многоэтажные облезлые дома-казармы перемежались здесь с голыми пустырями, улицы были грязны и запущенны. Но он ничего этого не замечал и торопливо шел, почти не поднимая головы, сквозь пронизывающе-сырой, невеселый мартовский вечер. Наконец он увидел перед собой длинный ряд низких, безобразных бараков. Сторож долго ворчал и подозрительно оглядывал Зеппа, прежде чем впустить его в такой поздний час.
Зеппу Траутвейну приходилось бывать у Чернига, но только днем. Уж на что он был равнодушен к внешним благам жизни, но у него мороз пробежал по коже, когда он увидел в резком свете ничем не затененной электрической лампы всю безотрадность помещения, где Черниг, загнанный сюда вместе с двадцатью другими бедняками, проводил свои дни и ночи. Тесно сдвинутые матрацы лежали прямо на полу, покрытые тонкими, грязными, дырявыми одеялами, в стены было вбито несколько крюков и гвоздей, на которые обитатели барака могли вешать свое платье, для прочих же пожитков места не было. Отвратительный, удушливый воздух стоял в голом, большом и все же тесном помещении, вдвойне унылом при ярком электрическом свете.
Черниг лежал на матраце, заложив красные руки под лысую голову, ленивый, апатичный. Увидев Траутвейна, он слегка приподнялся.
– Пробирайтесь сюда, профессор, – крикнул он ему кротким, тоненьким детским голосом: он всегда величал людей, с которыми разговаривал, их полным титулом. – Шагайте спокойно по матрацам, они от этого только лучше станут. Садитесь ко мне на постель, другого места я вам предложить не могу.
Траутвейн последовал его приглашению. В неудобной позе, высоко подняв острые колени, сидел он на матраце Чернига. Черниг снова улегся, его бледное лицо, рыхлое, веснушчатое, плохо выбритое, коротконосое, было обращено к Траутвейну, выпуклые глаза, блестевшие под огромным, переходящим в лысину лбом, щурились на свет.
– Очень мило, профессор, что вы заглянули ко мне, – сказал он. – Мне хочется немедленно вас вознаградить. Я придумал три строфы для «Персов». Три строфы для описания битвы, ведь они нас никогда не удовлетворяли. – Он говорил не очень громко, вероятно, для того, чтобы не слышали соседи, с любопытством и неприязнью оглядывавшие Траутвейна. Как ни близко он сидел, ему приходилось напряженно вслушиваться, чтобы понять Чернига. Зеппу было не по себе.
Черниг, работавший над текстом для «Персов», не допускал в вопросах искусства ни малейшей небрежности и годами отшлифовывал каждый стих. Это было именно то, чего желал себе Траутвейн, и ему всегда доставляло радость говорить с Чернигом о его стихах. Сегодня, однако, дело, по которому он пришел, настолько его занимало, что ему трудно было думать о «Персах», да и резкий свет мешал сосредоточиться.
Ему просто невмоготу было в этой обстановке продолжать разговор с Чернигом.
– Послушайте, – взмолился он, – пойдемте куда-нибудь. Я не в состоянии разговаривать здесь всерьез.
– Напрасно, – мелодичным голосом насмешливо сказал Черниг. – А вот мне приходится жить здесь всерьез.
Траутвейн продолжал настаивать. Черниг пояснил:
– Тут есть такая штука, которая называется «внутренний распорядок». Человека на каждом повороте его судьбы встречает какой-нибудь новый главный враг. Здесь это – внутренний распорядок. Меня удивляет, профессор, как вы умудрились проникнуть сюда в такой поздний час. После семи вечера подвергаешься ряду допросов, прежде чем войти в барак или выйти отсюда.
В конце концов они все-таки собрались и, уломав кое-как сторожа, вышли на улицу.
Они побрели по грязному, запущенному пустынному предместью. На Черниге было ветхое, дырявое непромокаемое пальтишко, грязно-красный шерстяной шарф он обмотал вокруг шеи. Видно было, как он дрогнет от ночной сырости. Траутвейн решил, что для задуманной беседы надо поискать теплый уголок. На высоком доме, одиноко торчавшем посреди унылых пустырей, светилась электрическая вывеска кафе «Добрая надежда». Они вошли.
Это было ярко освещенное помещение, насквозь пропитанное запахом прогорклого масла, но зато теплое. У стойки несколько мужчин шумно разговаривали с хозяином, за одним из столиков пестро разряженная девица сидела рядом со стариком, радио оглашало воздух танцевальной музыкой. Траутвейн заказал для Чернига стакан глинтвейна, для себя – пиво; они сидели, наслаждались зловонным теплом, попивали из своих стаканов.
Черниг, одутловатый, похожий на гигантского раскормленного недоноска, с капельками пота на лысине, с косо торчащей в лягушачьих губах сигарой, произносил надменные, полные аристократического нигилизма речи об искусстве. Траутвейн слушал его. Обоим было хорошо. Наконец Черниг вытащил рукопись – стихи, написанные им за последнее время, популярные стишки, как он их назвал, со скидкой на глупость толпы; среди общего гомона тонким голосом он прочел Траутвейну неистовые, сумасшедшие стихотворные строки, проникнутые презрением, горечью, отчаянием, изображающие мир грязным сосудом, наполненным глупостью, страхами, суетностью, похотью.
Черниг старается придать своему лицу равнодушное выражение, но Траутвейн знает, как он взволнован, ибо он читает свои стихи ему – единственному другу и ценителю. В цинизме их Траутвейн угадывает муку и тоску униженного поэта. Чернигские стихи взбудоражили его, они всегда будоражат его, у них свой собственный голос, их сразу же отличишь среди всех стихов мира. Вот он сидит напротив, замызганный и засаленный, в ярком свете видна каждая щетинка на его небритом лице, его дыхание нечисто. Посетители, как их ни мало, шумят, Черниг, стесняясь того, что он читает свои стихи, понижает и без того слабый голос, и Траутвейну приходится напрягаться, чтобы не упустить ни слова. Он весь напряжен, эта поэзия волнует его, как обычно только очень высокое искусство, и, слушая кроткий, насильственно замороженный голос, он среди шума и вонючего угара кабака отдается нахлынувшим звукам, музыке. Как ни язвительно издевается Черниг над его мещанством, Траутвейн знает, что их связывает глубокая, благородная близость.
– Хорошо, – говорит он, когда Черниг кончает чтение, – превосходно.