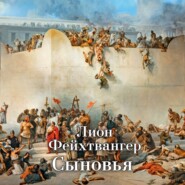По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зал ожидания. Книга 3. Изгнание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Счастье, что у нее есть эта работа у Вольгемута. Но он переутомлен, капризен, нетерпелив. Нужна вся ее выдержка, чтобы ладить с ним, и все же она нет-нет да ввернет, отвечая ему, крепкое, острое словцо. «Многие пациенты мне завидуют, что я работаю с ним, – думает она. – С ними он очарователен. А придирки, капризы – все это остается на мою долю». Сегодня, именно потому что предстоит просить его об одолжении, она смотрит на него недобрыми глазами и мысленно осуждает. Его шумная, бодрая самоуверенность раздражает Анну, ей кажется, что все это от тщеславия.
Анна несправедлива. Доктор Вольгемут страстно любит свою профессию. Его специальность – пластические операции, у него зоркие глаза и умелые руки; изгнанный, как еврей, из Берлина, он быстро приобрел известность в Париже. Кинозвезды, дамы из общества, люди, которым приходилось выступать публично, доверяли ему свои челюсти, с тем чтобы он исправлял ошибки природы. Костлявое умное лицо, энергичные глаза под крепким лбом, высокий рост, фигура кавалериста делали доктора Вольгемута всеобщим любимцем, в особенности среди женщин. Он наивно радовался своим профессиональным и светским успехам, не скрывал этой радости, и Анна не совсем была не права, находя его тщеславным. Но, радуясь собственному успеху, он всегда готов был оказать услугу менее удачливым и помогал охотно, много и от души.
– Значит, в пятницу, в половине четвертого, я записала, – вежливо сказала Анна и положила трубку. «Уж и на пятницу все до минуты расписано, – с досадой думала она. – Завтра в одиннадцать утра он демонстрирует своих больных в университете, с Югене у него работы по крайней мере на час, с Майером столько же. Послезавтра Лилиан Корона, черт бы ее побрал, получит свои фарфоровые чехлы. Опять же история часа на три. Кто увидит ее потом на экране, тому и в голову не придет, сколько труда и хлопот стоили нам ее зубы. Надо сегодня же поговорить насчет Элли; ближайшие дни у него еще более загружены. Лучше всего это сделать за кофе. Следовало бы дать ему отдохнуть в эти минуты, но уж если вообще говорить, то другого времени не найдешь».
Вот наконец половина шестого. В приемной, правда, сидят еще пациенты, но Вольгемут, к счастью, их выпроваживает, а господину Вальтеру фон Герке, который уже здесь, придется подождать. Доктор Вольгемут пьет кофе, у него небольшой перерыв.
Анна подсаживается к нему и старается улучить удобную минутку для своей просьбы. Он держит в крепкой, пористой, огрубевшей от частого мытья руке кофейную чашку. В эти минуты передышки с ним легче всего сговориться, но нельзя обрушиться на него сразу. Пусть сначала поболтает, он это любит.
– Рабочие, присланные ЭБО для починки раковины, опять подвели нас, – сразу же начинает он. – В сущности, надо было бы покончить с этим сбродом из ЭБО. – «Эмигрантское бюро обслуживания» – так называлась организация, которая по телефонному вызову посылала рабочую силу, нуждающихся эмигрантов, для выполнения любых работ. – При всем желании с этими людьми каши не сваришь, – продолжает Вольгемут. – Вы знаете историю с дверьми? – спрашивает он и, не дождавшись ответа, начинает рассказывать.
Как-то он позвонил в ЭБО, попросил прислать мастера, чтобы исправить плохо запирающуюся дверь. Два дня спустя явилась пара, пожилые, солидные эмигранты, конечно не очень-то похожие на столяров. Они осмотрели дверь и прежде всего потребовали денег на покупку материала.
– А сколько будет стоить весь ремонт? – спрашивает Вольгемут.
– Разве можно сказать заранее? – ответили ему укоризненно. – Мы проработаем столько времени, сколько потребуется, и вы нам уплатите из расчета пятнадцать франков за час каждому.
– Ладно, – ответил Вольгемут.
Столяры вынули дверь из петель, отнесли ее на кухню и принялись за работу.
Вскоре Вольгемут услышал отчаянный шум. Он выбежал из комнаты. Стекло в кухонной двери разлетелось вдребезги, и навстречу ему пулей выскочил один из эмигрантов.
– Бога ради, господа, что это у вас здесь происходит? – осведомился пораженный Вольгемут. И пока один из них обмывал свои раны под краном, другой сообщил Вольгемуту, вне себя от негодования:
– Вы знаете, кто этот мерзавец? Он троцкист. Теперь он разоблачен. И как посмели предложить мне работать с таким типом?
– Но ведь это не я вам предложил, – сказал Вольгемут. – Никого из вас я не знаю, вас обоих прислало ЭБО. Вы пришли вместе, беритесь наконец за работу. – Но столяр никак не мог успокоиться.
– Два года, – горячился он, – я работаю вместе с ним. Но теперь он разоблачен. Он сам разоблачил себя. Никто не может от меня потребовать, чтобы я продолжал с ним работать. Такие люди, как он, и виноваты в нашем несчастье.
Но тут второй, стоявший у водопроводной раковины, снова рассвирепел и, забыв про свои раны, кинулся на противника. Доктор Вольгемут бросился их разнимать, при этом и ему попало.
– Теперь хватит, – сказал он, – убирайтесь-ка оба.
– Хорошо, – ответил столяр, – раз так, я уйду. Но сначала извольте уплатить мне за потерянное время.
– А разбитая дверь? – поинтересовался Вольгемут.
– Кто выскочил через эту дверь, – возмутился его собеседник, – я или он?
Все это доктор Вольгемут рассказал, попивая свой кофе; он рассказывал очень живо, ему, видимо, нравилась эта история. Анне она понравилась меньше. Правда, она смеялась. Но за этим смехом скрывались стыд и возмущение. Вольгемут, вероятно, кое-что приукрасил, но суть была им подмечена правильно. Таковы эмигранты, многие из них обнаглели, одичали, потеряли всякое чувство меры, они требовательны – именно потому, что им так плохо, – они смешны. Да, они докатились до того, что стали смешными, и это самое худшее. Вполне ли она, Анна, уберегла себя от этого? Если вникнуть как следует, то и в ней можно найти много смешного – ее брюзжание, ее претензии.
Какой-нибудь недоброжелатель мог бы еще так легкомысленно отнестись к эмигрантам, но Вольгемут не имел на то права. Ему следовало бы проявить больше чуткости, ему следовало бы понять, что эти люди разбиты бесконечными ударами судьбы. Кто знает, что представляли собой в Германии «столяры», пришедшие к Вольгемуту чинить дверь? Кто знает, чем они занимались, прежде чем превратиться в то, чем они теперь были? Надо же иметь снисхождение к этим людям. И, кроме того, все плохое, что говорится об одном эмигранте, бросает тень на остальных. Об этом Вольгемуту тоже следовало помнить.
– Признаться, – благодушно гудел длинноногий Вольгемут, шагая взад и вперед по комнате, – мне эти парни понравились. Просто удивительно, как много среди эмигрантов людей, не падающих духом. Все, что им приходится делать, всю свою теперешнюю жизнь они рассматривают как нечто временное. Их не интересует моя дверь, их интересует политика.
Доктор Вольгемут положительно гордится тем, что он так добродушно и притом сознательно позволяет себя эксплуатировать. Да, это подходящий момент: сейчас Анна выложит ему свою просьбу.
Она вооружилась одной из своих самых ослепительных улыбок.
– Это смешно, – начала она, – но я хотела обратиться к вам с просьбой, которая, пожалуй, только подтвердит ваше суждение об ЭБО, если вы ее исполните. – И она подробно рассказала ему историю Элли Френкель.
– Ну, послушайте, ну, знаете ли, – воскликнул доктор Вольгемут, – вы очень многого от меня требуете. Можете вы поручиться, что ваша приятельница справится с работой?
– Отнюдь нет, – ответила Анна. – Но я обращаюсь к вашему великодушию. У вас было столько печальных опытов. Имеет ли значение еще один? – Она была в ударе, она улыбалась, ее крупные красивые зубы блестели, она сверкала молодостью и свежестью; она уже не чувствовала себя эмигранткой Анной Траутвейн, обитательницей жалкого номера гостиницы «Аранхуэс»; она чувствовала себя уверенно, как в свои лучшие берлинские и мюнхенские годы.
– Какая же вы нехорошая, если еще и это хотите навязать вашему замученному шефу, – стонал доктор Вольгемут.
– Так когда Элли прийти, чтобы начать работу? – победоносно спросила Анна.
– Я надеюсь, – грозно прогудел Вольгемут, – что вы разрешите мне по крайней мере посмотреть на нее раньше, чем сговориться окончательно. Пусть придет, когда меньше всего помешает.
До сих пор Анна замечала только отрицательные качества своего шефа, отныне же она видела только его хорошие стороны. Ее улыбка уже не была профессиональной. Анна улыбалась от всего сердца. Доктору Вольгемуту доставило удовольствие рассказать историю с ЭБО, да и предстоящая встреча с господином фон Герке сулила много занятного. Поэтому оба, и Вольгемут, и Анна, вернулись в кабинет после вечернего перерыва в лучезарнейшем настроении.
* * *
Анна попросила нетерпеливо ожидавшего господина фон Герке в кабинет, и Вольгемут пригласил его сесть в зубоврачебное кресло. Господин фон Герке с достоинством опустился в кресло. Да, манеры у него отменные, этот секретарь германского посольства, красивый, смуглый молодой человек, с белокурыми, мягкими, густыми волосами и очень красными губами, ни в чем не уступал другим парижским дипломатам, а теперь выяснилось, что он способен сохранить непринужденность манер и в тех неприятных ситуациях, когда многие пасуют. Он сидел с легкой, любезной, отнюдь не напряженной улыбкой и терпеливо, вежливо слушал ядовито-игривые речи врача.
– Нам предстоит сегодня, – со свирепой веселостью начал доктор Вольгемут, – проделать довольно много грязной, грубой работы, и я думаю, – он повернулся к Анне, – что мы наденем на господина барона халат. Салфетки сегодня будет недостаточно. Господин барон одет с завидной элегантностью. – (Фон Герке покорно влез в халат.) – Я надеюсь, – продолжал доктор Вольгемут с тем же ехидным добродушием, – что мы сегодня в полном порядке. Так безболезненно, как до сих пор, я уже предупреждал вас, сегодняшний сеанс не пройдет, да и затянется он порядком. – Вольгемут подвинтил кресло и предложил господину фон Герке открыть рот.
– Дайте барону зеркало, – сказал он Анне. – Но послушайте, но поглядите, боже ты мой, что тут делается, – радостно повторял он в десятый раз, сокрушенно покачивая головой и сильно нажимая на слово «мой».
«Он готов созвать всю улицу и всем показывать мой рот», – злобно подумал фон Герке. Но по лицу его ничего нельзя было прочесть, он даже попытался улыбнуться, насколько можно улыбаться открытым ртом.
То, что барон Вальтер фон Герке, секретарь германского посольства в Париже, Шпицци, как называли его друзья, сидел в зубоврачебном кресле доктора Вольгемута, было целым событием.
Событие это имело свою длинную предысторию.
До прихода нацистов к власти господин фон Герке был незаметным, никчемным человеком. Он подвизался как гонщик-автомобилист, а время от времени и как тренер высокого класса по теннису. Своим назначением он был обязан некоей тайной «заслуге», которая сделала одного из правителей «третьей империи» его должником. Немало способствовала его назначению приятная, элегантная внешность. Несмотря на сорок один год, в нем сохранилось еще что-то дерзкое, привлекательное, мальчишеское. Лишь один недостаток нарушал благоприятное впечатление от его наружности: стоило ему открыть свои красивые, свежие губы, как показывались маленькие острые зубки, положительно крысиные, росшие к тому же вкривь и вкось. А теперь они и вовсе стали портиться, даже эмаль потускнела. Фон Герке страдал, как ему пояснили, атрофией зубных лунок, не то парадентитом, не то парадентозом, он всегда спотыкался на этом слове. Но, как бы там ни называлась его болезнь, она не только причиняла страдания и портила настроение – она еще и уродовала рот, делая красивое легкомысленное лицо порочным и старообразным. Наряду с единственной в своем роде вышеупомянутой «заслугой» лицо господина фон Герке было его ценнейшим капиталом, и поэтому надо было что-то предпринять против этого парадентита или парадентоза, проще говоря, надо было что-то сделать со своими зубами.
И вот однажды, после изрядного количества рюмок коньяку, один из его приятелей, Раймон Фонтань, знаменитый Фонтань, чья улыбка восхищала мир, сверкая с десятков тысяч экранов, в порыве откровенности поведал ему, что зубы, придававшие обаяние этой улыбке, не совсем дар природы, и в ответ на его настойчивые просьбы дал ему адрес доктора Вольгемута.
Господину фон Герке неприятно было, что кудесник доктор не «ариец». Но с национал-социалистской точки зрения большой разницы не составляло, обратиться ли к врачу-еврею или к дегенерату-французу, помеси галла с негром. При всей политической благонадежности господина фон Герке не могло быть и речи, чтобы он доверил свои челюсти какому-нибудь пинчеру-наци, одному из тех плохоньких зубных врачишек, которые шныряли по Парижу, хотя в расовом смысле у них все было благополучно. Кроме того, на сей раз необходимо преодолеть в себе расовый антагонизм даже в отечественных интересах. По роду занятий ему приходится вращаться в парижском обществе; в руководящих сферах придают большое значение тому, чтобы именно здесь, в Париже, по возможности маскировать неотесанность и грубость, свойственные новому режиму. Поэтому таким людям, как он, Шпицци, необходимо блюсти свою приятную внешность.
И вот в один прекрасный день господин фон Герке очутился в кабинете доктора Вольгемута. Вольгемут удивился. Всей душой еврей, он так же глубоко был убежден в подлости и неполноценности нацистов, как они в таких же его качествах, и то, что официальный представитель ненавистных нацистов прибегает к услугам изгнанного ими врага, доставило ему большое, веселое удовлетворение.
Предвкушая предстоящее удовольствие, он приступил к делу. Обстоятельно осмотрел зубы господина фон Герке, с неприкрытым отвращением отозвался об их эстетических изъянах, нарисовал внушительную картину их неизбежного дальнейшего разрушения, в ярких словах живописал страдания, которые господин фон Герке, несомненно, испытал в прошлом, и еще большие муки, которые предстоят ему в будущем. Без всякого перехода заговорил о поразительных успехах современного зубоврачевания, заманчиво расписал, как прекрасно можно в нынешнее время преобразить даже такой запущенный рот, как у господина барона. Продемонстрировал это на фотографиях. Показал снимки с изображением зубов своих пациентов до и после применения своего искусства. Господин фон Герке загорелся. Самое сильное впечатление произвел на него уродливый рот киноактера Раймона Фонтаня, каким он был до того, как доктор Вольгемут искусно создал его сверкающую улыбку.
Но едва любитель потешиться доктор Вольгемут добился нужного ему эффекта, как он вдруг сделался очень холоден и стал деловито втолковывать пациенту, до чего трудно придать шик именно такому рту, как у господина барона.
– Да, – сказал он с профессиональной прямотой, – если бы задача состояла только в том, чтобы в гигиеническом смысле привести в порядок ваши драгоценные зубы, то не стоило бы говорить о таких пустяках. Но зубная косметика, особенно в вашем случае, – дело чертовски канительное и сложное. Спилить верхние зубы. Вылечить корни. Поставить протезы. Боже ты мой. Это стоит труда, времени, нервов, – он сделал выразительную паузу, – и денег. Когда дело идет о косметических операциях, публика не без основания опасается счетов Вольгемута. «Кто покупает у нас, платит дороже, но покупает выгоднее», как написано на вывеске одного универсального магазина в Лондоне, или, как говорили, бывало, в нашем прежнем Берлине: «Если хочешь смолоть свой кофе у Рафаэля, плати за это». Меня, собственно, выгнали из Берлина, господин барон, что вам должно быть небезызвестно, и еще немало народу выгнали из числа тех, с кем я считаю себя связанным. Я полагаю своим долгом помогать этим людям, таков уж я, а это стоит денег. Это стоит кучу денег, почтеннейший, и потому доктор Вольгемут не принадлежит к числу дешевых врачей.
Все это длинноногий Вольгемут изложил, шагая по комнате, благодушно картавя, каламбуря, треща без умолку. Господин фон Герке, конечно, давно уже поднял голову и сидел, изящный и элегантный, в роковом кресле, вежливо, внимательно слушая. Небольшое удовольствие, конечно, глотать дерьмо, которое изрыгает этот еврей. Так и хочется встать и тихо, а может быть, и не тихо захлопнуть дверь с другой стороны. Но он уже решил доверить этому ублюдку свои зубы. В конце концов, речь идет о том, что станет на всю жизнь неотделимой, незаменимой частью его тела, доступной всеобщему обозрению, – тут можно пойти на жертвы. Какую подлую шутку сыграли с ним его зубы. Парадентит-парадентоз – раз уж он влопался в такую мерзкую историю, надо испить чашу до дна.
Еще и монету хочет из него выжать этот зубодер, к тому же немалую. Какая низость. Но ничего не поделаешь. В конце концов, это единовременная трата. Как-нибудь надо это устроить, и он устроит, и не такие дела он устраивал.
А уж зубоскальство этого врача ему, конечно, нипочем. Если он думает, что его грошовая ирония сколько-нибудь задевает барона фон Герке, он ошибается. Против таких вещей у Вальтера фон Герке иммунитет. Чувство собственного достоинства, мой милый, давно вычеркнуто из нашего обихода. Этой слабостью мы не страдаем. Впрочем, кто постоянно ковыряется во рту у других людей, кто мочит пальцы в чужой слюне и вдыхает чужое дыхание, тому следует помалкивать, когда речь идет о достоинстве. Наглые выходки такого субъекта господин фон Герке может с чистой совестью пропустить мимо ушей.
Анна несправедлива. Доктор Вольгемут страстно любит свою профессию. Его специальность – пластические операции, у него зоркие глаза и умелые руки; изгнанный, как еврей, из Берлина, он быстро приобрел известность в Париже. Кинозвезды, дамы из общества, люди, которым приходилось выступать публично, доверяли ему свои челюсти, с тем чтобы он исправлял ошибки природы. Костлявое умное лицо, энергичные глаза под крепким лбом, высокий рост, фигура кавалериста делали доктора Вольгемута всеобщим любимцем, в особенности среди женщин. Он наивно радовался своим профессиональным и светским успехам, не скрывал этой радости, и Анна не совсем была не права, находя его тщеславным. Но, радуясь собственному успеху, он всегда готов был оказать услугу менее удачливым и помогал охотно, много и от души.
– Значит, в пятницу, в половине четвертого, я записала, – вежливо сказала Анна и положила трубку. «Уж и на пятницу все до минуты расписано, – с досадой думала она. – Завтра в одиннадцать утра он демонстрирует своих больных в университете, с Югене у него работы по крайней мере на час, с Майером столько же. Послезавтра Лилиан Корона, черт бы ее побрал, получит свои фарфоровые чехлы. Опять же история часа на три. Кто увидит ее потом на экране, тому и в голову не придет, сколько труда и хлопот стоили нам ее зубы. Надо сегодня же поговорить насчет Элли; ближайшие дни у него еще более загружены. Лучше всего это сделать за кофе. Следовало бы дать ему отдохнуть в эти минуты, но уж если вообще говорить, то другого времени не найдешь».
Вот наконец половина шестого. В приемной, правда, сидят еще пациенты, но Вольгемут, к счастью, их выпроваживает, а господину Вальтеру фон Герке, который уже здесь, придется подождать. Доктор Вольгемут пьет кофе, у него небольшой перерыв.
Анна подсаживается к нему и старается улучить удобную минутку для своей просьбы. Он держит в крепкой, пористой, огрубевшей от частого мытья руке кофейную чашку. В эти минуты передышки с ним легче всего сговориться, но нельзя обрушиться на него сразу. Пусть сначала поболтает, он это любит.
– Рабочие, присланные ЭБО для починки раковины, опять подвели нас, – сразу же начинает он. – В сущности, надо было бы покончить с этим сбродом из ЭБО. – «Эмигрантское бюро обслуживания» – так называлась организация, которая по телефонному вызову посылала рабочую силу, нуждающихся эмигрантов, для выполнения любых работ. – При всем желании с этими людьми каши не сваришь, – продолжает Вольгемут. – Вы знаете историю с дверьми? – спрашивает он и, не дождавшись ответа, начинает рассказывать.
Как-то он позвонил в ЭБО, попросил прислать мастера, чтобы исправить плохо запирающуюся дверь. Два дня спустя явилась пара, пожилые, солидные эмигранты, конечно не очень-то похожие на столяров. Они осмотрели дверь и прежде всего потребовали денег на покупку материала.
– А сколько будет стоить весь ремонт? – спрашивает Вольгемут.
– Разве можно сказать заранее? – ответили ему укоризненно. – Мы проработаем столько времени, сколько потребуется, и вы нам уплатите из расчета пятнадцать франков за час каждому.
– Ладно, – ответил Вольгемут.
Столяры вынули дверь из петель, отнесли ее на кухню и принялись за работу.
Вскоре Вольгемут услышал отчаянный шум. Он выбежал из комнаты. Стекло в кухонной двери разлетелось вдребезги, и навстречу ему пулей выскочил один из эмигрантов.
– Бога ради, господа, что это у вас здесь происходит? – осведомился пораженный Вольгемут. И пока один из них обмывал свои раны под краном, другой сообщил Вольгемуту, вне себя от негодования:
– Вы знаете, кто этот мерзавец? Он троцкист. Теперь он разоблачен. И как посмели предложить мне работать с таким типом?
– Но ведь это не я вам предложил, – сказал Вольгемут. – Никого из вас я не знаю, вас обоих прислало ЭБО. Вы пришли вместе, беритесь наконец за работу. – Но столяр никак не мог успокоиться.
– Два года, – горячился он, – я работаю вместе с ним. Но теперь он разоблачен. Он сам разоблачил себя. Никто не может от меня потребовать, чтобы я продолжал с ним работать. Такие люди, как он, и виноваты в нашем несчастье.
Но тут второй, стоявший у водопроводной раковины, снова рассвирепел и, забыв про свои раны, кинулся на противника. Доктор Вольгемут бросился их разнимать, при этом и ему попало.
– Теперь хватит, – сказал он, – убирайтесь-ка оба.
– Хорошо, – ответил столяр, – раз так, я уйду. Но сначала извольте уплатить мне за потерянное время.
– А разбитая дверь? – поинтересовался Вольгемут.
– Кто выскочил через эту дверь, – возмутился его собеседник, – я или он?
Все это доктор Вольгемут рассказал, попивая свой кофе; он рассказывал очень живо, ему, видимо, нравилась эта история. Анне она понравилась меньше. Правда, она смеялась. Но за этим смехом скрывались стыд и возмущение. Вольгемут, вероятно, кое-что приукрасил, но суть была им подмечена правильно. Таковы эмигранты, многие из них обнаглели, одичали, потеряли всякое чувство меры, они требовательны – именно потому, что им так плохо, – они смешны. Да, они докатились до того, что стали смешными, и это самое худшее. Вполне ли она, Анна, уберегла себя от этого? Если вникнуть как следует, то и в ней можно найти много смешного – ее брюзжание, ее претензии.
Какой-нибудь недоброжелатель мог бы еще так легкомысленно отнестись к эмигрантам, но Вольгемут не имел на то права. Ему следовало бы проявить больше чуткости, ему следовало бы понять, что эти люди разбиты бесконечными ударами судьбы. Кто знает, что представляли собой в Германии «столяры», пришедшие к Вольгемуту чинить дверь? Кто знает, чем они занимались, прежде чем превратиться в то, чем они теперь были? Надо же иметь снисхождение к этим людям. И, кроме того, все плохое, что говорится об одном эмигранте, бросает тень на остальных. Об этом Вольгемуту тоже следовало помнить.
– Признаться, – благодушно гудел длинноногий Вольгемут, шагая взад и вперед по комнате, – мне эти парни понравились. Просто удивительно, как много среди эмигрантов людей, не падающих духом. Все, что им приходится делать, всю свою теперешнюю жизнь они рассматривают как нечто временное. Их не интересует моя дверь, их интересует политика.
Доктор Вольгемут положительно гордится тем, что он так добродушно и притом сознательно позволяет себя эксплуатировать. Да, это подходящий момент: сейчас Анна выложит ему свою просьбу.
Она вооружилась одной из своих самых ослепительных улыбок.
– Это смешно, – начала она, – но я хотела обратиться к вам с просьбой, которая, пожалуй, только подтвердит ваше суждение об ЭБО, если вы ее исполните. – И она подробно рассказала ему историю Элли Френкель.
– Ну, послушайте, ну, знаете ли, – воскликнул доктор Вольгемут, – вы очень многого от меня требуете. Можете вы поручиться, что ваша приятельница справится с работой?
– Отнюдь нет, – ответила Анна. – Но я обращаюсь к вашему великодушию. У вас было столько печальных опытов. Имеет ли значение еще один? – Она была в ударе, она улыбалась, ее крупные красивые зубы блестели, она сверкала молодостью и свежестью; она уже не чувствовала себя эмигранткой Анной Траутвейн, обитательницей жалкого номера гостиницы «Аранхуэс»; она чувствовала себя уверенно, как в свои лучшие берлинские и мюнхенские годы.
– Какая же вы нехорошая, если еще и это хотите навязать вашему замученному шефу, – стонал доктор Вольгемут.
– Так когда Элли прийти, чтобы начать работу? – победоносно спросила Анна.
– Я надеюсь, – грозно прогудел Вольгемут, – что вы разрешите мне по крайней мере посмотреть на нее раньше, чем сговориться окончательно. Пусть придет, когда меньше всего помешает.
До сих пор Анна замечала только отрицательные качества своего шефа, отныне же она видела только его хорошие стороны. Ее улыбка уже не была профессиональной. Анна улыбалась от всего сердца. Доктору Вольгемуту доставило удовольствие рассказать историю с ЭБО, да и предстоящая встреча с господином фон Герке сулила много занятного. Поэтому оба, и Вольгемут, и Анна, вернулись в кабинет после вечернего перерыва в лучезарнейшем настроении.
* * *
Анна попросила нетерпеливо ожидавшего господина фон Герке в кабинет, и Вольгемут пригласил его сесть в зубоврачебное кресло. Господин фон Герке с достоинством опустился в кресло. Да, манеры у него отменные, этот секретарь германского посольства, красивый, смуглый молодой человек, с белокурыми, мягкими, густыми волосами и очень красными губами, ни в чем не уступал другим парижским дипломатам, а теперь выяснилось, что он способен сохранить непринужденность манер и в тех неприятных ситуациях, когда многие пасуют. Он сидел с легкой, любезной, отнюдь не напряженной улыбкой и терпеливо, вежливо слушал ядовито-игривые речи врача.
– Нам предстоит сегодня, – со свирепой веселостью начал доктор Вольгемут, – проделать довольно много грязной, грубой работы, и я думаю, – он повернулся к Анне, – что мы наденем на господина барона халат. Салфетки сегодня будет недостаточно. Господин барон одет с завидной элегантностью. – (Фон Герке покорно влез в халат.) – Я надеюсь, – продолжал доктор Вольгемут с тем же ехидным добродушием, – что мы сегодня в полном порядке. Так безболезненно, как до сих пор, я уже предупреждал вас, сегодняшний сеанс не пройдет, да и затянется он порядком. – Вольгемут подвинтил кресло и предложил господину фон Герке открыть рот.
– Дайте барону зеркало, – сказал он Анне. – Но послушайте, но поглядите, боже ты мой, что тут делается, – радостно повторял он в десятый раз, сокрушенно покачивая головой и сильно нажимая на слово «мой».
«Он готов созвать всю улицу и всем показывать мой рот», – злобно подумал фон Герке. Но по лицу его ничего нельзя было прочесть, он даже попытался улыбнуться, насколько можно улыбаться открытым ртом.
То, что барон Вальтер фон Герке, секретарь германского посольства в Париже, Шпицци, как называли его друзья, сидел в зубоврачебном кресле доктора Вольгемута, было целым событием.
Событие это имело свою длинную предысторию.
До прихода нацистов к власти господин фон Герке был незаметным, никчемным человеком. Он подвизался как гонщик-автомобилист, а время от времени и как тренер высокого класса по теннису. Своим назначением он был обязан некоей тайной «заслуге», которая сделала одного из правителей «третьей империи» его должником. Немало способствовала его назначению приятная, элегантная внешность. Несмотря на сорок один год, в нем сохранилось еще что-то дерзкое, привлекательное, мальчишеское. Лишь один недостаток нарушал благоприятное впечатление от его наружности: стоило ему открыть свои красивые, свежие губы, как показывались маленькие острые зубки, положительно крысиные, росшие к тому же вкривь и вкось. А теперь они и вовсе стали портиться, даже эмаль потускнела. Фон Герке страдал, как ему пояснили, атрофией зубных лунок, не то парадентитом, не то парадентозом, он всегда спотыкался на этом слове. Но, как бы там ни называлась его болезнь, она не только причиняла страдания и портила настроение – она еще и уродовала рот, делая красивое легкомысленное лицо порочным и старообразным. Наряду с единственной в своем роде вышеупомянутой «заслугой» лицо господина фон Герке было его ценнейшим капиталом, и поэтому надо было что-то предпринять против этого парадентита или парадентоза, проще говоря, надо было что-то сделать со своими зубами.
И вот однажды, после изрядного количества рюмок коньяку, один из его приятелей, Раймон Фонтань, знаменитый Фонтань, чья улыбка восхищала мир, сверкая с десятков тысяч экранов, в порыве откровенности поведал ему, что зубы, придававшие обаяние этой улыбке, не совсем дар природы, и в ответ на его настойчивые просьбы дал ему адрес доктора Вольгемута.
Господину фон Герке неприятно было, что кудесник доктор не «ариец». Но с национал-социалистской точки зрения большой разницы не составляло, обратиться ли к врачу-еврею или к дегенерату-французу, помеси галла с негром. При всей политической благонадежности господина фон Герке не могло быть и речи, чтобы он доверил свои челюсти какому-нибудь пинчеру-наци, одному из тех плохоньких зубных врачишек, которые шныряли по Парижу, хотя в расовом смысле у них все было благополучно. Кроме того, на сей раз необходимо преодолеть в себе расовый антагонизм даже в отечественных интересах. По роду занятий ему приходится вращаться в парижском обществе; в руководящих сферах придают большое значение тому, чтобы именно здесь, в Париже, по возможности маскировать неотесанность и грубость, свойственные новому режиму. Поэтому таким людям, как он, Шпицци, необходимо блюсти свою приятную внешность.
И вот в один прекрасный день господин фон Герке очутился в кабинете доктора Вольгемута. Вольгемут удивился. Всей душой еврей, он так же глубоко был убежден в подлости и неполноценности нацистов, как они в таких же его качествах, и то, что официальный представитель ненавистных нацистов прибегает к услугам изгнанного ими врага, доставило ему большое, веселое удовлетворение.
Предвкушая предстоящее удовольствие, он приступил к делу. Обстоятельно осмотрел зубы господина фон Герке, с неприкрытым отвращением отозвался об их эстетических изъянах, нарисовал внушительную картину их неизбежного дальнейшего разрушения, в ярких словах живописал страдания, которые господин фон Герке, несомненно, испытал в прошлом, и еще большие муки, которые предстоят ему в будущем. Без всякого перехода заговорил о поразительных успехах современного зубоврачевания, заманчиво расписал, как прекрасно можно в нынешнее время преобразить даже такой запущенный рот, как у господина барона. Продемонстрировал это на фотографиях. Показал снимки с изображением зубов своих пациентов до и после применения своего искусства. Господин фон Герке загорелся. Самое сильное впечатление произвел на него уродливый рот киноактера Раймона Фонтаня, каким он был до того, как доктор Вольгемут искусно создал его сверкающую улыбку.
Но едва любитель потешиться доктор Вольгемут добился нужного ему эффекта, как он вдруг сделался очень холоден и стал деловито втолковывать пациенту, до чего трудно придать шик именно такому рту, как у господина барона.
– Да, – сказал он с профессиональной прямотой, – если бы задача состояла только в том, чтобы в гигиеническом смысле привести в порядок ваши драгоценные зубы, то не стоило бы говорить о таких пустяках. Но зубная косметика, особенно в вашем случае, – дело чертовски канительное и сложное. Спилить верхние зубы. Вылечить корни. Поставить протезы. Боже ты мой. Это стоит труда, времени, нервов, – он сделал выразительную паузу, – и денег. Когда дело идет о косметических операциях, публика не без основания опасается счетов Вольгемута. «Кто покупает у нас, платит дороже, но покупает выгоднее», как написано на вывеске одного универсального магазина в Лондоне, или, как говорили, бывало, в нашем прежнем Берлине: «Если хочешь смолоть свой кофе у Рафаэля, плати за это». Меня, собственно, выгнали из Берлина, господин барон, что вам должно быть небезызвестно, и еще немало народу выгнали из числа тех, с кем я считаю себя связанным. Я полагаю своим долгом помогать этим людям, таков уж я, а это стоит денег. Это стоит кучу денег, почтеннейший, и потому доктор Вольгемут не принадлежит к числу дешевых врачей.
Все это длинноногий Вольгемут изложил, шагая по комнате, благодушно картавя, каламбуря, треща без умолку. Господин фон Герке, конечно, давно уже поднял голову и сидел, изящный и элегантный, в роковом кресле, вежливо, внимательно слушая. Небольшое удовольствие, конечно, глотать дерьмо, которое изрыгает этот еврей. Так и хочется встать и тихо, а может быть, и не тихо захлопнуть дверь с другой стороны. Но он уже решил доверить этому ублюдку свои зубы. В конце концов, речь идет о том, что станет на всю жизнь неотделимой, незаменимой частью его тела, доступной всеобщему обозрению, – тут можно пойти на жертвы. Какую подлую шутку сыграли с ним его зубы. Парадентит-парадентоз – раз уж он влопался в такую мерзкую историю, надо испить чашу до дна.
Еще и монету хочет из него выжать этот зубодер, к тому же немалую. Какая низость. Но ничего не поделаешь. В конце концов, это единовременная трата. Как-нибудь надо это устроить, и он устроит, и не такие дела он устраивал.
А уж зубоскальство этого врача ему, конечно, нипочем. Если он думает, что его грошовая ирония сколько-нибудь задевает барона фон Герке, он ошибается. Против таких вещей у Вальтера фон Герке иммунитет. Чувство собственного достоинства, мой милый, давно вычеркнуто из нашего обихода. Этой слабостью мы не страдаем. Впрочем, кто постоянно ковыряется во рту у других людей, кто мочит пальцы в чужой слюне и вдыхает чужое дыхание, тому следует помалкивать, когда речь идет о достоинстве. Наглые выходки такого субъекта господин фон Герке может с чистой совестью пропустить мимо ушей.