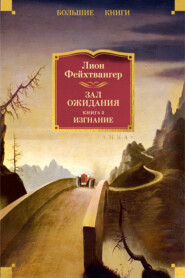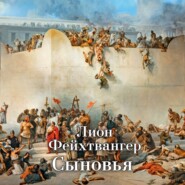По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лже-Нерон. Иеффай и его дочь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Новая вера требовала от него еще большей жертвы – отречения от своего искусства. Греческие драмы показывали человека в его борьбе с божеством и роком, они прославляли эту борьбу, их герои кичились: «Нет ничего могущественнее человека». Можно ли было, приняв благую весть смирения, в то же время служить этим надменным греческим поэтам? Иоанн вынужден был, стиснув зубы, признать, что это невозможно, что правы были его единоверцы, при всей своей терпимости осуждавшие его профессию. И вот он отказался не только от блеска и денег, которые приносил ему театр, но и от самого искусства. Но драмы греков, в особенности драмы Софокла, слишком глубоко проникли ему в кровь, чтобы он мог совершенно с ними расстаться. Самые любимые из своих книг он взял с собой в свое убожество. И они стояли тут, эти драгоценные свитки, в роскошных футлярах, странно выделяясь на фоне этого жилья. И как ни корил себя Иоанн, он снова и снова доставал их, радовал свой глаз, свое ухо, свое сердце великолепием стихов.
В эту ночь он сидел в своей бедной комнате, склонившись над манускриптом «Октавии». Чадящий масляный светильник, треща, выхватывал из тени то одну, то другую часть его лица. Он перестал следить за своей внешностью, но крупное, изрытое морщинами лицо, с тяжелым лбом, мрачными глазами, крупным носом, взлохмаченной курчавой бородой, отпущенной в эти годы отрешенности от всего мирского, обратило бы на себя внимание среди тысяч других лиц. С горящими глазами читал он при скудном свете лампы.
И вдруг случилось нечто. Вдруг Бог послал Иоанну мысль, которая заставила его вскочить, бросив манускрипт. Большими шагами бегал он по жалкой комнате. То, что мальчик принес к нему в дом это произведение, то, что пророчества Сивиллы заставили его снова вернуться к чтению «Октавии», – все это было знамением свыше. Никогда еще не читал он такого исступленного обвинения против Нерона, как «Октавия». Не случайно книга эта попала в его дом как раз теперь, когда люди уверовали, что этот антихрист Нерон, этот дикий нечистый зверь еще не умер, что он вскоре снова явится и зальет мир кровью и мерзостью. Богу угодно, чтобы он, Иоанн, свидетельствовал против Нерона. Сыграть или прочесть перед публикой это произведение – в этом нет ни суетности, ни греха, это будет угодным в глазах Господа делом.
Он бегал взад и вперед по мрачной, убогой комнате. Его сын Алексай проснулся и заспанными испуганными глазами уставился на отца. Отец шевелил губами. Он дал стихам «Октавии» вновь родиться в его душе, он позволил им в тихой, робкой попытке слететь с его уст. Звук и смысл слов сливались как бы сами собой. Стихи несли его на своих волнах – то мудрые, мерные, рассудительные слова Сенеки, то дикие, жестокие, безмерно гордые речи Нерона, то полные ужаса – Поппеи, гневные Агриппины, сострадательные – хора. Его стремление свидетельствовать в пользу своего бога, его ненависть к тирану Нерону, его необоримая жажда наконец-то, наконец-то снова опьяниться своим искусством – все это слилось воедино, вылилось в стихи. Да, «Октавию» он без угрызений совести осмелится прочесть публично. Так угодно Богу.
Он объявил, что будет декламировать в эдесском Одеоне «Октавию» Сенеки в греческом переводе.
Узнав об этом, весь город пришел в волнение. Великий актер Иоанн, не выступавший долгие годы, будет читать здесь, в Эдессе, и притом столь сенсационную вещь, как «Октавия».
Красивое здание Одеона было переполнено взбудораженной толпой, когда Иоанн вышел на подиум. Здесь были офицеры римского гарнизона и все эдесские друзья римлян. Но лояльные сторонники императора Тита с беспокойством и неодобрением заметили, что среди слушателей было много всем известных врагов Флавиев – клиенты Варрона, с его управляющим Ленеем во главе, и даже некий Теренций и множество его друзей из цеха горшечников.
Иоанн сбрил бороду и оделся по-праздничному, как это предписывал обычай. Странное впечатление производило это оливкового цвета лицо с могучим лбом и темными миндалевидными глазами над белой одеждой, спадавшей волнистыми складками. Он читал наизусть. Своим мрачным, глубоким, гибким голосом произносил он страстные, гневные стихи трагедии «Октавия», обличающие злодеяния императора Нерона. Голос его делался то мягким до неуловимости, то твердым, как алмаз, он передавал малейшие оттенки ненависти, сострадания, гордости, жестокости, страха. Люди с левого берега Евфрата, не привыкшие к большому искусству, были благодарной аудиторией. Иоанн с Патмоса привел в восторг даже врагов «Октавии». Безмолвен был громадный зал во время чтения. Лишь изредка можно было услышать чье-нибудь сдавленное, напряженное дыхание, люди возбужденно смотрели в рот говорившему или самозабвенно опускали голову на грудь. Когда он кончил – для большинства слишком скоро, – они вышли из забытья, глубоко вздохнули. Грянула буря рукоплесканий.
– Привет тебе, Иоанн с Патмоса, прекрасный, великий художник! – неслось со всех скамей.
Но неожиданно этот хор прорезали другие возгласы, все громче, все явственнее. Те, кто с ликованием приветствовал актера, встревожились. Сначала им показалось, что они ослышались. Но мало-помалу они поняли, что не ошиблись; да, в самом деле, среди этих лояльных, преданных Риму и императору Титу политиков, военных, землевладельцев и купцов Эдессы несколько сот, а потом и более тысячи человек осмелились внести сюда голос улицы, восклицая:
– Привет тебе, всеблагой, величайший император Нерон!
Впоследствии никто не мог сказать, как дело дошло до этой демонстрации, которая, без сомнения, была неприятна большей части публики. Вероятно, все обстояло так: толпа была взволнована искусством великого актера, чувства людей искали выхода, стремились вылиться наружу, людям захотелось кричать. И так как возгласы в честь артиста постепенно стихали, а возгласы: «Привет тебе, всеблагой, величайший император Нерон!» – становились все неистовее, то все больше людей поддавалось порыву, присоединялось к общему хору.
Никто уже не смотрел на подиум. Все смотрели – одни восторженно, широко раскрыв рот, другие с удивлением, третьи – колеблясь в растерянности, некоторые со страхом и неудовольствием – на того человека, к которому явно относились эти возгласы, на человека, просто одетого, скромно занимавшего одно из самых незаметных мест. И все люда в большом здании вдруг увидели яснее, чем могла бы разъяснить самая лучшая речь, что здесь, среди них, сидел некто с лицом и осанкой императора Нерона. Ибо тот, кто здесь сидел, и в самом деле был уже не горшечник Теренций, а человек, который, совершенствуясь в своем горестном уединении, впитал в себя дух исчезнувшего императора, без остатка перевоплотился в Нерона. Спокойно сидел он здесь, с рассеянной, почти детской улыбкой, несколько пресыщенный, но в гордой, царственной позе. Все оглушительней, все неистовее звучали клики приветствия императору. Он медленно встал со своего места, словно его это не касалось, словно весь этот шум никакого отношения к нему не имел. Но перед ним – как бы самопроизвольно – образовалось пустое пространство, он прошел между двумя рядами благоговейно расступившихся людей, с высоко поднятой головой, гордо и безучастно улыбаясь. Многим из присутствовавших здесь римских офицеров не раз приходилось слышать эти клики и кричать самим, приветствуя подлинного императора, случалось собственными глазами видеть подлинного Нерона. Их точно громом поразил вид этого человека, казалось, еще минута, и они воздадут ему установленные обычаем почести.
Позади Теренция – на некотором расстоянии – шли несколько его друзей. Он повернул к ним голову: хотел, видно, что-то сказать им. Во всем большом здании стало необычайно тихо. Но Теренций, как будто он ранее не слышал приветствий, а теперь не замечал тишины, непринужденно бросил через плечо своим друзьям, все еще с едва заметной усмешкой:
– В сущности, Нерону следовало бы, потехи ради, самому прочесть для публики эту «Октавию». – И тихо, точно вскользь, прибавил: – Какой артист снова явился бы миру!
Ведь весь свет знал, что для императора Нерона важнее было слыть великим актером, чем великим правителем, что император Нерон умер со словами: «Какой артист погибает!» Когда теперь этот человек, с походкой императора, повернул голову жестом императора и сказал: «Какой артист снова явился бы миру!» – да еще голосом Нерона, по всей толпе в три тысячи человек пробежал трепет, и даже те, кто затеял демонстрацию, на одну минуту поверили, что император Нерон собственной особой покидает театр.
15
Солдат – и к тому же храбрый
Полковник Фронтон, комендант римского гарнизона в Эдессе, будучи человеком осторожным, не пошел в Одеон на чтение «Октавии», ссылаясь на недомоганье. Его офицеры тотчас же после спектакля сообщили ему об овации Нерону-Теренцию, с любопытством ожидая, что он скажет по этому поводу, какие отдаст распоряжения. Но Фронтон разочаровал их. Он задал им несколько вопросов, вежливо поблагодарил и отпустил.
Оставшись один, он сел за письменный стол, стал размышлять. Неподвижно сидел он, легко опершись головой на руку, статный сорокавосьмилетний человек, с широким лбом под коротко остриженными, отливающими сталью волосами. Как быть? Не дожидаясь приказа из Антиохии, решительно выступить против этого «Нерона» и сыграть роль своего рода спасителя отечества? Перейти на сторону Нерона и стать маленьким цезарем? Будь, например, на его месте какой-нибудь Варрон, какие бы тут разыгрались дела! Фронтон не менее ясно, чем Варрон, видит открывающиеся возможности. Но так как он не Варрон, а Фронтон, то события не разыграются. Он ограничится тем, что пошлет этим идиотам в Антиохию доклад по всей форме, запросит, как ему действовать, будет выжидать.
Выжидать. Это, к сожалению, стало девизом его жизни. Полковник Фронтон считался одним из самых одаренных офицеров армии. Те отрывки из «Учебника военного искусства», которые он опубликовал, приобрели известность среди специалистов. Но, несмотря на то что он участвовал в Парфянской и Иудейской войнах, ему никогда не привелось претворить свою теорию в жизнь. Если представлялась интересная тактическая или стратегическая задача, тут как тут оказывались всякие глупцы, бравые посредственные офицеры. Его же, Фронтона, держали в отдалении, то ли по злой воле военного командования, то ли по прихоти коварного случая. «Кабинетным полководцем» прозвали его товарищи. Для Флавиев, которые сами были всего лишь бравыми посредственными офицерами, его теории были слишком смелы и современны. Цезари послали его не на Запад или на Север, где для деятельности военного хватало дел, а сплавили сюда, на окраину, в эту восточную глушь.
Не то чтобы восточная жизнь пришлась не по душе Фронтону. Он приехал в эти края еще в ранней молодости. Запутанность, глубина, необузданность Востока, где невозможно что-либо предвидеть, древняя культура страны с самого начала пленили Фронтона. Он был страстным поборником нероновской политики, его воодушевляла идея органического слияния Востока с Римской империей. Но когда Нерон погиб, а новые властители резко повернули курс римской политики, он не решился встать на путь, которого требовали от него его политические убеждения, и расстаться со службой. Фронтон любил Восток, он убежден был, что только нероновская политика могла действительно усилить и возвеличить Рим, а трезвая, бескрылая политика новых владык, их ориентация на Запад претила ему. Но, с другой стороны, за ним был большой служебный стаж, и у него не хватило духу отказаться от прав, которые стаж этот давал, от всей своей карьеры, от перспективы получить хороший участок земли и большую пенсию, прослужив еще восемнадцать лет. Таким образом, он похоронил мечты о яркой жизни, о слиянии Востока с Западом, глубоко замуровал в себе свои идеи, подчинился новым правителям.
А они не любили его и не особенно щедро отблагодарили. Он домогался места командующего гарнизоном в Самосате – доходный пост в приятном, крупном городе с высокой культурой. Но туда послали неуча капитана Требония, а его назначили в Эдессу, в этот полудикий город на окраине, конечно, под почетным предлогом, что здесь нужны недюжинные дипломатические способности. Это было верно. Но верно было и то, что служебный путь здесь был усеян шипами, что пост Фронтона был сопряжен с большой ответственностью, с неблагодарной работой и не сулил успеха. От Эдессы вверх путей не было.
Фронтон, очень умный человек, глубоко запрятал жгучую обиду на Флавиев, оставивших его прокисать здесь. Но сегодня, в уединении своего кабинета, услышав, что «Нерон» снова всплыл на поверхность, он, несмотря на весь свой ум и умение держать себя, несмотря на то что он смирился со своим положением, искусал себе до крови губы и втихомолку скрежетал зубами.
Нет, теперь уж нет смысла чего-либо домогаться. Появление этого «Нерона» уже не принесет ему никакой пользы. Все давно решено. Когда пришли к власти новые правители, у него была свобода выбора, но он принес тогда Веспасиану присягу и, следовательно, раз навсегда выбрал благоразумие, примирение, право на пенсию. Выбор правильный. Лишь очень редко Фронтоном овладевает сожаление и почти никогда – раскаяние. Но сегодня, после нелепых событий в Одеоне, его грызет раскаяние. Быть может, все же Варрон оказался умнее? Он сразу порвал с новыми хозяевами, не побоялся впасть в немилость у Палатина и с тех пор ведет свою собственную политику.
Хотя у Фронтона нет ни малейшего доказательства, он уверен, что за этим Нероном-Теренцием тоже скрывается Варрон. С того момента, как он впервые услышал о появлении погибшего цезаря, он почувствовал за ним Варрона. Он знает сенатора с юных лет. Они вместе прибыли на Восток, вместе опьянялись тем новым и великим, что дала им эта страна. Теперь они во враждебных лагерях. Он, Фронтон, представляет в Эдессе трезвую милитаристскую политику Флавиев, Варрон тысячами тайных путей продолжает смелую, запретную политику Нерона. Фронтон завидует Варрону и восхищается его дерзостью, его страстностью, его энергией, хотя рассудком его не оправдывает. В официальных отношениях с Варроном он обнаруживает сдержанность, с какой офицеру Флавиев и подобает относиться к такому двусмысленному человеку. Но при всяком удобном случае дает Варрону почувствовать, что по-прежнему питает к нему глубочайший интерес. Кроме того, он не может отказать себе в том, чтобы по-своему – сдержанно, благовоспитанно, но очень явно – не ухаживать за дочерью Варрона, строгой белолицей Марцией. Он не знает, да и не хочет знать, в какой мере его интерес к Марции существует сам по себе и в какой служит только предлогом быть поближе к Варрону. Для него ясно, что в этом краю Варрон – человек, самый близкий ему, Фронтону. Он одержимый, этот Варрон, и добром не кончит. Если его смелый замысел удастся, то для Фронтона это будет осуждением, вечным упреком, ядом, который отравит ему старость. Тем не менее в глубине души он относится к Варрону дружелюбно. Он ждет результатов политики Варрона, ждет неизбежной плачевной развязки с жгучим нетерпением, к которому, неизвестно почему, примешиваются тоска и страх.
Быть может, появление «Нерона» будет способствовать этой развязке? Фронтон мог бы тоже способствовать ей, ускорить ее или замедлить. Было бы соблазнительно показать это тому или другому – Дергунчику или Варрону. Но нет, он ничего не предпримет против Варрона. Варрон – славный человек, он любит Варрона. Он предоставит судьбе доказать, что ведь в конечном счете прав был он, Фронтон, и не прав сенатор.
Итак, он воздержится от выступления против «Нерона».
Но не рискованно ли бездействовать? Не упрекнут ли его за это в Антиохии или Риме? Нет. Наказуемого деяния горшечник Теренций не совершил. Его ли вина, что другим померещилось, будто они видят покойного императора? Кроме того, Теренций, как и его патрон, не только римский подданный, но и гражданин Эдессы. Надо иметь точные, неопровержимые улики, прежде чем принимать против него меры. Со злой усмешкой Фронтон вспоминает «первый наказ» Флавиев, их напутствие уезжающим офицерам: в сомнительном случае лучше воздержаться, чем сделать ложный шаг.
Следовательно, он воздержится. Пошлет рапорт в Антиохию и затребует оттуда указаний. Интересно, какие инструкции дадут ему эти идиоты. Он-то знает, как справиться с этим «Нероном» и теми, кто за ним скрывается. Насилия ни при каких обстоятельствах в ход пускать нельзя. Поскольку население Эдессы убеждено в том, что Нерон жив, следовало бы попробовать потихоньку, осторожно подкопать корни этого убеждения и вырвать их, иначе они будут прорастать снова и снова. Но после того как в Антиохии не раз игнорировали его осторожные советы, у него нет охоты наставлять Дергунчика на путь истинный. Он, напротив, ограничится рапортом и не без злорадства будет наблюдать, как умный, хитрый Варрон обводит вокруг пальца неуклюжего Цейония с его деревянными военными методами.
На этом Фронтон обрывает свои размышления. Он зовет секретаря, начинает диктовать донесение в Антиохию.
В эту минуту ему приносят срочное письмо от верховного жреца Шарбиля. Шарбиль настоятельно просит о немедленном свидании.
Фронтон, взволнованный, отправляется в дом жреца. Старец в цветистых словах заговаривает с ним о неприятном положении, в которое ставит город Эдессу странное событие в Одеоне. Город теперь подобен мулу, который в тумане и облаках ищет пути на горной тропе: один неверный шаг – и мул погиб. Если предположить, что этот человек действительно император Нерон, – как осмелится город отказать в подобающем почтении столь высокому гостю? Но если этот человек – дурак или мошенник, не следует ли царю Маллуку немедленно заключить его под стражу, как обычного преступника?
Фронтон слушал вежливо и терпеливо. Его умные глаза под широким лбом, обрамленным седеющими волосами, смотрят на позолоченные зубы Шарбиля. Фронтон привык к методам Востока, он уже многие годы с интересом тонкого ценителя наблюдает все ухищрения, увертки и уловки царя Маллука и верховного жреца; он уверен, что Варрон уговорился с ними и что овация в Одеоне была устроена не без их тайного содействия. Поэтому он выжидает, куда клонит старец. И в таких же запутанных выражениях, как Шарбиль, говорит, что ему, рядовому римскому офицеру, не подобает высказывать мнение и тем более давать совет в таком щекотливом положении.
– Мой друг слишком скромен, – сказал Шарбиль. – Что-нибудь предпринять надо. Медлить – хорошо, но, если медлить слишком долго, вещи портятся, как перезрелые плоды. Царь Маллук боится, что если он ничего не предпримет, то вызовет таким бездействием неудовольствие своего могущественного союзника, губернатора Антиохии. Поэтому он намерен удостовериться, кто же этот человек, которого столь многие принимают за императора. Конечно, это будет сделано весьма осторожно. Он поставит перед его домом вооруженных людей; впоследствии, когда положение прояснится, этих вооруженных людей можно будет рассматривать в зависимости от обстоятельств – как почетную стражу или тюремный караул. Другими словами, царь Маллук намерен покамест взять этого человека под своего рода почетный арест. Но он не хочет делать этого без согласия Фронтона, дабы никто не мог впоследствии, в Антиохии или Риме, истолковать этот шаг как оскорбление величества, если этот человек действительно окажется императором Нероном.
Фронтон изумлен. Предложение Шарбиля звучит совершенно искренне, необычайно честно и корректно. Не ошибся ли Фронтон? Неужели за этим Теренцием не скрывается ни Варрон, ни царь Маллук? Неужели все это – попросту шутка дурака или безумца, одержимого манией величия? Но против такого предположения говорит то, что события назревали медленно, в них чувствовались планомерность, целеустремленность. Фронтон, как он ни был хитер, не мог понять, что же на самом деле задумал верховный жрец. Как всегда, поведение Маллука избавляло его от всякой ответственности: Фронтон похвалил мудрость и верность союзникам, проявленные царем Эдессы. Потом, задумчиво покачивая головой, он отправился домой диктовать донесение.
Но не успел он продиктовать еще нескольких строк, как пришло новое спешное письмо от верховного жреца. В его словах чувствовались большое смущение и озабоченность; Шарбиль сообщал, что люди, которым было приказано удостовериться, что за человек Теренций, уже не нашли его, он укрылся в храме богини Тараты, намереваясь воспользоваться правом убежища, даруемым святилищем богини.
Фронтон свистнул сквозь зубы. Храм Тараты был всеми признанным убежищем. Эдесские власти не могли вторгнуться в убежище, это было невозможно и для римлян – иначе они восстановили бы против себя весь Восток. Теперь ему стало ясно, почему Шарбиль так срочно вызвал его к себе. Верховный жрец хотел помешать Фронтону арестовать этого человека, он своевременно укрыл его в убежище богини, оберегая от римлян. Но все это жрец сделал так, чтобы из Рима не могли предъявить ему никаких претензий. Разговор с Фронтоном создавал ему алиби. Царь Маллук выказал намерение задержать этого человека, хотя это и не было его обязанностью, и представить его в распоряжение римского губернатора. Но раз Теренций, или кто бы он ни был, бежал, раз он скрылся под защиту богини Тараты, то и Шарбиль, и его господин, царь Маллук, в этом неповинны.
Фронтон улыбнулся, еще раз подивившись восточной хитрости. Теперь в Месопотамии начнется изрядная кутерьма. Дергунчику придется здорово подергаться, подумал он на хорошем латинском языке.
То же самое на хорошем арамейском языке незадолго до этого подумал верховный жрец Шарбиль.
16
Гость богини Тараты
И вот Теренций очутился в храме Тараты, в самом сердце его, в целле, где помещались древнее изображение богини, ее алтарь и ее непристойные символы. Со дня овации в театре он испытывал страх, ему не раз приходило в голову скрыться в Лабиринте до тех пор, пока не появится Варрон и все не станет ясно. Но когда к нему явился некто в одежде торговца, намеренно плохо маскировавшей жреца Тараты, и предложил ему немедленно отправиться в убежище богини, Теренций последовал за ним без колебаний, слепо, со вздохом облегчения, чувствуя, что он теперь в хороших, могущественных руках.
Он ожидал, что верховный жрец встретит его как гостя богини, заверит в том, что она принимает его под защиту, окажет ему достойный прием. Но ничего подобного не случилось. Его оставили одного в тесной, неуютной каморке, в полной неизвестности. Шарбиль точно так же, как и Варрон, считал полезным затянуть дело, чтобы сделать Теренция возможно более покладистым.
Пришла ночь, для Теренция – ночь отнюдь не из приятных.
Храм Тараты был велик. Провести ночь в переднем дворе было не так тяжко. Там была какая-то своя жизнь – маленький пруд с рыбами богини и множество белых голубей, посвященных ей. В самом храме тоже было бы еще терпимо, хотя легко представить себе более уютное помещение, чем этот колоссальный зал с его древними, исчерна-зелеными, суживающимися кверху колоннами. Но Теренций не знал, простирается ли право убежища на весь храм или же только на целлу с ее алтарем и кумиром богини. А здесь, в целле, куда сквозь узкое отверстие проникал лишь скудный свет луны и звезд, было тесно и жутко, и Теренцию все мерещились какие-то страшные лица. Он улегся на верхней ступени жертвенника, в страхе стараясь все время прикасаться одной рукой к самому алтарю; ему неясно помнилось, будто тот, кто ищет убежища у богини, должен держаться рукой за ее алтарь или за ее изображение. По обе стороны алтаря тянулись в неверном свете месяца символы богини, колоссальные каменные изображения фаллоса. У изголовья Теренция, в нише над алтарем, поднималась древняя диковинная статуя Тараты цвета темной бронзы. На богине был венец с зубцами и башнями, как на стене, остро торчали ее голые груди, нижняя часть тела переходила в рыбий хвост. В одной руке она держала веретено, в другой – бубен. Ее узкое, древнее и все же молодое лицо с закрытыми глазами улыбалось гостю нежно, двусмысленно и зловеще.
Среди ночи Теренций стал зябнуть. Чувство безопасности, которое он ощутил при появлении посланца Тараты, покинуло его. Долго ли еще будут испытывать его этим недостойным ожиданием? Почему первосвященник не является наконец приветствовать его? Куда девался Варрон? Почему его оставляют в полной неизвестности и одиночестве, если хотят, чтобы он был императором? И в безопасности ли он здесь вообще? А что, если его завлекли в ловушку? Страх его рос, им овладевал гнев на тех, кто соблазнил его этой авантюрой, заманил сюда, и ему очень хотелось, чтобы по крайней мере Гайя или раб Кнопс были с ним.
Он пытался найти опору в своей вере в себя. Вновь принял обличье Нерона, стал императором – в одиночестве вознесся над всеми и всем. Так подобает цезарю. Он недосягаем, он – повелитель мира. Снаружи доносилось воркованье священных белых голубей, которых что-то потревожило, в проем проникал мерцающий лунный свет, и богиня улыбалась ему с высоты таинственной и злой улыбкой. Позор для всего Запада, что ему, императору, пришлось искать защиты у этой двусмысленной богини, под сенью ее непристойных символов. Но он тотчас же раскаялся в своих мыслях, которые Тарата могла истолковать как святотатство, – ведь он теперь в ее руках.
Как он ненавидел этого актера Иоанна с Патмоса! Именно тот довел его до такого положения своим нелепым чтением «Октавии», не говоря уже о том, что сам Теренций, если бы только захотел, был бы куда более великим артистом, чем этот грязный христианин. А в «Эдипе» у Иоанна все, с начала и до конца, фальшиво и бескрыло! Сам Иоанн, если он действительно что-нибудь понимает в искусстве, понял бы, что под оболочкой Теренция скрывается нечто большее. Толпа, с ее здоровым инстинктом, тотчас же это заметила. Только снобы, несколько наемников Тита и подкупленные им креатуры не хотят этого понимать. И из-за них он должен здесь скрываться.
Но теперь уже недолго терпеть, скоро он сможет раздавить их всех, всех своих противников. Он перебирал в уме имена сторонников Тита в Эдессе и их вожаков. Конечно, сюда же он отнес тех, кого он лично, по тем или иным мотивам, не любил, с кем у него бывали столкновения, – конкурентов, товарищей по цеху, подозреваемых в том, что они недостаточно почитают его. В конце концов получилась довольно внушительная шеренга. Он спрашивал себя, отнести ли сюда и Гайю с ее дерзкими сомнениями. Но не додумал эту мысль до конца и ни на что не решился, а вместо этого начал со всеми подробностями рисовать себе, как со вкусом, не спеша, будет мстить тем, кого считает своими явными врагами.
В эту ночь он сидел в своей бедной комнате, склонившись над манускриптом «Октавии». Чадящий масляный светильник, треща, выхватывал из тени то одну, то другую часть его лица. Он перестал следить за своей внешностью, но крупное, изрытое морщинами лицо, с тяжелым лбом, мрачными глазами, крупным носом, взлохмаченной курчавой бородой, отпущенной в эти годы отрешенности от всего мирского, обратило бы на себя внимание среди тысяч других лиц. С горящими глазами читал он при скудном свете лампы.
И вдруг случилось нечто. Вдруг Бог послал Иоанну мысль, которая заставила его вскочить, бросив манускрипт. Большими шагами бегал он по жалкой комнате. То, что мальчик принес к нему в дом это произведение, то, что пророчества Сивиллы заставили его снова вернуться к чтению «Октавии», – все это было знамением свыше. Никогда еще не читал он такого исступленного обвинения против Нерона, как «Октавия». Не случайно книга эта попала в его дом как раз теперь, когда люди уверовали, что этот антихрист Нерон, этот дикий нечистый зверь еще не умер, что он вскоре снова явится и зальет мир кровью и мерзостью. Богу угодно, чтобы он, Иоанн, свидетельствовал против Нерона. Сыграть или прочесть перед публикой это произведение – в этом нет ни суетности, ни греха, это будет угодным в глазах Господа делом.
Он бегал взад и вперед по мрачной, убогой комнате. Его сын Алексай проснулся и заспанными испуганными глазами уставился на отца. Отец шевелил губами. Он дал стихам «Октавии» вновь родиться в его душе, он позволил им в тихой, робкой попытке слететь с его уст. Звук и смысл слов сливались как бы сами собой. Стихи несли его на своих волнах – то мудрые, мерные, рассудительные слова Сенеки, то дикие, жестокие, безмерно гордые речи Нерона, то полные ужаса – Поппеи, гневные Агриппины, сострадательные – хора. Его стремление свидетельствовать в пользу своего бога, его ненависть к тирану Нерону, его необоримая жажда наконец-то, наконец-то снова опьяниться своим искусством – все это слилось воедино, вылилось в стихи. Да, «Октавию» он без угрызений совести осмелится прочесть публично. Так угодно Богу.
Он объявил, что будет декламировать в эдесском Одеоне «Октавию» Сенеки в греческом переводе.
Узнав об этом, весь город пришел в волнение. Великий актер Иоанн, не выступавший долгие годы, будет читать здесь, в Эдессе, и притом столь сенсационную вещь, как «Октавия».
Красивое здание Одеона было переполнено взбудораженной толпой, когда Иоанн вышел на подиум. Здесь были офицеры римского гарнизона и все эдесские друзья римлян. Но лояльные сторонники императора Тита с беспокойством и неодобрением заметили, что среди слушателей было много всем известных врагов Флавиев – клиенты Варрона, с его управляющим Ленеем во главе, и даже некий Теренций и множество его друзей из цеха горшечников.
Иоанн сбрил бороду и оделся по-праздничному, как это предписывал обычай. Странное впечатление производило это оливкового цвета лицо с могучим лбом и темными миндалевидными глазами над белой одеждой, спадавшей волнистыми складками. Он читал наизусть. Своим мрачным, глубоким, гибким голосом произносил он страстные, гневные стихи трагедии «Октавия», обличающие злодеяния императора Нерона. Голос его делался то мягким до неуловимости, то твердым, как алмаз, он передавал малейшие оттенки ненависти, сострадания, гордости, жестокости, страха. Люди с левого берега Евфрата, не привыкшие к большому искусству, были благодарной аудиторией. Иоанн с Патмоса привел в восторг даже врагов «Октавии». Безмолвен был громадный зал во время чтения. Лишь изредка можно было услышать чье-нибудь сдавленное, напряженное дыхание, люди возбужденно смотрели в рот говорившему или самозабвенно опускали голову на грудь. Когда он кончил – для большинства слишком скоро, – они вышли из забытья, глубоко вздохнули. Грянула буря рукоплесканий.
– Привет тебе, Иоанн с Патмоса, прекрасный, великий художник! – неслось со всех скамей.
Но неожиданно этот хор прорезали другие возгласы, все громче, все явственнее. Те, кто с ликованием приветствовал актера, встревожились. Сначала им показалось, что они ослышались. Но мало-помалу они поняли, что не ошиблись; да, в самом деле, среди этих лояльных, преданных Риму и императору Титу политиков, военных, землевладельцев и купцов Эдессы несколько сот, а потом и более тысячи человек осмелились внести сюда голос улицы, восклицая:
– Привет тебе, всеблагой, величайший император Нерон!
Впоследствии никто не мог сказать, как дело дошло до этой демонстрации, которая, без сомнения, была неприятна большей части публики. Вероятно, все обстояло так: толпа была взволнована искусством великого актера, чувства людей искали выхода, стремились вылиться наружу, людям захотелось кричать. И так как возгласы в честь артиста постепенно стихали, а возгласы: «Привет тебе, всеблагой, величайший император Нерон!» – становились все неистовее, то все больше людей поддавалось порыву, присоединялось к общему хору.
Никто уже не смотрел на подиум. Все смотрели – одни восторженно, широко раскрыв рот, другие с удивлением, третьи – колеблясь в растерянности, некоторые со страхом и неудовольствием – на того человека, к которому явно относились эти возгласы, на человека, просто одетого, скромно занимавшего одно из самых незаметных мест. И все люда в большом здании вдруг увидели яснее, чем могла бы разъяснить самая лучшая речь, что здесь, среди них, сидел некто с лицом и осанкой императора Нерона. Ибо тот, кто здесь сидел, и в самом деле был уже не горшечник Теренций, а человек, который, совершенствуясь в своем горестном уединении, впитал в себя дух исчезнувшего императора, без остатка перевоплотился в Нерона. Спокойно сидел он здесь, с рассеянной, почти детской улыбкой, несколько пресыщенный, но в гордой, царственной позе. Все оглушительней, все неистовее звучали клики приветствия императору. Он медленно встал со своего места, словно его это не касалось, словно весь этот шум никакого отношения к нему не имел. Но перед ним – как бы самопроизвольно – образовалось пустое пространство, он прошел между двумя рядами благоговейно расступившихся людей, с высоко поднятой головой, гордо и безучастно улыбаясь. Многим из присутствовавших здесь римских офицеров не раз приходилось слышать эти клики и кричать самим, приветствуя подлинного императора, случалось собственными глазами видеть подлинного Нерона. Их точно громом поразил вид этого человека, казалось, еще минута, и они воздадут ему установленные обычаем почести.
Позади Теренция – на некотором расстоянии – шли несколько его друзей. Он повернул к ним голову: хотел, видно, что-то сказать им. Во всем большом здании стало необычайно тихо. Но Теренций, как будто он ранее не слышал приветствий, а теперь не замечал тишины, непринужденно бросил через плечо своим друзьям, все еще с едва заметной усмешкой:
– В сущности, Нерону следовало бы, потехи ради, самому прочесть для публики эту «Октавию». – И тихо, точно вскользь, прибавил: – Какой артист снова явился бы миру!
Ведь весь свет знал, что для императора Нерона важнее было слыть великим актером, чем великим правителем, что император Нерон умер со словами: «Какой артист погибает!» Когда теперь этот человек, с походкой императора, повернул голову жестом императора и сказал: «Какой артист снова явился бы миру!» – да еще голосом Нерона, по всей толпе в три тысячи человек пробежал трепет, и даже те, кто затеял демонстрацию, на одну минуту поверили, что император Нерон собственной особой покидает театр.
15
Солдат – и к тому же храбрый
Полковник Фронтон, комендант римского гарнизона в Эдессе, будучи человеком осторожным, не пошел в Одеон на чтение «Октавии», ссылаясь на недомоганье. Его офицеры тотчас же после спектакля сообщили ему об овации Нерону-Теренцию, с любопытством ожидая, что он скажет по этому поводу, какие отдаст распоряжения. Но Фронтон разочаровал их. Он задал им несколько вопросов, вежливо поблагодарил и отпустил.
Оставшись один, он сел за письменный стол, стал размышлять. Неподвижно сидел он, легко опершись головой на руку, статный сорокавосьмилетний человек, с широким лбом под коротко остриженными, отливающими сталью волосами. Как быть? Не дожидаясь приказа из Антиохии, решительно выступить против этого «Нерона» и сыграть роль своего рода спасителя отечества? Перейти на сторону Нерона и стать маленьким цезарем? Будь, например, на его месте какой-нибудь Варрон, какие бы тут разыгрались дела! Фронтон не менее ясно, чем Варрон, видит открывающиеся возможности. Но так как он не Варрон, а Фронтон, то события не разыграются. Он ограничится тем, что пошлет этим идиотам в Антиохию доклад по всей форме, запросит, как ему действовать, будет выжидать.
Выжидать. Это, к сожалению, стало девизом его жизни. Полковник Фронтон считался одним из самых одаренных офицеров армии. Те отрывки из «Учебника военного искусства», которые он опубликовал, приобрели известность среди специалистов. Но, несмотря на то что он участвовал в Парфянской и Иудейской войнах, ему никогда не привелось претворить свою теорию в жизнь. Если представлялась интересная тактическая или стратегическая задача, тут как тут оказывались всякие глупцы, бравые посредственные офицеры. Его же, Фронтона, держали в отдалении, то ли по злой воле военного командования, то ли по прихоти коварного случая. «Кабинетным полководцем» прозвали его товарищи. Для Флавиев, которые сами были всего лишь бравыми посредственными офицерами, его теории были слишком смелы и современны. Цезари послали его не на Запад или на Север, где для деятельности военного хватало дел, а сплавили сюда, на окраину, в эту восточную глушь.
Не то чтобы восточная жизнь пришлась не по душе Фронтону. Он приехал в эти края еще в ранней молодости. Запутанность, глубина, необузданность Востока, где невозможно что-либо предвидеть, древняя культура страны с самого начала пленили Фронтона. Он был страстным поборником нероновской политики, его воодушевляла идея органического слияния Востока с Римской империей. Но когда Нерон погиб, а новые властители резко повернули курс римской политики, он не решился встать на путь, которого требовали от него его политические убеждения, и расстаться со службой. Фронтон любил Восток, он убежден был, что только нероновская политика могла действительно усилить и возвеличить Рим, а трезвая, бескрылая политика новых владык, их ориентация на Запад претила ему. Но, с другой стороны, за ним был большой служебный стаж, и у него не хватило духу отказаться от прав, которые стаж этот давал, от всей своей карьеры, от перспективы получить хороший участок земли и большую пенсию, прослужив еще восемнадцать лет. Таким образом, он похоронил мечты о яркой жизни, о слиянии Востока с Западом, глубоко замуровал в себе свои идеи, подчинился новым правителям.
А они не любили его и не особенно щедро отблагодарили. Он домогался места командующего гарнизоном в Самосате – доходный пост в приятном, крупном городе с высокой культурой. Но туда послали неуча капитана Требония, а его назначили в Эдессу, в этот полудикий город на окраине, конечно, под почетным предлогом, что здесь нужны недюжинные дипломатические способности. Это было верно. Но верно было и то, что служебный путь здесь был усеян шипами, что пост Фронтона был сопряжен с большой ответственностью, с неблагодарной работой и не сулил успеха. От Эдессы вверх путей не было.
Фронтон, очень умный человек, глубоко запрятал жгучую обиду на Флавиев, оставивших его прокисать здесь. Но сегодня, в уединении своего кабинета, услышав, что «Нерон» снова всплыл на поверхность, он, несмотря на весь свой ум и умение держать себя, несмотря на то что он смирился со своим положением, искусал себе до крови губы и втихомолку скрежетал зубами.
Нет, теперь уж нет смысла чего-либо домогаться. Появление этого «Нерона» уже не принесет ему никакой пользы. Все давно решено. Когда пришли к власти новые правители, у него была свобода выбора, но он принес тогда Веспасиану присягу и, следовательно, раз навсегда выбрал благоразумие, примирение, право на пенсию. Выбор правильный. Лишь очень редко Фронтоном овладевает сожаление и почти никогда – раскаяние. Но сегодня, после нелепых событий в Одеоне, его грызет раскаяние. Быть может, все же Варрон оказался умнее? Он сразу порвал с новыми хозяевами, не побоялся впасть в немилость у Палатина и с тех пор ведет свою собственную политику.
Хотя у Фронтона нет ни малейшего доказательства, он уверен, что за этим Нероном-Теренцием тоже скрывается Варрон. С того момента, как он впервые услышал о появлении погибшего цезаря, он почувствовал за ним Варрона. Он знает сенатора с юных лет. Они вместе прибыли на Восток, вместе опьянялись тем новым и великим, что дала им эта страна. Теперь они во враждебных лагерях. Он, Фронтон, представляет в Эдессе трезвую милитаристскую политику Флавиев, Варрон тысячами тайных путей продолжает смелую, запретную политику Нерона. Фронтон завидует Варрону и восхищается его дерзостью, его страстностью, его энергией, хотя рассудком его не оправдывает. В официальных отношениях с Варроном он обнаруживает сдержанность, с какой офицеру Флавиев и подобает относиться к такому двусмысленному человеку. Но при всяком удобном случае дает Варрону почувствовать, что по-прежнему питает к нему глубочайший интерес. Кроме того, он не может отказать себе в том, чтобы по-своему – сдержанно, благовоспитанно, но очень явно – не ухаживать за дочерью Варрона, строгой белолицей Марцией. Он не знает, да и не хочет знать, в какой мере его интерес к Марции существует сам по себе и в какой служит только предлогом быть поближе к Варрону. Для него ясно, что в этом краю Варрон – человек, самый близкий ему, Фронтону. Он одержимый, этот Варрон, и добром не кончит. Если его смелый замысел удастся, то для Фронтона это будет осуждением, вечным упреком, ядом, который отравит ему старость. Тем не менее в глубине души он относится к Варрону дружелюбно. Он ждет результатов политики Варрона, ждет неизбежной плачевной развязки с жгучим нетерпением, к которому, неизвестно почему, примешиваются тоска и страх.
Быть может, появление «Нерона» будет способствовать этой развязке? Фронтон мог бы тоже способствовать ей, ускорить ее или замедлить. Было бы соблазнительно показать это тому или другому – Дергунчику или Варрону. Но нет, он ничего не предпримет против Варрона. Варрон – славный человек, он любит Варрона. Он предоставит судьбе доказать, что ведь в конечном счете прав был он, Фронтон, и не прав сенатор.
Итак, он воздержится от выступления против «Нерона».
Но не рискованно ли бездействовать? Не упрекнут ли его за это в Антиохии или Риме? Нет. Наказуемого деяния горшечник Теренций не совершил. Его ли вина, что другим померещилось, будто они видят покойного императора? Кроме того, Теренций, как и его патрон, не только римский подданный, но и гражданин Эдессы. Надо иметь точные, неопровержимые улики, прежде чем принимать против него меры. Со злой усмешкой Фронтон вспоминает «первый наказ» Флавиев, их напутствие уезжающим офицерам: в сомнительном случае лучше воздержаться, чем сделать ложный шаг.
Следовательно, он воздержится. Пошлет рапорт в Антиохию и затребует оттуда указаний. Интересно, какие инструкции дадут ему эти идиоты. Он-то знает, как справиться с этим «Нероном» и теми, кто за ним скрывается. Насилия ни при каких обстоятельствах в ход пускать нельзя. Поскольку население Эдессы убеждено в том, что Нерон жив, следовало бы попробовать потихоньку, осторожно подкопать корни этого убеждения и вырвать их, иначе они будут прорастать снова и снова. Но после того как в Антиохии не раз игнорировали его осторожные советы, у него нет охоты наставлять Дергунчика на путь истинный. Он, напротив, ограничится рапортом и не без злорадства будет наблюдать, как умный, хитрый Варрон обводит вокруг пальца неуклюжего Цейония с его деревянными военными методами.
На этом Фронтон обрывает свои размышления. Он зовет секретаря, начинает диктовать донесение в Антиохию.
В эту минуту ему приносят срочное письмо от верховного жреца Шарбиля. Шарбиль настоятельно просит о немедленном свидании.
Фронтон, взволнованный, отправляется в дом жреца. Старец в цветистых словах заговаривает с ним о неприятном положении, в которое ставит город Эдессу странное событие в Одеоне. Город теперь подобен мулу, который в тумане и облаках ищет пути на горной тропе: один неверный шаг – и мул погиб. Если предположить, что этот человек действительно император Нерон, – как осмелится город отказать в подобающем почтении столь высокому гостю? Но если этот человек – дурак или мошенник, не следует ли царю Маллуку немедленно заключить его под стражу, как обычного преступника?
Фронтон слушал вежливо и терпеливо. Его умные глаза под широким лбом, обрамленным седеющими волосами, смотрят на позолоченные зубы Шарбиля. Фронтон привык к методам Востока, он уже многие годы с интересом тонкого ценителя наблюдает все ухищрения, увертки и уловки царя Маллука и верховного жреца; он уверен, что Варрон уговорился с ними и что овация в Одеоне была устроена не без их тайного содействия. Поэтому он выжидает, куда клонит старец. И в таких же запутанных выражениях, как Шарбиль, говорит, что ему, рядовому римскому офицеру, не подобает высказывать мнение и тем более давать совет в таком щекотливом положении.
– Мой друг слишком скромен, – сказал Шарбиль. – Что-нибудь предпринять надо. Медлить – хорошо, но, если медлить слишком долго, вещи портятся, как перезрелые плоды. Царь Маллук боится, что если он ничего не предпримет, то вызовет таким бездействием неудовольствие своего могущественного союзника, губернатора Антиохии. Поэтому он намерен удостовериться, кто же этот человек, которого столь многие принимают за императора. Конечно, это будет сделано весьма осторожно. Он поставит перед его домом вооруженных людей; впоследствии, когда положение прояснится, этих вооруженных людей можно будет рассматривать в зависимости от обстоятельств – как почетную стражу или тюремный караул. Другими словами, царь Маллук намерен покамест взять этого человека под своего рода почетный арест. Но он не хочет делать этого без согласия Фронтона, дабы никто не мог впоследствии, в Антиохии или Риме, истолковать этот шаг как оскорбление величества, если этот человек действительно окажется императором Нероном.
Фронтон изумлен. Предложение Шарбиля звучит совершенно искренне, необычайно честно и корректно. Не ошибся ли Фронтон? Неужели за этим Теренцием не скрывается ни Варрон, ни царь Маллук? Неужели все это – попросту шутка дурака или безумца, одержимого манией величия? Но против такого предположения говорит то, что события назревали медленно, в них чувствовались планомерность, целеустремленность. Фронтон, как он ни был хитер, не мог понять, что же на самом деле задумал верховный жрец. Как всегда, поведение Маллука избавляло его от всякой ответственности: Фронтон похвалил мудрость и верность союзникам, проявленные царем Эдессы. Потом, задумчиво покачивая головой, он отправился домой диктовать донесение.
Но не успел он продиктовать еще нескольких строк, как пришло новое спешное письмо от верховного жреца. В его словах чувствовались большое смущение и озабоченность; Шарбиль сообщал, что люди, которым было приказано удостовериться, что за человек Теренций, уже не нашли его, он укрылся в храме богини Тараты, намереваясь воспользоваться правом убежища, даруемым святилищем богини.
Фронтон свистнул сквозь зубы. Храм Тараты был всеми признанным убежищем. Эдесские власти не могли вторгнуться в убежище, это было невозможно и для римлян – иначе они восстановили бы против себя весь Восток. Теперь ему стало ясно, почему Шарбиль так срочно вызвал его к себе. Верховный жрец хотел помешать Фронтону арестовать этого человека, он своевременно укрыл его в убежище богини, оберегая от римлян. Но все это жрец сделал так, чтобы из Рима не могли предъявить ему никаких претензий. Разговор с Фронтоном создавал ему алиби. Царь Маллук выказал намерение задержать этого человека, хотя это и не было его обязанностью, и представить его в распоряжение римского губернатора. Но раз Теренций, или кто бы он ни был, бежал, раз он скрылся под защиту богини Тараты, то и Шарбиль, и его господин, царь Маллук, в этом неповинны.
Фронтон улыбнулся, еще раз подивившись восточной хитрости. Теперь в Месопотамии начнется изрядная кутерьма. Дергунчику придется здорово подергаться, подумал он на хорошем латинском языке.
То же самое на хорошем арамейском языке незадолго до этого подумал верховный жрец Шарбиль.
16
Гость богини Тараты
И вот Теренций очутился в храме Тараты, в самом сердце его, в целле, где помещались древнее изображение богини, ее алтарь и ее непристойные символы. Со дня овации в театре он испытывал страх, ему не раз приходило в голову скрыться в Лабиринте до тех пор, пока не появится Варрон и все не станет ясно. Но когда к нему явился некто в одежде торговца, намеренно плохо маскировавшей жреца Тараты, и предложил ему немедленно отправиться в убежище богини, Теренций последовал за ним без колебаний, слепо, со вздохом облегчения, чувствуя, что он теперь в хороших, могущественных руках.
Он ожидал, что верховный жрец встретит его как гостя богини, заверит в том, что она принимает его под защиту, окажет ему достойный прием. Но ничего подобного не случилось. Его оставили одного в тесной, неуютной каморке, в полной неизвестности. Шарбиль точно так же, как и Варрон, считал полезным затянуть дело, чтобы сделать Теренция возможно более покладистым.
Пришла ночь, для Теренция – ночь отнюдь не из приятных.
Храм Тараты был велик. Провести ночь в переднем дворе было не так тяжко. Там была какая-то своя жизнь – маленький пруд с рыбами богини и множество белых голубей, посвященных ей. В самом храме тоже было бы еще терпимо, хотя легко представить себе более уютное помещение, чем этот колоссальный зал с его древними, исчерна-зелеными, суживающимися кверху колоннами. Но Теренций не знал, простирается ли право убежища на весь храм или же только на целлу с ее алтарем и кумиром богини. А здесь, в целле, куда сквозь узкое отверстие проникал лишь скудный свет луны и звезд, было тесно и жутко, и Теренцию все мерещились какие-то страшные лица. Он улегся на верхней ступени жертвенника, в страхе стараясь все время прикасаться одной рукой к самому алтарю; ему неясно помнилось, будто тот, кто ищет убежища у богини, должен держаться рукой за ее алтарь или за ее изображение. По обе стороны алтаря тянулись в неверном свете месяца символы богини, колоссальные каменные изображения фаллоса. У изголовья Теренция, в нише над алтарем, поднималась древняя диковинная статуя Тараты цвета темной бронзы. На богине был венец с зубцами и башнями, как на стене, остро торчали ее голые груди, нижняя часть тела переходила в рыбий хвост. В одной руке она держала веретено, в другой – бубен. Ее узкое, древнее и все же молодое лицо с закрытыми глазами улыбалось гостю нежно, двусмысленно и зловеще.
Среди ночи Теренций стал зябнуть. Чувство безопасности, которое он ощутил при появлении посланца Тараты, покинуло его. Долго ли еще будут испытывать его этим недостойным ожиданием? Почему первосвященник не является наконец приветствовать его? Куда девался Варрон? Почему его оставляют в полной неизвестности и одиночестве, если хотят, чтобы он был императором? И в безопасности ли он здесь вообще? А что, если его завлекли в ловушку? Страх его рос, им овладевал гнев на тех, кто соблазнил его этой авантюрой, заманил сюда, и ему очень хотелось, чтобы по крайней мере Гайя или раб Кнопс были с ним.
Он пытался найти опору в своей вере в себя. Вновь принял обличье Нерона, стал императором – в одиночестве вознесся над всеми и всем. Так подобает цезарю. Он недосягаем, он – повелитель мира. Снаружи доносилось воркованье священных белых голубей, которых что-то потревожило, в проем проникал мерцающий лунный свет, и богиня улыбалась ему с высоты таинственной и злой улыбкой. Позор для всего Запада, что ему, императору, пришлось искать защиты у этой двусмысленной богини, под сенью ее непристойных символов. Но он тотчас же раскаялся в своих мыслях, которые Тарата могла истолковать как святотатство, – ведь он теперь в ее руках.
Как он ненавидел этого актера Иоанна с Патмоса! Именно тот довел его до такого положения своим нелепым чтением «Октавии», не говоря уже о том, что сам Теренций, если бы только захотел, был бы куда более великим артистом, чем этот грязный христианин. А в «Эдипе» у Иоанна все, с начала и до конца, фальшиво и бескрыло! Сам Иоанн, если он действительно что-нибудь понимает в искусстве, понял бы, что под оболочкой Теренция скрывается нечто большее. Толпа, с ее здоровым инстинктом, тотчас же это заметила. Только снобы, несколько наемников Тита и подкупленные им креатуры не хотят этого понимать. И из-за них он должен здесь скрываться.
Но теперь уже недолго терпеть, скоро он сможет раздавить их всех, всех своих противников. Он перебирал в уме имена сторонников Тита в Эдессе и их вожаков. Конечно, сюда же он отнес тех, кого он лично, по тем или иным мотивам, не любил, с кем у него бывали столкновения, – конкурентов, товарищей по цеху, подозреваемых в том, что они недостаточно почитают его. В конце концов получилась довольно внушительная шеренга. Он спрашивал себя, отнести ли сюда и Гайю с ее дерзкими сомнениями. Но не додумал эту мысль до конца и ни на что не решился, а вместо этого начал со всеми подробностями рисовать себе, как со вкусом, не спеша, будет мстить тем, кого считает своими явными врагами.