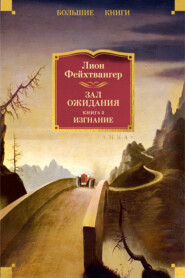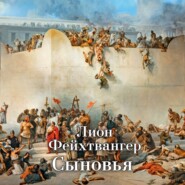По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лже-Нерон. Иеффай и его дочь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Больше он не сказал ни слова, и царю Маллуку тоже нечего было добавить. Но Варрон знал, что этим людям незачем разъяснять, сколько выгод извлечет Эдесса из выступления римского претендента, кем бы он ни был, если только он сумеет хоть некоторое время продержаться. От такого претендента в награду за признание можно потребовать всякого рода привилегий; от Рима можно потребовать еще более высокой платы за непризнание его. Так как эти заманчивые возможности были совершенно очевидны, было излишне о них толковать.
Снова заговорили о борьбе за престол в Парфянском царстве. Из двух претендентов наиболее сильный и одаренный – Артабан. Он преодолел все препятствия и утвердился на западе Парфянского царства, там, где оно граничит с Месопотамией. Было бы безумием поддерживать другого, далекого Пакора, хотя, быть может, он – более законный наследник и обладает бо`льшим «ореолом».
Очень важно для Эдессы, кого из двух парфянских претендентов признает римское правительство. Срок торговых договоров Рима с Парфянским царством истекает, и губернатору Антиохии придется в ближайшем будущем решить, с кем вести переговоры об их возобновлении, с Пакором или с Артабаном. Для Эдессы будет неприятно, если Рим признает Пакора, а не Артабана, могущественного и любимого восточного соседа Эдессы. Об этих вопросах говорили в осторожных, цветистых выражениях, пока слуга не возвестил наступления пятого часа. Тогда царь Маллук подал знак, что он считает аудиенцию законченной.
Прежде чем Варрон ушел, верховный жрец Шарбиль резюмировал свое мнение, которое, по-видимому, было и мнением царя:
– Если Рим признает нашего Артабана, у нас не будет причин усомниться в законности Тита. Если же Рим станет на сторону Пакора против нашего Артабана, то для Эдессы было бы большой радостью, если бы неожиданно вынырнул император Нерон.
Он высказался в такой для Востока непривычной форме – кратко, ясно и точно – только потому, что был очень стар и времени у него оставалось немного.
9
Беспристрастный совет
Тотчас же после этой беседы Варрон покинул город Эдессу. Теренция он больше к себе не приглашал.
Варрон вернулся в Антиохию. Он повез с собой ларец с документами, которые были ему дороги. Но если по ту сторону Евфрата он показывал всему свету расписку об уплате налога, то в Антиохии он как будто совершенно забыл об унижении, которому подверг его Дергунчик. Он не занимался ни делами, ни политикой, а с головой окунулся в распутную жизнь большого и необузданного города. Проводил время в элегантном предместье Дафне, где в роскошных виллах жили самые дорогие шлюхи Азии, в том самом уголке, по которому обыватели городов всего мира тосковали в своих нечистых снах.
Дочь Варрона, белолицая строгая Марция, стыдилась своего отца, которого любила и которым восхищалась.
В редкие свои встречи с Цейонием сенатор прикидывался безобидным человеком, старым школьным товарищем, сожалевшим, что его друг одержим идеей – не щадя сил, исполнять свои обременительные обязанности, между тем как он сам наслаждается жизнью, пока еще не наступила старость. Казалось, он простил Цейонию историю со взысканием налога. Варрон сам рассказал ему, что послал жалобу в Рим. И сделал он это потому, непринужденно объяснил Варрон, что иначе утратил бы весь свой авторитет у восточных людей; но на этом он и успокоился. Борьба за шесть тысяч сестерциев недостойна человека, у которого за спиной пятьдесят один год, который многое упустил и у которого еще есть кое-что впереди.
Цейоний не очень доверял такой наивности. Он и сам порой раскаивался, что зашел так далеко; но он говорил себе, что если не теперь, то позже все равно пришлось бы показать этому погрязшему в восточном болоте Варрону, что такое римский губернатор. И все-таки, думая о старом знакомом, Цейоний не мог подавить в себе смутного беспокойства. Ему доносили, что Варрон, несмотря на свою развратную жизнь, находит время заключать крупные сделки и, пользуясь конъюнктурой, выгодно сбывает большие участки своих сирийских земель. Цейоний невольно втайне восхищался Варроном, который так щедро расточал свою силу в бессмысленно-пустых наслаждениях и в то же время так осмотрительно вел свои запутанные дела. Этот человек был опасен.
Ему казалось разумным задобрить Варрона. Такого неустойчивого человека нужно брать и кнутом и пряником. И Цейоний решил загладить свою строгость в истории с налогом и выказать сенатору особое доверие. Он пригласил к себе Варрона.
Варрон явился. Цейоний превозмог себя. Растолковал собеседнику причины своего поведения в деле с налогом. Если бы речь шла только о них двоих, о нем и Варроне, пояснил Цейоний, – и видно было, как тяжело ему вновь об этом говорить, – он, разумеется, уступил бы. Но дело касалось престижа Рима, перед которым престиж отдельного лица отходит на задний план.
– Это вы должны понять, мой Варрон, – сказал он. – Хотя вы и «друг царя Парфянского», – кисло пошутил он в заключение.
Варрон и не собирался этого понимать. Он дружелюбно, выжидательно смотрел на Цейония. Так как тот сидел очень близко, дальнозоркий Варрон немного отодвинул тяжелое кресло, желая отчетливей видеть его лицо. Втайне он надеялся, что Цейоний сделает ему предложение, скажет, что передумал и хочет вернуть ему шесть тысяч сестерциев. Варрон хорошо знал, как фантастична его затея, и если бы Цейоний протянул ему руку, он взял бы ее и отказался от своего замысла. Он ждал. Но Цейоний считал, что дальше идти незачем. По существу, то, что он сказал, было извинением, и если генерал-губернатор, поставленный Римской империей, извиняется перед сомнительным авантюристом Варроном, то этого достаточно. Он тоже ждал. Еще секунду и еще одну. Но Варрон молчал, и он сам молчал, и потому в эти секунды решилась судьба обоих – и не только их одних.
Цейоний с педантичностью бюрократа решил все-таки довести до конца намеченную линию поведения – дать Варрону «доказательство доверия», которым он хотел его завоевать.
– Вы, мой Варрон, – начал он, – предложили мне как добрый друг свой компетентный совет в делах Востока. Могу ли я теперь воспользоваться вашим предложением?
Варрон, приятно удивленный, ответил:
– Всем сердцем к вашим услугам.
– Договор с парфянами, – начал губернатор излагать занимавшее его дело, – истекает. С кем из двух претендентов вести переговоры? Кого признать? Пакора или Артабана? В наших интересах, очевидно, действовать так, чтобы распри между претендентами на престол возможно дольше ослабляли парфян. Но оттягивать возобновление договора больше нельзя. В чью пользу принять решение? – И он снова сделал попытку перейти на легкий тон, прибавив с принужденной шутливостью: – Кто тот великий царь, чьим «другом» являетесь вы, Варрон?
Варрон в глубине души возликовал. Именно в этом деле ему хотелось держать Цейония в руках. Для того он и приехал в Антиохию, чтобы Цейоний обратился к нему с этим вопросом, и если бы Цейоний медлил еще хоть неделю, то Варрону волей-неволей пришлось бы самому начать разговор о политике. Обстоятельства складывались как нельзя лучше.
Он поспешно взвесил еще раз все за и против. Если бы Цейоний высказался за Артабана, то по ту сторону Евфрата – в этом его эдесские друзья были правы – никто не был бы заинтересован в поддержке человека, который назвался бы Нероном. И тогда горшечник снова стал бы горшечником, а Цейоний по-прежнему остался бы императорским генерал-губернатором, под чьим началом находятся семь легионов и важнейшая провинция империи; никогда более он не превратится в Дергунчика. Таким образом, Варрону необходимо было побудить губернатора признать Пакора, а не Артабана. Не раз он тщательно излагал самому себе доводы, с помощью которых он приведет Цейония к этому выбору. Но теперь он принял смелое решение отказаться от всей этой заботливо построенной аргументации. За две секунды ожидания и молчания он понял своего старого товарища детства Цейония лучше, чем когда бы то ни было. Он понял, как сильно ненавидит его Цейоний, понял, как глубоко он не доверяет ему. Цейоний сделает как раз противоположное тому, что посоветует Варрон. Варрон посоветует ему признать Артабана и отвергнуть Пакора.
Так он и сделал.
До сих пор Цейоний колебался, принять ли ему решение в пользу Артабана или Пакора. Многое говорило в пользу одного, многое – в пользу другого.
Он видел массивное лицо Варрона, его полный, чувственный рот, огромный дерзкий лоб, наглую позу. Он ненавидел этого человека, и – он готов был поклясться Юпитером – человек этот ненавидел его. Пакор? Артабан? Этот человек посоветовал выбрать Артабана. Этот человек заявил, что его «друг» – Артабан. Цейоний примет решение в пользу Пакора.
10
Надо запастись терпением
Горшечника Теренция так и подмывало рассказать Гайе о беседе с Варроном, доказать ей, назвавшей его миленьким человеком, что другие отнюдь не считают его маленьким. Но он знал, что было бы рискованно слишком рано обнаружить свое торжество. И Теренций, поборов себя, продолжал вести прежний образ жизни, занимаясь только делами цеха.
Но Гайя видела своего Теренция насквозь. Хотя он и расхаживал по городу с достойным и озабоченным видом, прикидываясь, будто всецело занят будничными делами, но по едва уловимым признакам она замечала, что он поглощен чем-то другим, и очень важным. Что-то произошло. Наблюдая, как он задумывается, когда полагает, что его никто не видит, как порой мечтательно и блаженно вздыхает, как он мечется во сне, как его лицо то расцветает, то мрачнеет, она вспоминала пору, когда его вызывали на Палатин.
Впрочем, это возбужденное состояние Теренция продолжалось недолго. Правда, в Эдессе и в других местах Междуречья все чаще вспоминали о счастливых временах императора Нерона. Вздыхали и кряхтели, жалуясь на чрезмерные тяготы, которые взваливает на обитателей Месопотамии новый губернатор, и все чаще многозначительно шушукались о том, что дальше так продолжаться не может, что всему этому скоро придет конец, что император Нерон еще жив и вскоре снова появится во всей своей славе и вновь дарует народам Междуречья хлеб и свободу. Теренций жадно впитывал эти слухи, но они нисколько не смягчали муки ожидания. Проходили недели и месяцы, а Варрон не подавал признаков жизни.
Сенатор же полагал попросту, что Теренция надо «выдержать». После того как этот человек клюнул на приманку, следовало дать ему потрепыхаться, чтобы он не слишком зазнался. И Варрон пребывал вдали, в Антиохии, – важным господином, далеким, как небо, от горшечника Теренция, недоступным для него. Сенатор Варрон не подавал вестей горшечнику Теренцию.
Это было нелегкое время для Теренция. Часто он сомневался, не приснилось ли ему все, на самом ли деле великий сенатор Варрон однажды заговорил с ним, как равный с равным, чуть ли не смиренно, как с подлинным императором Нероном. Ему до смерти хотелось обсудить это происшествие с Гайей. Но что она скажет? Что все это ему померещилось или, в лучшем случае, что Варрон затевает с ним новую жестокую и унизительную игру. А именно этого Теренций не хотел слышать, ибо он не мог бы жить больше, будь это так.
Вот почему он, как умел, старался скрыть свое замешательство от ясных, пытливых глаз жены. Все с большей и большей жадностью искал признаков того, что не один только Варрон признал в нем цезаря Нерона. Но этих признаков не находилось, и с каждым днем ему было все труднее оставаться старшиной цеха Теренцием – представительным, обремененным делами, самоуверенным, каким он казался еще несколько недель тому назад.
Одну только внешнюю уступку сделал он своим мечтам. Император Нерон иногда, чтобы лучше видеть, подносил смарагд к своим близоруким глазам, обычно к левому. Теренций купил себе смарагд. Было нелегко скрыть от Гайи, что он взял из кассы сумму, необходимую для его покупки, и это действительно не вполне удалось ему. Самый смарагд он, разумеется, никому не показывал. Уединяясь, он устраивал настоящие репетиции, подносил камень то к левому, то к правому глазу, радовался его зеленому блеску.
Когда и это уже не помогало, он бежал со своими сомнениями в Лабиринт. Там, во мраке потаенной пещеры, он прислушивался к самому себе, пока его внутренний голос, его «демон» не заговорит и не уверит его, что он – Нерон и что весь мир признает его.
Но покамест мир его не признавал, а Варрон продолжал молчать. Наконец Теренций потерял терпение и написал ему в Антиохию письмо – письмо клиента своему патрону. Теренций сообщил о делах своей керамической фабрики, своего цеха, о мелких событиях в городе Эдессе. Но к концу – это был единственный намек на их беседу, который позволил себе Теренций, – он вплел туманную фразу: если будет угодно богам, то ему, возможно, уже не придется докучать своему покровителю подобными мелочами, потому что боги вернут ему его прежний образ, о чем он иногда мечтает. Он перечел письмо и нашел его неглупым. Теперь Варрону придется высказаться. Если он намерен продолжать начатую игру, он даст ответ на таинственную фразу; а если не намерен – он примет ее за одну из тех многозначительных цветистых фраз, какие любят на Востоке, и не придаст ей значения. И тогда Теренцию снова придется погрузиться в будни эдесской жизни. Но это невозможно. Варрон поймет, ответит.
Нестерпимо медленно тянулись дни. Много писем приходило из Антиохии, некоторые предназначались Теренцию, но от Варрона письма не было. Теренций определил для себя крайний срок: сначала шесть дней, затем десять, затем двадцать. Снова и снова говорил он себе, что надо запастись терпением. Он цитировал, чтобы не прийти в отчаяние, стихи классиков о терпении. Он читал их перед Кнопсом, своим рабом, чье присутствие не так стесняло его, как присутствие жены. Однажды он сказал Кнопсу, что в скором времени предстоит перемена – такие вещи он говорил ему нередко, – и, гневно, страстно цепляясь за свою надежду, с мрачным лицом, прищурив близорукие глаза, произнес, скорее для самого себя, чем для Кнопса, начало гомеровского стиха: «Будет некогда день…» И так как Кнопс смотрел на него с изумлением, он не мог удержаться, вынул из складок плаща смарагд, еще пристальнее взглянул на Кнопса и многозначительно повторил: «Будет некогда день…»
Раб Кнопс отступил перед искрящимся зеленым огнем, но он был умен и не спросил ничего; однако с любопытством отметил странный жест своего господина и его слова и долго о них раздумывал.
Имя «Кнопс» означало «дикий зверь», а также «дикарь». Кнопс любил, чтобы это слово выговаривали как следует, с долгим греческим «о». Кнопс был строен, выглядел значительно моложе своих лет. Он попал в семью Теренция малым ребенком, неисправный должник отдал его отцу Теренция в уплату долга. Кнопс родился в Киликии и чувствовал себя как рыба в воде на своем Востоке. Это был хитрый, льстивый человек с быстрыми глазами. Он завидовал Теренцию, для которого был лишь покорным младшим товарищем детских игр, и в то же время восхищался им. Восхищался его повелительной, властной повадкой, его слепой верой в себя, но вместе с тем ненавидел его за эти западные качества. Он, Кнопс, управлял всем предприятием на Красной улице, и если фабрика Теренция в Эдессе стала быстро преуспевать, то этим ее владелец обязан был Кнопсу. Вероятно, он сумел, несмотря на бдительное око Гайи, отложить кругленькую сумму для себя, но его работу нельзя было оплатить деньгами. Собственно говоря, по обычаю, Теренцию давно следовало отпустить его на волю; многие удивлялись, почему Кнопс, раз его хозяин не давал ему заслуженной свободы, давно не взял ее сам. Например, в момент гибели Нерона, когда Теренцию пришлось бежать, ловкий, умный Кнопс легко мог бы уйти, не опасаясь преследования со стороны своего господина, ибо тот имел все основания не подавать признаков жизни. Если Кнопс и тогда и позднее оставался у него, то причиной тому была какая-то суеверная надежда, что его господин поднимется высоко и тогда преданность Кнопса оплатится с лихвой.
И вот, когда Теренций тихо, с гневной уверенностью продекламировал стих Гомера: «Будет некогда день», раб отнюдь не счел эти слова пустой болтовней. Напротив, он тотчас же поставил их в связь со слухами, что император Нерон жив. О предстоящей перемене Теренций толковал ему уже в Риме, в пору своих таинственных отлучек; к этому он присовокупил, однако, обещание, что, как только перемена произойдет, он даст Кнопсу волю. Рассчитывая на эту перемену, Кнопс терпеливо ждал, и теперь его сердце согревалось надеждой, что наконец этот день и в самом деле наступит и тогда исполнится его заветная мечта: он поселится где-нибудь на Востоке, откроет собственное дело, обведет вокруг пальца своих друзей и будет распускать о них злые сплетни и наглые остроты.
Вечером этого дня Кнопс пошел к одному из этих друзей, к самому близкому – горшечному мастеру Гориону. У него он обычно проводил большую часть своего досуга. Горион был коренной житель Востока, тучный, с круглой головой и маленькими хитрыми глазками. Он много болтал, усиленно жестикулируя, как и Кнопс. Но, в отличие от Кнопса, он не вкладывал свою энергию в работу, а заполнял день тем, что жадно ловил всякие слухи, подолгу просиживал с деловым видом у своих многочисленных знакомых, бранился и сплетничал. Хитрый, легковерный, он принимал близко к сердцу разные политические перемены, происходившие в его городе. Любую перемену он встречал с неизменным восторгом – тем быстрее наступало разочарование, и он с тоской вспоминал, как хорошо было раньше.
Отцы и праотцы Гориона с незапамятных времен жили в этой стране, они были свидетелями смены вавилонских, ассирийских, греческих, римских, персидских, арабских правителей. Новых владык они принимали, как солнце, или как град, или как наводнение. Вздыхали и терпели. Цепляясь за свою землю, ели, пили, рожали детей, почитали богиню Тарату и ее рыб и работали столько, сколько было необходимо, чтобы прожить и дать завоевателю то, что ему удавалось выжать из них побоями и пытками. Чужеземные князья и правители исчезали, а род Гориона оставался и додержался до тех дней, когда появился Горион, – чтобы браниться и терпеть, как бранились и терпели предки.
С этим-то Горионом Кнопс искренне подружился: ему отчасти льстило, что Горион, свободный человек, так охотно с ним разговаривает, а с другой стороны, он был уверен, что стоит выше Гориона по знанию дела, пониманию жизни и уму. С видом знатока разглядывал Кнопс двенадцатилетнюю дочь Гориона, маленькую Иалту: он заставил Гориона обещать, что тот отдаст ему Иалту в жены, когда наступит великая перемена и Кнопс уже не будет рабом. Сегодня, убежденный, что день этот близок, он вслух смаковал все подробности воображаемой первой ночи с маленькой Иалтой. Но Горион, отец Иалты, лукаво и как бы угрожающе поднял палец и лишний раз напомнил Кнопсу, рабу из Киликии, старую поговорку: «Кариец, киликиец, каппадокиец – все хороши: от таких трех „к“ воротит с души». На это Кнопс, оскорбленный в своем патриотизме, с необычным для него жаром ответил, что, по вкусу это Гормону или не по вкусу, он, Кнопс, будет спать с его Иалтой. Этого Горион стерпеть не мог и сказал, посмеиваясь:
– Посмотрите-ка на этого Кнопса из Киликии, на это «к», от которого с души воротит!
В довершение обиды он произнес имя «Кнопс» с кратким «о». Но Кнопс, веря в звезду своего господина, еще более рассвирепел и ответил, что будет спать не только с дочерью Гориона – Иалтой, но и с богиней Гориона – Таратой. Это последнее неслыханное оскорбление, которое раб нанес его любимому божеству, до того вывело из себя Гориона, что он плеснул в лицо Кнопсу полный кубок вина: убыток, впрочем, был невелик, так как вино уже порядком прокисло.
Горион ждал, что Кнопс ответит потоком отборнейших ругательств, но ничего подобного не случилось. Напротив, раб спокойно вытер лицо и тихо сказал:
– Берегись, Горион. Может случиться, что «к», от которого с души воротит, в один прекрасный день окажется другом могущественного господина.
Он произнес эти слова так серьезно и спокойно, что горшечник Горион онемел.
Снова заговорили о борьбе за престол в Парфянском царстве. Из двух претендентов наиболее сильный и одаренный – Артабан. Он преодолел все препятствия и утвердился на западе Парфянского царства, там, где оно граничит с Месопотамией. Было бы безумием поддерживать другого, далекого Пакора, хотя, быть может, он – более законный наследник и обладает бо`льшим «ореолом».
Очень важно для Эдессы, кого из двух парфянских претендентов признает римское правительство. Срок торговых договоров Рима с Парфянским царством истекает, и губернатору Антиохии придется в ближайшем будущем решить, с кем вести переговоры об их возобновлении, с Пакором или с Артабаном. Для Эдессы будет неприятно, если Рим признает Пакора, а не Артабана, могущественного и любимого восточного соседа Эдессы. Об этих вопросах говорили в осторожных, цветистых выражениях, пока слуга не возвестил наступления пятого часа. Тогда царь Маллук подал знак, что он считает аудиенцию законченной.
Прежде чем Варрон ушел, верховный жрец Шарбиль резюмировал свое мнение, которое, по-видимому, было и мнением царя:
– Если Рим признает нашего Артабана, у нас не будет причин усомниться в законности Тита. Если же Рим станет на сторону Пакора против нашего Артабана, то для Эдессы было бы большой радостью, если бы неожиданно вынырнул император Нерон.
Он высказался в такой для Востока непривычной форме – кратко, ясно и точно – только потому, что был очень стар и времени у него оставалось немного.
9
Беспристрастный совет
Тотчас же после этой беседы Варрон покинул город Эдессу. Теренция он больше к себе не приглашал.
Варрон вернулся в Антиохию. Он повез с собой ларец с документами, которые были ему дороги. Но если по ту сторону Евфрата он показывал всему свету расписку об уплате налога, то в Антиохии он как будто совершенно забыл об унижении, которому подверг его Дергунчик. Он не занимался ни делами, ни политикой, а с головой окунулся в распутную жизнь большого и необузданного города. Проводил время в элегантном предместье Дафне, где в роскошных виллах жили самые дорогие шлюхи Азии, в том самом уголке, по которому обыватели городов всего мира тосковали в своих нечистых снах.
Дочь Варрона, белолицая строгая Марция, стыдилась своего отца, которого любила и которым восхищалась.
В редкие свои встречи с Цейонием сенатор прикидывался безобидным человеком, старым школьным товарищем, сожалевшим, что его друг одержим идеей – не щадя сил, исполнять свои обременительные обязанности, между тем как он сам наслаждается жизнью, пока еще не наступила старость. Казалось, он простил Цейонию историю со взысканием налога. Варрон сам рассказал ему, что послал жалобу в Рим. И сделал он это потому, непринужденно объяснил Варрон, что иначе утратил бы весь свой авторитет у восточных людей; но на этом он и успокоился. Борьба за шесть тысяч сестерциев недостойна человека, у которого за спиной пятьдесят один год, который многое упустил и у которого еще есть кое-что впереди.
Цейоний не очень доверял такой наивности. Он и сам порой раскаивался, что зашел так далеко; но он говорил себе, что если не теперь, то позже все равно пришлось бы показать этому погрязшему в восточном болоте Варрону, что такое римский губернатор. И все-таки, думая о старом знакомом, Цейоний не мог подавить в себе смутного беспокойства. Ему доносили, что Варрон, несмотря на свою развратную жизнь, находит время заключать крупные сделки и, пользуясь конъюнктурой, выгодно сбывает большие участки своих сирийских земель. Цейоний невольно втайне восхищался Варроном, который так щедро расточал свою силу в бессмысленно-пустых наслаждениях и в то же время так осмотрительно вел свои запутанные дела. Этот человек был опасен.
Ему казалось разумным задобрить Варрона. Такого неустойчивого человека нужно брать и кнутом и пряником. И Цейоний решил загладить свою строгость в истории с налогом и выказать сенатору особое доверие. Он пригласил к себе Варрона.
Варрон явился. Цейоний превозмог себя. Растолковал собеседнику причины своего поведения в деле с налогом. Если бы речь шла только о них двоих, о нем и Варроне, пояснил Цейоний, – и видно было, как тяжело ему вновь об этом говорить, – он, разумеется, уступил бы. Но дело касалось престижа Рима, перед которым престиж отдельного лица отходит на задний план.
– Это вы должны понять, мой Варрон, – сказал он. – Хотя вы и «друг царя Парфянского», – кисло пошутил он в заключение.
Варрон и не собирался этого понимать. Он дружелюбно, выжидательно смотрел на Цейония. Так как тот сидел очень близко, дальнозоркий Варрон немного отодвинул тяжелое кресло, желая отчетливей видеть его лицо. Втайне он надеялся, что Цейоний сделает ему предложение, скажет, что передумал и хочет вернуть ему шесть тысяч сестерциев. Варрон хорошо знал, как фантастична его затея, и если бы Цейоний протянул ему руку, он взял бы ее и отказался от своего замысла. Он ждал. Но Цейоний считал, что дальше идти незачем. По существу, то, что он сказал, было извинением, и если генерал-губернатор, поставленный Римской империей, извиняется перед сомнительным авантюристом Варроном, то этого достаточно. Он тоже ждал. Еще секунду и еще одну. Но Варрон молчал, и он сам молчал, и потому в эти секунды решилась судьба обоих – и не только их одних.
Цейоний с педантичностью бюрократа решил все-таки довести до конца намеченную линию поведения – дать Варрону «доказательство доверия», которым он хотел его завоевать.
– Вы, мой Варрон, – начал он, – предложили мне как добрый друг свой компетентный совет в делах Востока. Могу ли я теперь воспользоваться вашим предложением?
Варрон, приятно удивленный, ответил:
– Всем сердцем к вашим услугам.
– Договор с парфянами, – начал губернатор излагать занимавшее его дело, – истекает. С кем из двух претендентов вести переговоры? Кого признать? Пакора или Артабана? В наших интересах, очевидно, действовать так, чтобы распри между претендентами на престол возможно дольше ослабляли парфян. Но оттягивать возобновление договора больше нельзя. В чью пользу принять решение? – И он снова сделал попытку перейти на легкий тон, прибавив с принужденной шутливостью: – Кто тот великий царь, чьим «другом» являетесь вы, Варрон?
Варрон в глубине души возликовал. Именно в этом деле ему хотелось держать Цейония в руках. Для того он и приехал в Антиохию, чтобы Цейоний обратился к нему с этим вопросом, и если бы Цейоний медлил еще хоть неделю, то Варрону волей-неволей пришлось бы самому начать разговор о политике. Обстоятельства складывались как нельзя лучше.
Он поспешно взвесил еще раз все за и против. Если бы Цейоний высказался за Артабана, то по ту сторону Евфрата – в этом его эдесские друзья были правы – никто не был бы заинтересован в поддержке человека, который назвался бы Нероном. И тогда горшечник снова стал бы горшечником, а Цейоний по-прежнему остался бы императорским генерал-губернатором, под чьим началом находятся семь легионов и важнейшая провинция империи; никогда более он не превратится в Дергунчика. Таким образом, Варрону необходимо было побудить губернатора признать Пакора, а не Артабана. Не раз он тщательно излагал самому себе доводы, с помощью которых он приведет Цейония к этому выбору. Но теперь он принял смелое решение отказаться от всей этой заботливо построенной аргументации. За две секунды ожидания и молчания он понял своего старого товарища детства Цейония лучше, чем когда бы то ни было. Он понял, как сильно ненавидит его Цейоний, понял, как глубоко он не доверяет ему. Цейоний сделает как раз противоположное тому, что посоветует Варрон. Варрон посоветует ему признать Артабана и отвергнуть Пакора.
Так он и сделал.
До сих пор Цейоний колебался, принять ли ему решение в пользу Артабана или Пакора. Многое говорило в пользу одного, многое – в пользу другого.
Он видел массивное лицо Варрона, его полный, чувственный рот, огромный дерзкий лоб, наглую позу. Он ненавидел этого человека, и – он готов был поклясться Юпитером – человек этот ненавидел его. Пакор? Артабан? Этот человек посоветовал выбрать Артабана. Этот человек заявил, что его «друг» – Артабан. Цейоний примет решение в пользу Пакора.
10
Надо запастись терпением
Горшечника Теренция так и подмывало рассказать Гайе о беседе с Варроном, доказать ей, назвавшей его миленьким человеком, что другие отнюдь не считают его маленьким. Но он знал, что было бы рискованно слишком рано обнаружить свое торжество. И Теренций, поборов себя, продолжал вести прежний образ жизни, занимаясь только делами цеха.
Но Гайя видела своего Теренция насквозь. Хотя он и расхаживал по городу с достойным и озабоченным видом, прикидываясь, будто всецело занят будничными делами, но по едва уловимым признакам она замечала, что он поглощен чем-то другим, и очень важным. Что-то произошло. Наблюдая, как он задумывается, когда полагает, что его никто не видит, как порой мечтательно и блаженно вздыхает, как он мечется во сне, как его лицо то расцветает, то мрачнеет, она вспоминала пору, когда его вызывали на Палатин.
Впрочем, это возбужденное состояние Теренция продолжалось недолго. Правда, в Эдессе и в других местах Междуречья все чаще вспоминали о счастливых временах императора Нерона. Вздыхали и кряхтели, жалуясь на чрезмерные тяготы, которые взваливает на обитателей Месопотамии новый губернатор, и все чаще многозначительно шушукались о том, что дальше так продолжаться не может, что всему этому скоро придет конец, что император Нерон еще жив и вскоре снова появится во всей своей славе и вновь дарует народам Междуречья хлеб и свободу. Теренций жадно впитывал эти слухи, но они нисколько не смягчали муки ожидания. Проходили недели и месяцы, а Варрон не подавал признаков жизни.
Сенатор же полагал попросту, что Теренция надо «выдержать». После того как этот человек клюнул на приманку, следовало дать ему потрепыхаться, чтобы он не слишком зазнался. И Варрон пребывал вдали, в Антиохии, – важным господином, далеким, как небо, от горшечника Теренция, недоступным для него. Сенатор Варрон не подавал вестей горшечнику Теренцию.
Это было нелегкое время для Теренция. Часто он сомневался, не приснилось ли ему все, на самом ли деле великий сенатор Варрон однажды заговорил с ним, как равный с равным, чуть ли не смиренно, как с подлинным императором Нероном. Ему до смерти хотелось обсудить это происшествие с Гайей. Но что она скажет? Что все это ему померещилось или, в лучшем случае, что Варрон затевает с ним новую жестокую и унизительную игру. А именно этого Теренций не хотел слышать, ибо он не мог бы жить больше, будь это так.
Вот почему он, как умел, старался скрыть свое замешательство от ясных, пытливых глаз жены. Все с большей и большей жадностью искал признаков того, что не один только Варрон признал в нем цезаря Нерона. Но этих признаков не находилось, и с каждым днем ему было все труднее оставаться старшиной цеха Теренцием – представительным, обремененным делами, самоуверенным, каким он казался еще несколько недель тому назад.
Одну только внешнюю уступку сделал он своим мечтам. Император Нерон иногда, чтобы лучше видеть, подносил смарагд к своим близоруким глазам, обычно к левому. Теренций купил себе смарагд. Было нелегко скрыть от Гайи, что он взял из кассы сумму, необходимую для его покупки, и это действительно не вполне удалось ему. Самый смарагд он, разумеется, никому не показывал. Уединяясь, он устраивал настоящие репетиции, подносил камень то к левому, то к правому глазу, радовался его зеленому блеску.
Когда и это уже не помогало, он бежал со своими сомнениями в Лабиринт. Там, во мраке потаенной пещеры, он прислушивался к самому себе, пока его внутренний голос, его «демон» не заговорит и не уверит его, что он – Нерон и что весь мир признает его.
Но покамест мир его не признавал, а Варрон продолжал молчать. Наконец Теренций потерял терпение и написал ему в Антиохию письмо – письмо клиента своему патрону. Теренций сообщил о делах своей керамической фабрики, своего цеха, о мелких событиях в городе Эдессе. Но к концу – это был единственный намек на их беседу, который позволил себе Теренций, – он вплел туманную фразу: если будет угодно богам, то ему, возможно, уже не придется докучать своему покровителю подобными мелочами, потому что боги вернут ему его прежний образ, о чем он иногда мечтает. Он перечел письмо и нашел его неглупым. Теперь Варрону придется высказаться. Если он намерен продолжать начатую игру, он даст ответ на таинственную фразу; а если не намерен – он примет ее за одну из тех многозначительных цветистых фраз, какие любят на Востоке, и не придаст ей значения. И тогда Теренцию снова придется погрузиться в будни эдесской жизни. Но это невозможно. Варрон поймет, ответит.
Нестерпимо медленно тянулись дни. Много писем приходило из Антиохии, некоторые предназначались Теренцию, но от Варрона письма не было. Теренций определил для себя крайний срок: сначала шесть дней, затем десять, затем двадцать. Снова и снова говорил он себе, что надо запастись терпением. Он цитировал, чтобы не прийти в отчаяние, стихи классиков о терпении. Он читал их перед Кнопсом, своим рабом, чье присутствие не так стесняло его, как присутствие жены. Однажды он сказал Кнопсу, что в скором времени предстоит перемена – такие вещи он говорил ему нередко, – и, гневно, страстно цепляясь за свою надежду, с мрачным лицом, прищурив близорукие глаза, произнес, скорее для самого себя, чем для Кнопса, начало гомеровского стиха: «Будет некогда день…» И так как Кнопс смотрел на него с изумлением, он не мог удержаться, вынул из складок плаща смарагд, еще пристальнее взглянул на Кнопса и многозначительно повторил: «Будет некогда день…»
Раб Кнопс отступил перед искрящимся зеленым огнем, но он был умен и не спросил ничего; однако с любопытством отметил странный жест своего господина и его слова и долго о них раздумывал.
Имя «Кнопс» означало «дикий зверь», а также «дикарь». Кнопс любил, чтобы это слово выговаривали как следует, с долгим греческим «о». Кнопс был строен, выглядел значительно моложе своих лет. Он попал в семью Теренция малым ребенком, неисправный должник отдал его отцу Теренция в уплату долга. Кнопс родился в Киликии и чувствовал себя как рыба в воде на своем Востоке. Это был хитрый, льстивый человек с быстрыми глазами. Он завидовал Теренцию, для которого был лишь покорным младшим товарищем детских игр, и в то же время восхищался им. Восхищался его повелительной, властной повадкой, его слепой верой в себя, но вместе с тем ненавидел его за эти западные качества. Он, Кнопс, управлял всем предприятием на Красной улице, и если фабрика Теренция в Эдессе стала быстро преуспевать, то этим ее владелец обязан был Кнопсу. Вероятно, он сумел, несмотря на бдительное око Гайи, отложить кругленькую сумму для себя, но его работу нельзя было оплатить деньгами. Собственно говоря, по обычаю, Теренцию давно следовало отпустить его на волю; многие удивлялись, почему Кнопс, раз его хозяин не давал ему заслуженной свободы, давно не взял ее сам. Например, в момент гибели Нерона, когда Теренцию пришлось бежать, ловкий, умный Кнопс легко мог бы уйти, не опасаясь преследования со стороны своего господина, ибо тот имел все основания не подавать признаков жизни. Если Кнопс и тогда и позднее оставался у него, то причиной тому была какая-то суеверная надежда, что его господин поднимется высоко и тогда преданность Кнопса оплатится с лихвой.
И вот, когда Теренций тихо, с гневной уверенностью продекламировал стих Гомера: «Будет некогда день», раб отнюдь не счел эти слова пустой болтовней. Напротив, он тотчас же поставил их в связь со слухами, что император Нерон жив. О предстоящей перемене Теренций толковал ему уже в Риме, в пору своих таинственных отлучек; к этому он присовокупил, однако, обещание, что, как только перемена произойдет, он даст Кнопсу волю. Рассчитывая на эту перемену, Кнопс терпеливо ждал, и теперь его сердце согревалось надеждой, что наконец этот день и в самом деле наступит и тогда исполнится его заветная мечта: он поселится где-нибудь на Востоке, откроет собственное дело, обведет вокруг пальца своих друзей и будет распускать о них злые сплетни и наглые остроты.
Вечером этого дня Кнопс пошел к одному из этих друзей, к самому близкому – горшечному мастеру Гориону. У него он обычно проводил большую часть своего досуга. Горион был коренной житель Востока, тучный, с круглой головой и маленькими хитрыми глазками. Он много болтал, усиленно жестикулируя, как и Кнопс. Но, в отличие от Кнопса, он не вкладывал свою энергию в работу, а заполнял день тем, что жадно ловил всякие слухи, подолгу просиживал с деловым видом у своих многочисленных знакомых, бранился и сплетничал. Хитрый, легковерный, он принимал близко к сердцу разные политические перемены, происходившие в его городе. Любую перемену он встречал с неизменным восторгом – тем быстрее наступало разочарование, и он с тоской вспоминал, как хорошо было раньше.
Отцы и праотцы Гориона с незапамятных времен жили в этой стране, они были свидетелями смены вавилонских, ассирийских, греческих, римских, персидских, арабских правителей. Новых владык они принимали, как солнце, или как град, или как наводнение. Вздыхали и терпели. Цепляясь за свою землю, ели, пили, рожали детей, почитали богиню Тарату и ее рыб и работали столько, сколько было необходимо, чтобы прожить и дать завоевателю то, что ему удавалось выжать из них побоями и пытками. Чужеземные князья и правители исчезали, а род Гориона оставался и додержался до тех дней, когда появился Горион, – чтобы браниться и терпеть, как бранились и терпели предки.
С этим-то Горионом Кнопс искренне подружился: ему отчасти льстило, что Горион, свободный человек, так охотно с ним разговаривает, а с другой стороны, он был уверен, что стоит выше Гориона по знанию дела, пониманию жизни и уму. С видом знатока разглядывал Кнопс двенадцатилетнюю дочь Гориона, маленькую Иалту: он заставил Гориона обещать, что тот отдаст ему Иалту в жены, когда наступит великая перемена и Кнопс уже не будет рабом. Сегодня, убежденный, что день этот близок, он вслух смаковал все подробности воображаемой первой ночи с маленькой Иалтой. Но Горион, отец Иалты, лукаво и как бы угрожающе поднял палец и лишний раз напомнил Кнопсу, рабу из Киликии, старую поговорку: «Кариец, киликиец, каппадокиец – все хороши: от таких трех „к“ воротит с души». На это Кнопс, оскорбленный в своем патриотизме, с необычным для него жаром ответил, что, по вкусу это Гормону или не по вкусу, он, Кнопс, будет спать с его Иалтой. Этого Горион стерпеть не мог и сказал, посмеиваясь:
– Посмотрите-ка на этого Кнопса из Киликии, на это «к», от которого с души воротит!
В довершение обиды он произнес имя «Кнопс» с кратким «о». Но Кнопс, веря в звезду своего господина, еще более рассвирепел и ответил, что будет спать не только с дочерью Гориона – Иалтой, но и с богиней Гориона – Таратой. Это последнее неслыханное оскорбление, которое раб нанес его любимому божеству, до того вывело из себя Гориона, что он плеснул в лицо Кнопсу полный кубок вина: убыток, впрочем, был невелик, так как вино уже порядком прокисло.
Горион ждал, что Кнопс ответит потоком отборнейших ругательств, но ничего подобного не случилось. Напротив, раб спокойно вытер лицо и тихо сказал:
– Берегись, Горион. Может случиться, что «к», от которого с души воротит, в один прекрасный день окажется другом могущественного господина.
Он произнес эти слова так серьезно и спокойно, что горшечник Горион онемел.