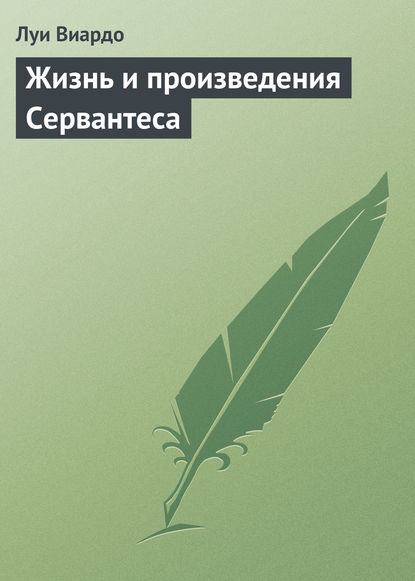По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь и произведения Сервантеса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В продолжение четырех лет, непосредственно следовавших за его женитьбой, с 1584 по 1588 г., Сервантес, снова сделавшийся литератором, так же как гражданином Эскивиаса, бросив пасторальную поэзию, исключительно занялся театром, единственной прибыльной в то время литературой. Еще когда он был ребенком, театр, отделившись от церкви, стал появляться в публичных местах в балаганах Лопе де Руэда, этого странствующего Эсхила. писателя и актера, скромного, но истинного основателя сцены, на которой впоследствии должны были прославиться Лопе де Вега, Кальдерон, Морето, Тирсо де Молина и Солис, и где должны были вдохновляться Корнель и Мольер[2 - Подробности о происхождении и развитии испанского театра можно найти в Еtudes sur l' histoire des institutions, de la littеrature, du thе?tre et des beaux-arts en Espagne par Louis Viardot.]. Испанский двор, постоянно переезжавший из столицы одной провинции в столицу другой, в 1561 г. окончательно поселился в Мадриде, а в 1560 г. в этом городе построены были два театра, существующие и поныне, – de la Cruz и del Principe. Тогда выдающиеся умы не стыдились работать для сцены, до тех пор предоставлявшейся антрепренерам странствующих трупп (autores), которые сами писали фарсы для своего репертуара. Сервантес один из первых вступил на это новое поприще, дебютировав шестиактной комедией, написанной про собственные его приключения и носивишей заглавие los Tratos de Argel. За этой пьесой последовало более двадцати других, из которых он сам с удовольствием и похвалой упоминает о la Numancia, la Bataila naval, la Gran-Turquesca, la Entretenida, la Casa de los Zelos, la Jerusalem, la Amaranta o la del Mayo, el Bosque amoroso, la Unica y bizarra Arsinda и, в особенности, la Confusa, которая, если верить ему, «на сцене оказалась чудесной.» Он говорят: «Я осмелился сократить комедии до трех актов с пятя. Я первый стал изображать мечты и тайные душевные помыслы, выводя на сцену нравственные личности и тем вызывая горячее одобрение со стороны публики. Я написал в то время от двадцати до тридцати комедий, которые все были играны (que todas se recitaron), не осыпаемые огурцами и прочими отбросами и не вызывая свистков, криков и стука…»
Все эти пьесы, так же как часть других произведений Сервантеса, очень долго известны были только по имени, и потеря их вызывала живейшее сожаление. Судя по его богатому воображению, игривому уму, высоким понятиям и чистому вкусу; судя по его знанию сцены, о которой он высказал в нескольких местах Дон-Кихота столько справедливых и поэтических суждений; судя по похвалам, которые он с такою непринужденностью расточал себе, как автору комедий, и по оригинальному таланту, который он действительно проявил в своих интермедиях, – все считали его комедий за шедевры. Но к немалому ущербу для его репутации драматурга, три – четыре его комедии отыскались, и между ними la Ntmumcua, la Entretenida и los Tratos de Argel. Все эти пьесы далеко не стоять сожаления, которое вызывало их потеря, и репутация их автора только выиграла бы, еслиб они были известны лишь по его собственному чисто отеческому суждению. Это интересный пример (и не единственный с его стороны) того, как трудно даже гению верно судить о себе самом.
Из разысканных пьес – трагедия Сервантеса, без сомнения, самая лучшая. Хотя далекая от совершенства, она тем не менее несравненно лучше трагедий Луперсио де Аргенсола, которым Сервантес расточает похвалы, удивительные со стороны человека, там мало умеющего льстить (Дон-Кихот, часть первая, глава XLVIII). Весь гений этой гордой и нежной души обнаруживается в героических чувствах народа, осуждающего себя на смерть, чтоб сохранить свою свободу, в трогательных эпизодах, представляемых среди этой страшной катастрофы горячей дружбой, любовью и материнской нежностью. Но в общем драма неудовлетворительна, план неопределен и нескладен, детали бессвязны, и внимание разбрасывается и утомляется. В общем самое лучшее, что Сервантес написал для сцены, это его маленькие интермедии, пьески, которые тогда играли не после главной пьесы, а в антрактах между тремя jornadas. Разные девять интермедий Сервантеса: el Juez de los divorcios, el Rufian viutdo, la Election de los Alcades и друг., большею частью образцы шутовства.
Бедный Сервантес долго не мог добиться славы и выгод от своих успехов на сцене. «Комедии имеют», как он сам выражается в своем Прологе, «свое время и свои сезоны. Тогда царил на сцене великий Лопе де Вега, это чудо природы, обладавший комической натурой (alz?se con la monarquia comica), покоривший себе всех актеров и наполнивший мир своими комедиями». Изгнанный из театра наравне со многими другими сказочной плодовитостью Лопе де Вега, Сервантес вынуждев был искать другого поприща, правда, менее по своему вкусу, менее блестящего и менее благородного, но которое обеспечило бы ему хлеб. Достигнув сорокалетнего возраста, без состояния и безо всякой награды за свою двадцатилетнюю службу и страдания, он, должен был нести на себе бремя семьи, увеличенной двумя его сестрами и незаконной дочерью. Один советник финансов, Антонио де Гевара, назначен был в начале 1588 г. провиантмейстером индийских эскадр и флота в Севилье, с правом пригласить в помощь себе четырех коммиссаров: нужно было закончить снаряжение великой Армады, этого непобедимого флота, разрушенного англичанами и бурями. Гевара предложил Серваатесу занять одно из этих мест, и тот отправился в Андалузию со всей семьей, исключая брата Родриго, все еще служившего в армии во Фландрии.
И вот автор Галатеи и комический поэт, вызывавший столько апплодисментов, становится приказчиком по части торговли съестными припасами. Но это еще не все: он просил у короля в мае какого-нибудь места казначея в Новой-Гренаде или коррегидора в маленьком городке Гоатемала; он готов был даже уехать в Америку, которую сам называет «обычным убежищем отчаявшихся испанцев». К счастью его прошение затерялось в ящиках индийского совета.
В Севилье Сервантес прожил долго. Не считая нескольких поездок по Андалузии и одного путешествия в Мадрид, он пробыл там десять лет к ряду. Он был до 1591 г. приказчиком у провиантмейстера (proveedor) Гевары, затем еще два года у преемника последнего Педро де Исунцы, потом, лишившись этого места вследствие упразднения должности провиантмейстера, он сделался агентом по делам и несколько лет жил поручениями, которые давали ему муниципалитеты, корпорации и частные богачи, и между последними Дон-Гернандо де Толедо, сигалесский сановник, имением которого он управлял и с которым подружился.
Среди занятий, столь недостойных его, Сервантес не сказал, однако, музам последнего прости: он втайне поклонялся им и тщательно поддерживал священный огонь своего гения. В то время дом знаменитого живописца Франциско Пачеко, хозяина и тестя великого Веласкеца, был открыт для всех выдающихся людей: мастерская этого живописца, который, по словак Дон-Родриго Каро, занимался также поэзией, был «обычной академией всех великих умов Севильи». Сервантес считался в числе самых усердных посетителей этого дома, и его портрет фигурировал в драгоценной галлерее более ста выдающихся личностей, написанной и собранной хозяином. Он подружился в этой академии с знаменитым лирическим поэтом Фернандо де Геррера, которого его соотечественники почти совсем забыли, не зная ни дня его рождения, ни обстоятельств его жизни, и которого произведения или, лучше сказать, остатки произведений найдены в виде отрывков между бумагами его друзей. Сервантес, написавший на смерть Герреры сонет, был также другом поэта Хуана ди Хаурига, изящного переводчика Тассовой Аминты, перевод которой не уступает оригиналу и пользуется редкой привилегией быть причисленным к классическим произведениям. Живописец Пачеко занимался поэзией, а поэт Хауреги занимался живописью и написал портрет своего друга Сервантеса.
Во время пребывания своего в Севилье Сервантес написал большую часть своих повестей, собрание которых, постепенно обогащаясь, появилось уже много времени спустя, в промежутке между обеими частями Дон-Кихота. Так, приключения двух знаменитых воров, пойманных в Севилье в 1569 г. и которых история еще ходила в народе, дали ему сюжет для Rinconete y Cortadillo. Разграбление Кадикса после высадки в нем 1-го июля 1596 г. английского флота, под командой адмирала Говарда и графа Эссекса, внушило ему мысль об Испанке-Англичанке (la Espanola Inglesa). В Севилье же он написал Безразсудно Любопытного (el Curioso impertinente), которого включил в первую часть Дон-Кихота; Ревнивого Эстрамадурца (d Zeloso Estremeno) и Мнимую тетку (la Tia fingida), воспоминание о его пребывании в Саламанке, бывшее долго известным только по названию и недавно найденное в рукописи.
Со времени войн Карла V, познакомивших Испанию с итальянской литературой, и до Сервантеса, испанцы ограничивались переводами непристойных сказок из Декамерона – и переводами же подражателей Боккатчио. Сервантес имел право сказать в своем Предисловии: «Я считаю, что я первый начал писать новеллы по испански, ибо все повести, которые в таком множестве обращаются у вас в печати, заимствованы с иностранных языков. Те, которые я написал, мои, не заимствованные и не украденные: мой ум их выдумал, и мое перо их создало». Он назвал их Образцовыми новеллами (Novelas ejemplares), в отличие от итальянских сказок и потому, что между ними нет ни одной, как он сам говорит, из которой нельзя было бы извлечь какого-нибудь полезного примера. Кроме того, они разделены на серьезные (serias) и игривые (jocosas). Первых насчитывают семь, а вторых восемь. После Дон-Кихота Новеллы дают Сервантесу главное право на бессмертие. В них также в тысяче видах обнаруживаются плодовитость его фантазии, доброта его любящего сердца, насмешливый, но не язвительный ум, в высшей степени гибкий слог, – словом, все различные качества, которые в одинаковой степени блистают как в истории нежной Корнелии, так и в удивительной картине низменных нравов, называемой Rinconete y Cortadillo.
По смерти Филиппа II в 1598 г. воздвигнут был в севильском соборе великолепный катафалк, «изумительнейший надгробный памятник», рассказывает летописец церемонии, «какой человеческие глаза удостоивались видеть». Но этому-то случаю Сервантес написал знаменитый шуточный сонет, в котором так мило насмехается над бахвальством андалузцев, испанских гасконцев и который он называет (в Путешествии на Парнас) почетнейшим из своих сочинений[3 - Этот сонет в том роде, который называется estrambote и в котором вместо четырнадцати стихов семнадцать. В переводе сонет очень много теряет, особенно заключительные слова, приводящие в восторг испанцев, которые почти все знают наизусть estrambote Сервантеса. Вот он:«Боже мой! Это величие пугает меня, и я не пожалел бы дублона, чтоб только суметь описать его. И в самом деле, кто не удивляется и не изумляется при виде такой пышности, при виде этого славного памятника!Клянусь жизнью Иисуса Христа! каждая вещь в нем стоят более миллиона, и это позор, что это не остается на целое столетие. О, великая Севилья! Рим, сияющий храбростью и богатством!Пари держу, что душа покойника сегодня покинула небо, куда навеки переселилась, и явилась насладиться этим местопребыванием.Один хвастун, услышав эти слова, вскричал: „Нет ничего справедливее того, что сказала ваша милость, господин солдат, и тот лгун, кто скажет противоположное“.При этом он нахлобучивает шляпу, хватается за рукоятку шпаги, взглядывает исподлобья, уходит, и тем дело кончается».]. Время появления этого сонета указывает на время пребывания Сервантеса в Севилье, из которой он вскоре выехал навсегда, и вот по какому случаю.
Сервантес, столь похожий на Камоэнса, испытал ужаснейшее из несчастий, преследовавших этого великого человека: он был обвинен во взяточничестве при исполнении им должности провиантмейстера – в Макао, заключен в тюрьму и предан коммерческому суду. Подобно певцу Лузиады, Сервантес своей бедностью легко доказал свою невиновность. В конце 1594 г., составляя в Севилье счета по своему комиссариатству и с трудом собирая задержанные платежи, он несколько раз отсылал деньги в севильских векселях в Мадридскую Contaduria-Mayor. Одну из таких сумм, собранную с округа Велес-Малого и достигавшую 7400 реалов, он передал наличными деньгами одному севильскому негоцианту по имени Симон Фрейре де Лима, который взялся передать ее в мадридскую казну. После этого Сервантес поехал в столицу, и, не найдя там своего казначея, стал требовать с него порученные деньги, но Фрейре успел между тем обанкротиться и бежал из Испании. Сервантес сейчас же вернулся в Севилью, но все имущество бежавшего оказалось уже в руках других кредиторов. Он обратился с прошением к королю, и декретом от 7-го августа 1595 г. приказано было севильскому судье de los grados, доктору Бернардо де Ольмедилья, взыскать с имущества Фрейре преимущественно перед другими сумму, данную ему Сервантесом. Судья взыскание произвел и деньги отправил генеральному казначею Дон-Педро Месиа де Тобар векселем от 22-го ноября 1596 г.
Трибунал Контадурии в то время с чрезвычайной строгостью очищал счета всех чиновников казначейства, которое было совершенно истощено завоеванием Португалии и Терсеры, походом во Фландрию, уничтожением непобедимого флота и разрушительными опытами со стороны нескольких финансовых шарлатанов, называвшихся arbitristas. Вызван был в Мадрид для отчета и главный сборщик, агентом которого был Сервантес. Он показал, что все документы, необходимые ему для отчета, находятся в Севилье у Сервантеса. На основании этого доказания, королевским посланием от 6-го сентября 1597 г. к судье Гаспару де Вальехо приказано было без суда и следствия арестовать Сервантеса и под конвоем препроводить его в столичную тюрьму в распоряжение коммерческого суда. Сервантеса немедленно заключили в тюрьму; но по представлении им поручительства в уплате 2641 реала (около 270 руб.), в растрате которых его обвинили, он был выпущен на свободу в силу нового королевского послания от 1-го декабря того же года, под условием, что он явится в Контадурию через месяц и уплатит числящийся за ним долг.
Неизвестно, чем кончилось это первое преследование Сервантеса, но несколько лет спустя, снова был поднять вопрос о тех же несчастных 2641 реале. Сборщик Базы Гаспар Осорио де Техада представил в своем отчете в 1602 г. расписку Сервантеса в том, что ему выдана была названная сумма, когда он был комиссаром, в 1694 г., в уплату податей, числившихся за городом и округом. Опрошенные об этом члены Contaduria-Mayor представили доклад, помеченный 24 января 1603 г. в Вальядолиде, в котором рассказано было об аресте Сервантеса в 1597 г. по поводу этой самой суммы и о взятии его на поруки, с присовокуплением, что с той поры он в суд не являлся. По этому-то поводу Сервантес и отправился со всей семьей в Вальядолид, куда Филипп III за два года до того перенес двор. Существует доказательство, что сестра Сервантеса, донья Андреа, занималась починкой белья гардероба некоего Дон-Педро де Толедо Осорио, маркиза де Виллафранка, который вернулся из экспедиции в Алжир. В её хозяйственных счетах, доказывающих семейную нужду, встречаются заметки и записи, сделанные рукой Сервантеса. Он покончил свои дела с коммерческим судом, доказав, что раньше уплатил долг, или заплатив тут же, потому что преследования прекратились и он спокойно прожил остаток своей жизни около того самого суда, который так жестоко обходился с ним. Эти мелкие подробности были необходимы для чести Сервантеса; но чтобы доказать, что его честность была вне всякого подозрения, достаточно было бы упомянуть, что он сам отзывается о своих многочисленных заточениях с остроумной веселостью. Это было бы уж чересчур нахально, если бы заточения эти были вызываемы каким-нибудь неблаговидгым поступком, и его враги, завистники и клеветники всего рода человеческого, упрекавшие его даже его изувеченной рукой, не преминули бы задеть его за более чувствительное место, чем авторское самолюбие.
Сведения об этой эпохе жизни Сервантеса составляют большой пробел в собранных о нем материалах. Ничего верного неизвестно о нем, начиная с 1598 г., когда он написал в Севилье сонет о могиле Филиипа II, до 1603 г., когда он присоединился ко двору в Вальядолиде. А между тем, именно в этот пятилетний промежуток, он замыслил, начал и почти кончил первую часть Дон-Кихота. Есть много оснований предполагать, что он уехал с семьей из Севильи в 1590 г. и поселился в каком-нибудь местечке Ламанчи, где у него были родные и где ему приходилось несколько раз исполнять поручения. Быстрота, с которой он в 1603 г. явился в коммерческий суд в Вальядолиде, заставляет предполагать, что он жил где-либо поблизости к этому андалузскому городу; кроме того, полное знакомство с местностями и нравами Ламанчи, обнаруживаемое им в его романе, также доказывает, что он там долго прожил. Возможно, что он жил постоянно в бурге Аргамавилья де Альба, и что, назначив этот же бург родиной своего безумствующего дворянина, он хотел осмеять местных дворянчиков, между которыми в это самое время возникли из-за каких-то прав на первенство такие скандальные споры и такие упорные тяжбы, что, по словам летописцев того времени, из-за них убавилось даже количество населения деревни.
Когда видишь, как Сервантес в своем прологе к Дон-Кихоту говорит, что сын его ума, «этот сухой, тощий, пожелтелый, сумасбродный… был произведен на свет в тюрьме, где присутствуют всякие неприятности и гнездятся все зловещие слухи», то с любопытством спрашиваешь себя, по какому поводу, в какое время и в каком месте дан был ему тот печальный досуг ума и тела, благодаря которому увидело свет одно из прекраснейших творений ума человеческого. За пределами Испании всеобщее мнение было таково, что Сервантес замыслил и начал свое произведение в подземельях святой инквизиции; но, как остроумно выразился Вольтер, нужно быть очень близоруким, чтобы так оклеветать инквизицию. Как мы преследовала судьба Сервантеса, но настолько он еще был счастлив, чтоб не иметь никакого дела с этим гораздо более страшным судом, чем коммерческий. О его заточении в Ламанче существует множество невыясненных предположений. Некоторые полагают, что это несчастье стряслось над ним в деревне Тобозо по поводу слишком сильного словца, сказанного им одной женщине, оскорбленные родственники которой отомстили ему этим, но большинство думает, что его упрятали в тюрьму жители бурга Аргамазилья де Альба, возмущенные тем, что он взыскивал с них невнесенную ими десятину в пользу приорства Сан-Хуан, или же тем, что он отнял у них необходимую им для орошения воду Гвадианы, чтобы делать там селитру. Верно только то, что еще и поныне в этом бурге показывают древний дом, называемый casa de Medromo, который с незапамятных времен считается по преданию местом заточения Сервантеса. Известно также, что несчастный сборщик десятины очень долго протомился в этой тюрьме и дошел до такого печального состояния, что вынужден был прибегнуть за покровительством и помощью с своему дяде Дон-Хуану Барнабеде Сааведра, гражданину Альвавара де Сан-Хуан. Сохранилось воспоминание о письме, написанном Сервантесом к этому дяде и начинающемся так: «Долгие дни и короткия ночи (безсонные) утомляют меня в этой тюрьме, или лучше сказал, в этой пещере…» В память об этом несправедливом мучительстве он начал Дон-Кихота следующими словами кроткой мести: «В одном местечке Ламанчи, об имени которого мне не хочется вспоминать…»
Вернувшись после тринадцатилетнего отсутствия в то, что называлось двором (la corte), т. е. в резиденцию монарха, Сервантес почувствовал себя, точно на чужбине. Другой король и другие фавориты правили государством; старые друзья его частью умерли, частью рассеялись. Если лепантский солдат и автор Галатеи и Нуманции не встретил ни правосудия, ни покровительства, когда его заслуги его еще были свежи в памяти всех, то чего мог он ждать от преемника Филиппа II после пятнадцати лет забвения! Тем не менее, побуждаемый жалким положением своей семьи, Сервантес сделал еще одну последнюю попытку: он явился на ауденцию к герцогу Лермскому «Атласу, на котором лежала вся тяжесть монархии», как он сам выразился, т. е. всемогущему раздавателю милостей. Надменный фаворит принял его презрительно, и Сервантес, оскорбленный до глубины своей гордой, чувствительной души, навсегда отказался от роли просителя. С этих пор, деля время между деловыми комиссиями и литературным трудом, он смиренно жил в полном уединении и нужде, на свои заработки и на пособия от своих покровителей, графа Лемосского и архиепископа Толедского.
Тяжелое положение, в котором находился Сервантес, бедный и отвергнутый, заставило его поторопиться напечатанием Дон-Кихота или, по крайней мере, первой его части, которая уже значительно подвинулась в рукописи. Он получил от короля 26 сентября 1604 г. разрешение на печатание своей книги. Но нужно было еще найти мецената, который принял бы посвящение книги и украсил бы ее своим именем. Сервантесу, неизвестному и бедному, необходимо было покориться этому обычаю, особенно при издании такой книги. Если бы эта книга, заглавие которой могло обмануть, была принята за простой рыцарский роман, то она попала бы в руки людей, которые, не найдя в ней того, чего искали, не увидали бы в ней также и сатиры на их извращенный вкус. Напротив, если бы книга сразу была узнана и понята, то к главным критикам присоединились бы слишком тонкие и смелые критики с различными намеками. Поэтому протекция была ему необходима, так как покровительство великого вельможи обыкновенно защищало книгу от этих подводных камней. Выбор Сервантеса остановился на Дон-Алонсо Лопец де Зунига-и-Сотомаиор, седьмом герцоге де Бехар, в одном из тех праздных аристократов, которые удостоивали наделить литературу и искусство улыбкой поощрения со стороны своего титулованного невежества. рассказывают, что герцог, узнав, что сюжетом Дон-Кихота служит насмешка, счел свое достоинство скомпрометированным и отказался от посвящения. Сервантес, сделав вид, что уступает его антипатии, попросил его только о позволении прочитать ему одну главу. Но удивление и удовольствие, вызванные в слушателях этим чтением, были так велики, что книга была прочитана глава за главой вся до конца. Автор был осыпан похвалами, и герцог, уступая всеобщих просьбам, дал себя умилостивить. рассказывают также, что одно духовное лицо, духовник герцога де Бехар, управлявший столько же его домом, сколько его совестью, завидуя успеху Сервантеса, стал едко критиковать как книгу, так и автора её, и упрекать герцога в милостивом отношения к обоим. Этот суровый монах имел, без сомнения, большое влияние на своего духовного сына, так как герцог вскоре забыл Сервантеса, который, в свою очередь, ничего более ему не посвящал. Он даже по своему отомстил им обоим, изобразив эту сцену и их самих во второй части Дон-Кихота.
Первая часть была напечатана в начале 1605 г. Прежде чем продолжать рассказ, необходимо сказать, каково было положение дел в момент появления книги.
Эпоха, в которую предполагается процветание странствующего рыцарства и в которую происходили приключения паладинов, членов этого воображаемого учреждения, относится к переходу от древней цивилизации к новой. Это было время темное, варварское, когда процветало право сильного, когда победа в дуэли заменяла собою правосудие, когда феодальная анархия то и дело опустошала землю, когда могущество духовенства, призывавшееся на помощь гражданской власти, только Божьим перемирием давало народам несколько спокойных дней. В такое время было бы, конечно, хорошо посвятить себя защите несчастных и покровительству угнетенных. Воин высокого полета, который отправился бы с копьем в руке я в полном вооружении по свету искать случаев проявить в этом благородном занятии сердечное великодушие я мужество, был бы благодетельным, славным существом, которое везде возбуждало-бы удивление и благодарность. Если бы он уничтожил несколько бандитов, которые опустошали большие дороги, или выгнал бы из берлог других, титулованных бандитов, которые, с высоты своих построенных на скалах замков, бросались, как орлы из гнезд, на легкую добычу, представляемую безоружными проезжими и прохожими; еслиб он освобождал узников из целей, спасал невинных от пытки, наказывал убийц, свергал узурпаторов, словом, если бы он в эти первые годы нового времени возобновил подвиги Геркулеса, Тезея, полубогов предшествовавшего тоже юного мира, – то его имя, переходя из уст в уста, сохранилось-бы в памяти людей со всеми прикрасами доисторических времен. С другой стороны, женщины, слабость которых еще не была охраняема общественными нравами, были бы главным предметом великодушного рыцаря. Ухаживание, эта новая любовь, неизвестная в древности и порожденная христианством, которое к чувственным наслаждениям прибавила уважение и веру вроде религиозного культа, присоединила бы приятное времяпрепровождение к кровавым похождениям закованного в латы судии, жизнь которого проходила-бы таким образом между войной и любовью.
Этот сюжет, если бы его хорошо разработать, мог бы дать материал не для одной книги, а для целой литературы. К истории странствующих рыцарей нетрудно было бы присоединить историю обычаев того времени, и воображению романиста представились бы описание турниров и празднеств, песни трубадуров и пляски жонглеров, религиозное паломничество в святые места и Восток со всеми его чудесами. А между тем, не на это обращали свое внимание авторы рыцарских книг; по крайней мере, не на этом они останавливались. Без малейшего внимания к истине и даже правдолюбию, они по произволу нагромождали грубейшие ошибки по истории, география и физике и даже опаснейшие нравственные заблуждения; они сумели отметить только удары копьями и шпагами, вечные битвы, невероятные подвиги, сшитые белыми нитками похождения без плана, без связи, без смысла; они смешивали нежность с жестокостью, порок с суеверием они призывали на помощь великанов, чудовища, чародеев и старались лишь о том, чтобы превзойти один другого преувеличением невозможного и чудесного.
Тем не менее, такого рода книги, благодаря именно своим недостаткам, не могли не нравиться. В эпоху, когда они появились, несколько ученых начали, правда, по развалинам восстановлять историю древних времен, но невежественная и праздная толпа еще не находила пищи для своего ума и наполнения досугов и с жадностью накинулась на эту добычу. Кроме того, со времени крестовых походов всеобщая склонность к авантюризму удивительно подготовила почву для рыцарских романов, и особенно сильный и продолжительный успех они имели в Испании, где более, чем где бы то ни было, вкоренился вкус к рыцарской жизни. За восемью веками беспрерывных войн с арабами и маврами последовали открытие и завоевание Нового Света, а затем войны с Италией, Фландрией и Африкой. Что же удивительного, что все пристрастились к рыцарским книгам в стране, где рыцари действительно существовали: Дон-Кихот был не первый безумец этого рода: воображаемый Ламанчский герой имел живых предшественников, образцы с плотью и кровью, телом и душой. Стоит лишь открыть книгу Бернандо дель Пульгар Кастильские знаменитые люди, и мы найдем сочувственное описание пресловутого безумия сына великого судьи астурийского, Дон-Суэро де Кинонес, который, условившись откупиться от чар своей дамы тремя стами сломанных копий, защищал в продолжение целого месяца проход Орбиго, подобно тому, как Родомонт защищал мост Монпелье, Тот же летописец называет множество воинов времен Иоанна II (от 1407 до 1454 г.), лично ему знакомых, как Гонзало де Гусман, Хуан де Мерло, Гутьерре Кехада, Хуан де Поланко, Перо-Васкен де Саиаведра и Диего Варела, которые не только навещали своих соседей, гренадских мавров, но в качестве настоящих странствующих рыцарей объехали чужеземные страны – Францию, Германию и Италию, предлагая всякому желающему сразиться с ними в честь дам.
Чрезмерное пристрастие к рыцарским романам скоро принесло свои плоды. Молодые люди, перестав изучать историю, которая не давала достаточной пищи их извращенной любознательности, начали в речах и поступках подражать своим любимым книгам. Повиновение женским капризам, развратные любовные похождения, ложное понятие о чести, кровавая месть за ничтожнейшие оскорбления, бесшабашная роскошь, презрение ко всякому социальному порядку стали царить повсюду, и таким образом рыцарские книги испортили не только вкус, но и нравы общества.
Эти печальные последствия прежде всего вызвали деятельность со стороны моралистов. Луис Вивес, Алексо Венегас, Диего Грасиан, Мельчор Кано, Фраи Луис де Гранада, Малон де Чаиде, Ариас-Монтано и другие благоразумные или благочестивые писателя подняли крики негодования против зол, вызываемых чтением этих книг. Потом и закон пришел к ним на помощь. Декретом Карла V от 1543 г. отдан был приказ вице-королям и судам Нового Света не позволить ни одному испанцу или индийцу ни печатать, ни продавать, ни читать рыцарских романов. В 1555 году Вальядолидские кортесы в очень энергичной петиции требовали такого же запрещения для Пиринейского полуострова, прося кроме того собрать и сжечь все уже существующие рыцарские книги. Королева Иоанна обещала издать такой закон, но обещания не исполнила[4 - Вот несколько выдержек из этого интересного послания: «…Еще мы говорим, что весьма значительно зло, причиненное и причиняемое в этих королевствах молодым людям и молодым девушкам чтением лживых и суетных книг, каковы Амадис и все ей подобные книги, сочиненный после неё… Ибо, так как молодые люди и молодые девушки только этим и занимаются, то они и увлекаются этими мечтами и событиями, о которых читают в этих книгах по части любви, войны и других пустяков; а раз увлекшись, они сломя голову бросаются при первом удобном случае в подобные приключения, чего не было бы, еслиб они об этом не читали. Часто мать оставляет свою дочь запершеюся в доме, думая, что она остается в уединении, тогда как та остается лишь для того, чтоб читать подобные книги, так что уж лучше было бы, если бы мать брала ее с собой. И это не только порождает предразсудки и непочтительность к личности, но приносит еще вред и совести; ибо чем более пристращаешься к этой суетности, тем более удаляешься от святого, истинного христианского учения… А чтоб исправить вышеназванное зло, мы умоляем Ваше величество запретить под страхом строгого наказания читать и печатать эти и им подобные книги, и приказать собрать и сжечь уже существующие… ибо поступив так, Ваше Величество окажете большую услугу Богу, лишив людей чтения таких суетных книг и заставив их читать священные книги, которые образуют душу и исправляют тело, и Ваше Величество окажете своим королевствам великое добро и милость».].
Но ни разглагольствования риторов и моралистов, ни проклятия законодателей не могли остановить заразы. Все эти средства были бессильны против любви к чудесному, которого не могут в нас окончательно осилить ни рассудок, ни наука, ни философия. Рыцарские романы продолжали писаться и читаться. Принцы, гранды и прелаты принимали их посвящение. Святая Тереза, в молодости своей любившая такое чтение, написала до своего Внутреннего замка и других мистических сочинений один рыцарский роман. Карл V тайком поглощал Дон-Белианиса Греческого, чудовищнейшее порождение этой сумасшедшей литературы, издавая в то же время декреты об изгнании её, и когда его сестра, венгерская королева, хотела отпраздновать его возвращение во Фландрию, то ничего лучшего придумать не могла, как устроить на знаменитых празднествах в Бинсе (в 1549 г.) представление в лицах приключений из одной рыцарской книги. Действующих лиц в этом спектакле изображали все придворные сановники и сам суровый Филипп II. Страсть уже проникла даже в монастыри, и там читались и сочинялись романы. Один францисканский монах по имени Фраи Габриэл де-Мата напечатал не в XIII столетии, а в 1589 г. рыцарскую поэму, героем которой был святой Франциск, патрон его ордена, и которая называлась el Caballero Asisio. На заглавном листе нарисован был портрет святого верхом на коне и в полном вооружении, как на рисунках, украшавших Амадисов и Эспландианов. Конь был покрыт попоной и разукрашен великолепными султанами. На кончике каски у всадника поставлен был крест с гвоздями и терновым венком, на щите изображены были пять ран, а на копье – Вера, державшая крест и чашу с надписью: En esta no faltarе. Эта странная книга была посвящена кастильскому коннетаблю.
Вот каково было положение дел, когда Сервантес, заключенный в тюрьме в деревне Ламанча, задумал уничтожить до основания рыцарскую литературу. Этот бедный, безвестный человек без имени и без покровителей вздумал напасть на эту гидру, топтавшую рассудок и законы, в самый разгар её популярности, успехов и торжества. Но он взялся за более действительное орудие, чем доказательства, проповеди и правительственные запрещения, именно за насмешку, и успех получился полный. Моралисты и законодатели, ранее восстававшие против рыцарских книг, могли бы сказать Сервантесу, как говорил Жан Жаку Руссо по поводу матерей-кормилиц Бюффон: «Все мы советовали то же самое, но он один приказал это и заставил послушаться себя». Один вельможа, придворный Филиппа III, Дон-Хуан де-Сильва-и-Толедо из Канада-Гермозы, издал в 1602 г. Хронику принца Дон-Полисисне де-Боэциа, и эта книга, сумасброднейшая изо всех ей подобных, была последним рыцарским романом. появившимся в Испании. Со времени появления Дон-Кихота не только не печаталось вы одного нового романа, во даже старые перестали перепечатываться и с течением времени сделались библиографической редкостью. О многих из них сохранилось одно воспоминание, а большинство исчезло совершенно бесследно. Словом, успех Дон-Кихота в этом отношении был очень велик, и многие даже стали упрекать Сервантеса в том, что он, употребив чересчур сильное средство, вызвал противоположное зло: они утверждали не обинуясь, будто ирония этой сатиры, миновав свою мишень, расшатала почитавшиеся до того правила кастильского понятия о чести.
Объяснив первоначальную причину возникновения Дон-Кихота вернемся опять к истории книги и её автора. По преданию, впрочем довольно правдоподобному и принятому на веру почти всеми, первая часть Дон-Кихота встречена была вначале с полнейшим равнодушием. Как и следовало ожидать, ее прочитали люди, которые не могли ее понять, и презрели те, которые поняли бы. Тогда Сервантес придумал пустить в ход под заглавием Buscapiе (так назывались ракеты или шутихи, которые бросались вперед для освещения дороги) анонимный памфлет, в котором, делая вид, что критикует свою книгу, излагал настоящую её цель и даже намекал, что его герои и их поступки, хотя и выдуманные, имеют некоторую связь с современными людьми и событиями. Эта маленькая хитрость вполне удалась. Заинтересованные намеками Buscapiе, люди умные прочитали книгу, и равнодушие публики быстро перешло в ненасытимый интерес к произведению Сервантеса. В одном 1605 г. первая часть Дон-Кихота выдержала в Испании четыре издания и почти одновременно с ними во Франции, Португалии, Италии и Фландрия появились еще другие издания этой книги.
Блестящий успех Дон-Кихота вывел Сервантеса из неизвестности и нужды, но в то же, время нажил ему множество завистников и врагов. Мы говорим здесь не только о тех пустых людях, которых пугает чужое достоинство и возмущает чужая слава: в Дон-Кихоте было столько литературных сатир, столько эпиграмм на авторов и почитателей современных книг и статей, что весь литературный мир не мог не заволноваться. Большие знаменитости во обыкновению приняли не сердясь направленные против них удары, и Лопе де-Вега, задетый, быть может, более всех других, не обнаружил ни малейшей вражды против нового писателя, который осмелился примешать ложку дегтя в бочку меда, называемую восхвалениями со всех сторон сыпавшимися на него. Его слава и богатство позволяли ему быть великодушным. Он был даже настолько любезен что признал в Сервантесе писателя не без приятности и не без слога. Но не то было с писателями второстепенными, которые должны были оберегать свой тощий запас славы и доходов: все они словно сорвались против несчастного Сервантеса, образовав хор открытых преследований и тайной ругани. Один с высоты своей педантической эрудиции называл его любительским умом, без культуры и образования, другой обзывал его кихотистом, надеясь оскорбить его этим; этот поносил его в маленьких памфлетах, современных газетах; тот посвящал ему злой сонет, издание которого Сервантес из мести брал на себя. Между более или менее значительными людьми, особенно усердно воевавшими с ним, нужно отметить поэта дон-Луиса де-Гонгора, основателя секты cultos, столь же завистливого по характеру, сколько дерзкого по складу ума; затем доктора Кристоваля Суарец де-Фигероа, тоже насмешливого и завистливого писателя, и наконец безразсудного Эстебана Вильегас, назвавшего Утехой свои ученические стихотворения и скромно изобразившего себя на заглавном листе в виде восходящего солнца, затмевающего звезды. прибавив к этой, быть может не совсем ясной, эмблеме девиз, рассеявший всякие сомнения: Sicut sol matutinus me survente, quid istae? Сервантсс, не злобивый и не тщеславный, вероятно, смеялся над этими нападками самолюбий, уязвленных его восходящей славой; но его любящее сердце больно было поражено отвращением от него нескольких друзей, принадлежавших к категории людей, которые любят лишь до тех пор, пока друг не превзойдет их достоинствами, и никогда не прощают своим друзьям возвышения над ними. К сожалению, в их числе был и Висенте Эспинель, романист, поэт и музыкант, написавший Marcos de Obregon, изобретший стих, называвшийся эспинелем, прежде чем его назвали децимой, и прибавивший к гитаре пятую струну. Впрочем, Сервантеса можно было бы назвать избранником Божьим, если б он не испытал этих неприятностей, примешивающих свою горечь в сладостям всякого успеха.
Издание Дон-Кихота совпало с рождением Филиппа IV, явившегося на свет в Вальядолиде 8-го апреля 1605 г. Годом раньше послан был в Англию кастильский коннетабль Дон-Хуан Фернанцец де-Веласко для переговоров о мире. Иаков I в ответ на эту любезность послал адмирала Чарльза Говарда, графа Гонтингэмского, представить договор о мире на утверждение короля Исванского и поздравить его с рождением сына, Говард, севший на корабль в Корунье с шестью стами англичанами, подъехал в Вальядолиде 26-го мая 1605 г. Он был принят по всем великолепием, какое только мог проявить испанский двор. Среди религиозных торжеств, боев быков, маскарадных балов, военных парадов, турниров, в которых принимал участие сам король, и всех празднеств, устроенных в честь адмирала, кастильский коннетабль дал ради него обед, за которым подано было до тысячи двухсот мясных и рыбных блюд, не считая дессерта и некоторых оставшихся не поданными кушаний. Герцог Лермский заказал Доклад об этих церемониях, напечатанный в том же году в Вальядолиде. Есть предположение, что автором этого доклада был Сервантес; по крайней мере, так можно заключить по сонету-эпиграмме Гонгоры, очевидца этих событий[5 - Вот содержание сонета Гонгоры:«Королева родила; приехал лютеранин с шестью стами еретиков и столькими же ересями; мы истратили в две недели миллион за драгоценности, обеды и вина для него.Мы делали парады или безразсудства, давали празднества, которые были стыдом, в честь английского посла и шпионов того, кто поклялся в мире Кальвином.Мы окрестили ребенка государя, который родился, чтобы быть испанскими государем, и устроили sarao чародейств.Мы остались бедными, лютер разбогател, и обо всех этих прекрасных подвижниках дано было написать Дон-Кихоту, Санчо и его ослу.»].
Благодаря этим празднествам, в семье Сервантеса случилось роковое событие, приведшее его в третий раз в тюрьму. Один рыцарь ордена Святого Иакова, по имени Дон-Гаспар де Эспелета, собиравшийся ночью 27-го июня 1605 г. перейти через деревянный мост на реке Эсгеве, был остановлен каким-то незнакомцем. Началась ссора, и когда оба противника обнажили шпаги, Дон-Гаспар получил несколько ран. Призывая помощь, он бросился, весь в крови, в один из ближайших домов. В одной из двух квартир первого этажа этого дома жила донья Луиза де Монтоиа, вдова летописца Эстебана де Гарибаи, с двумя сыновьями, а в другой Сервантес с семьей. На крики раненого Сервантес выбежал с одним из сыновей своей соседки. Они нашли Дон-Гаспара распростертым на под езде, со шпагой в одной руке и щитом в другой, и снесли его на квартиру ко вдове Гарибаи, где он на другой день и умер. Сей час же начато было алькадом de casa y corte Кристобалем де Вильяроэль следствие. Сняты были показания с Сервантеса, с его жены доньи Каталины де Паласиос Саласар; с его дочери доньи Изабеллы де Сааведра, двадцатилетней девушки; с его сестры доньи Андреа де Сервантес, вдовы с двадцативосьмилетней дочерью, но имени Констанца де Овандо; с одной монахини доньи Магдалены де Сотомаиор, выдававшей себя также за сестру Сервантеса; с его служанки Марии де Севальос, и, наконец, с двух друзей его, находившихся тогда у него в доме, де Сигалеса и португальца по имени Симон Мендес. Предположив наудачу, что Дон-Гаспар де Эспелета был убит из-за любовной интриги с дочерью или племянницей Сервантеса, судья приказал арестовать обеих девушек и также самого Сервантеса, его сестру и вдову Овандо. Только через восемь или десять дней, после опроса свидетелей и представления залога, обвиненные были выпущены на свободу. Из показаний, вызванных этим неприятным событием, видно, что Сервантес в это время занимался, чтобы прокормить этих пятерых женщин, которых был единственной поддержкой, еще и исполнением разных поручений, соединяя с литературой это глупое, но более доходное дело.
Надо думать, что Сервантес последовал за двором в Мадрид в 1606 г. и поселился в столице, где был ближе и к своим родным, жившим в Алькале, и к родным своей жены, жившим в Эскивиасе; кроме того, ему здесь удобнее было заниматься и литературой, и комиссионерством. Полагают, что он в июне 1609 г. жил на улице Магдалена, несколько позже за коллегией Лоретской Богоматери, в июне 1610 г. – на улице del Leon, № 9; в 1614 г. – на улице Las Huertas; затем на улице Герцога Альбы, на углу Сан-Исидора, откуда его выселили; наконец, в 1616 г. на улице del Leon, № 20, на углу улицы Francos, где он и умер.
Возвратясь в Мадрид, уже близкий к старости, без состояния и обремененный многочисленной семьей, встречая одинаковую неблагодарность к своим талантам и своим заслугам, в такое время когда посвящениями можно было заслужить пенсию, книги же не приносили ничего, брошенный друзьями и терзаемый соперниками, доведенный долгим опытом до утраты иллюзий, называемой испанцами desengano, – Сервантес окончательно уединился. Он жил, как философ, без ропота, без жалоб, и не в той золотой середине, которой Гораций желает служителям муз, а в нужде и бедности. Однако, и у него нашлись два покровителя: Дон-Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, архиепископ толедский, и один просвещенный вельможа, Дон-Педро Ферландец де Кастро, граф Лемосский, автор комедии, называемой la Casa confusa, который в 1610 г. увез в свое Неаполитанское вице-королевство маленький литературный двор и со своей высоты я из своего далека не забывал старого изувеченного солдата, не могшего ехать с ним.
Кажется совершенно невероятным, хотя и служащим столько же к чести независимой души Сервантеса, сколько к стыду раздавателей королевских милостей, что такой выдающийся человек был предан забвению, тогда как толпа темных личностей получала пенсии, выклянченные ими в стихах и прозе. Говорят, что Филипп III раз заметил с балкона, как один студент расхаживал с книгой по берегу Мансанареса. Этот человек в черном плаще ежеминутно останавливался, жестикулировал, ударял себя кулаком в лоб и громко хохотал. Филипп издали следил за его пантомимой я вскричал: «Или этот студент сумасшедший, или он читает Дон-Кихота!» Придворные тотчас же подбежали проверить, угадал ли истину проницательный король, и, вернувшись, сообщили Филиппу, что он действительно читает Дон-Кихота; но в то же время никто из них и не подумал напомнить королю, в каком забвении живет автор такой популярной и любимой книги.
Другой анекдот, относящийся к более поздней эпохе, но тоже уместный здесь, еще ярче покажет, каким уважением пользовался Сервантес и до какой нужды он в то же время дошел. Предоставляем говорить тому, кто записал этот анекдот, – лиценциату Франциско Маркез де Торрес, капеллану архиепископа Толедского, которому поручена была рецензия второй части Дон-Кихота, «С достоверностью свидетельствую», говорит он, что когда 25-го февраля 1615 г. светлейший синьор кардинал-архиепископ, мой господин, навестил французского посла… несколько французских дворян, сопровождавших посла, столь же учтивые, сколько и просвещенные и интересующиеся литературой, подошли ко мне и к другим капелланам кардинала, моего господина, чтоб узнать, какие книги у нас были в то время в моде. Я наудачу назвал эту (Дон-Кихота), которую теперь разбираю. Едва они услыхали имя Мигеля Сервантеса, как стали между собой шептаться и превозносить то уважение, с которым относятся во Франции и смежных с нею государствах к разным его сочинениям, как Галатея, которую один из них звал наизусть, первая часть Дон-Кихота и Новеллы. Они так рассыпались в похвалах, что я вызвался повести их к автору этих книг, и они с величайшей радостью приняли мое предложение. Они стали подробно расспрашивать меня о его возрасте, профессии, звания и состоянии. Я должен был ответить, что он стар, солдат, дворянин и беден. На это один из них ответил: «Как! Испания не обогатила такого человека! Его не содержит казна?» Тогда один из этих господ очень тонко заметил: «Если его заставляет писать нужда, так дай Бог, чтоб он никогда не был богат, для того чтоб он, оставаясь беден, обогащал весь мир!»
Первое издание Дон-Кихота в 1605 г. вышло вдали от автора и напечатано было с его рукописи, очень неразборчивой. Поэтому в нем было множество ошибок. Первою заботой Сервантеса по переселении в Мадрид было напечатать свою книгу вторым изданием, которое он сам прокорректировал. Это издание, вышедшее в 1608 г., было лучше первого и послужило образцом для всех дальнейших.
Четыре года спустя, в 1612 г., Сервантес издал свои двенадцать Новелл, которые вместе с двумя, введенными в Дон-Кихота, и одной, найденной впоследствии, составляют все пятнадцать Новелл, которые он написал в разное время в Севилье: о них уже говорено было ранее, при обозрении этого периода его жизни. Книга, которая в выданной привилегии названа «весьма нравственным времяпрепровождением, где обнаруживается высота и богатство кастильского наречия», была принята в Испании и за границей так-же благосклонно, как Дон-Кихот. Лопе де Вега двояким образом подражал ему: во-первых, он тоже сочинил несколько новелл, которые оказались гораздо ниже Сервантесовых, во-вторых, воспользовался несколькими сюжетами этих новелл для сцены. И другие знаменитые драматические писатели черпали из того же источника, и между ними монах Фраи Габриэль Телдез, известный под именем Тирсо де Молина, называвший Сервантеса «испанским Боккачио», а также Дон-Августин Морето, Дон-Диего де Фигероа и Дон-Антонио Солис.
После Новелл Сервантес издал в 1614 г. свою поэму, озаглавленную Путешествие на Парнас (Viage al Parnaso), и маленький диалог в прозе, который он присоединил к ней впоследствии под заглавием Adjunta al Parnaso. В поэме, написанной в подражание Чезаре Капорали, он хвалил современных писателей и беспощадно разил тех адептов новой школы, которые своими смешными, безумными нововведениями губили прекрасный язык золотого века. В диалоге он жаловался на актеров, которые не хотели играть ни прежних его пьес, ни новых. Чтоб извлечь хоть какую-нибудь выгоду он своих драматических сочинений, Сервантес решился напечатать их. Он обратился к Вильяроэлю, одному из популярнейших в Мадриде книгопродавцев, но тот бесцеремонно ответил: «Один известный писатель говорил мне, что от вашей прозы можно многого ожидать, а от стихов решительно ничего». Приговор был справедлив, хотя несколько и жесток и очень обилен для Сервантеса, который «писал стихи вопреки Минерве» и, как ребенок, дорожил своей славой поэта. Вильяроэль все-таки напечатал в сентябре 1615 г. восемь комедий и столько же интермедий, с посвящением графу Лемосу и прологом, не только умным, но и очень интересным для истории испанской сцены. Лопе де Вега еще царил в то время, и соперник, долженствовавший свергнуть его, Кальдерон уже начинал свою каррьеру. Публика равнодушно приняла избранные пьесы Сервантеса, а актеры не удостоили поставить ни одной из них. И публика, и актеры были, может быть, неблагодарны, но не неправы. Можно ли осуждать их за то, что они пренебрегли комедиями, о которых Блас де Насарре ничего лучшего не нашел сказать, перепечатывая их сто лет спустя, как то, что Сервантес с умыслом сделал их дурными (artificiosamente malas), чтобы насмеяться над бессмысленными пьесами, которые тогда были в моде.
В том же 1615 г. напечатано было другое маленькое сочинение Сервантеса, имеющее связь с интересным обстоятельством. Испания еще сохраняла тогда обычай поэтических турниров (Justas poetieas); которые были при Иоанне II так не в моде, как военные турниры, и сохранились, например, на юге Франции под названием Jeux floraux. Когда Павел V канонизировал в 1614 г. знаменитую святую Терезу, то торжество этой героини монастырей дано было в качестве сюжета состязания, на котором одним из судей был Лопе де Вега. Нужно было воспеть экстазы святой в особой форме оды, называемой cancion castellana, и тем же размером, Айсим написана первая эклога Гарсилазо де ла Вега, El dulce lamentar de los pastores. Все сколько-нибудь известные писатели приняли участие в состязании, и Сервантес, сделавшийся в шестьдесят семь лет лирическим поэтом, также послал свою оду, которая хотя и не получила приза, но была напечатана в числе наилучших в Отчете о празднествах. происходивших во всей Испании в честь знаменитой девы.
В том же 1615 г. появилась еще и вторая часть Дон-Кихота.
Она уже приближалась к концу, и Сервантес, возвестивший о ней в прологе к своим Новеллам, очень усидчиво работал над ней, когда в половине 1614 г. появилось в Таррогоне продолжение первой части, написанное лиценциатом Алонсо Фернандесом, родом из Тордезильяса. Имя было вымышленное; под ним скрылся наглый литературный вор, который при жизни настоящего автора украл у него заглавие и сюжет его книги. Его настоящего имени так и не удалось открыть, но судя по изысканиям Майянса, П. Мурильо и Пеллисера, полагают, что это был аррагонский монах ордена проповедников и один из авторов комедий, над которыми Сервантес так мило смеялся в первой части Дон-Кихота, подобно грабителям на большой дороге, которые оскорбляют тех, кого обирают, мнимый Авельянеда начал свою книгу с того, что излил всю желчь злого и завистливого сердца, осыпая Сервантеса грубейшей бранью. Он называл его безруким, старым, нелюдимым, завистливым клеветником, ставил ему в упрек его несчастья, заточение, бедности обвинял в отсутствии таланта и ума и хвастал, что лишит его сбыта второй части его книги. Когда книга эта попала в руки Сервантеса, когда он увидал столько оскорблений в начале бесцветного, педантичного и гнусного произведения, полного наглости, то подготовил достойную его месть: он так поторопился докончить свою книгу, что на последних главах даже отразилась эта поспешность. Но ему хотелось, чтоб ничто не было упущено для возможности сравнения обеих книг. Посвящая в начале 1615 г. свои комедии графу Лемосскому, он писал: «Дон-Кихот надел шпоры, чтобы отправиться облобызать ноги вашего сиятельства. Я полагаю, что он приедет немного угрюмый, потому что в Таррагоне его сбили с пути и дурно обошлись с ним; во всяком случае он дознался, что не он фигурирует в этой истории, а другой, подставной, захотевший сделаться им, но не сумевший этого добиться». Мало того, Сервантес, не удостоивая называть обокравшего его литературного вора настоящим его именем, ответил в самом тексте Дон-Кихота (предисловие и глава LIX) на его грубые оскорбления тончайшими, деликатнейшими и остроумнейшими насмешками, обнаружив свое превосходство как в благородстве и достоинстве своего поведения, так и в подавляющем совершенстве своего сочинения. Но чтобы отнять у будущих Адельянед всякую охоту к подобным профанациям, он на этот раз довел своего героя до смертного одра, принял его завещание, исповедь и последний вздох, похоронил его, написал эпитафию и затем уже мог с справедливой гордостью воскликнуть: «Тут Сид Гамед Бен-Энгели оставил свое перо, но повесил его так высоко, что теперь уже никто не осмелится снять его».
Обратимся теперь к самому Дон-Кихоту и рассмотрим эту бессмертную книгу, капитальнейшее произведение её автора и всей Испании, независимо от сопровождавших ее обстоятельств.
Монтескьё говорит в Lettres Persanes, № 78: «У испанцев есть только одна хорошая книга – та, которая показала, как смешны все остальныя». Это, конечно, только шутка, столь же преувеличенная в смысле восхваления Дон-Кихота, сколько в отношении унижения других книг. Еслибы все достоинство Дон-Кихота заключалось в пародировании рыцарских книг, то он бы немного пережил их: победители похоронили бы вслед за побежденными. Разве мы теперь имеем в нем критика Амадисов, Эспландианов, Платиров и Кириэ-Элейсонов? Конечно, к прочим заслугам Сервантеса следует причислить и то, что он до самого основания уничтожил эту сумасбродную и опасную литературу. В этом смысле его книга – нравственное произведение, соединяющее в себе в высокой степени оба качества настоящей комедии: исправлять и забавлять. Тем не менее, Дон-Кихот есть не только сатира на старые романы, и мы попытаемся указать, какие видоизменения претерпел этот первоначальный сюжет в голове его автора.
Надо полагать, что, начиная свою книгу, Сервантес ничего не имел в виду, кроме нападок и насмешек на всю рыцарскую литературу: он сам говорит этом своем предисловии. Достаточно, впрочем, видеть странные упущения, противоречия и опрометчивости, которыми полна первая часть Дон-Кихота, чтобы понять из этого недостатка (если это только может назваться недостатком), что, он начал свою книгу под влиянием минуты, в раздражении, без определенного плана, и писал, как придется, чувствуя себя романистом от природы, словом, не приписывая никакого определенного назначения своему произведению, величия которого он сам не понимал. Сначала Дон-Кихот только сумасшедший, окончательно сумасшедший, которого следовало бы связать или, скорее, бить, так как этот бедный дворянин получает столько ударов от животных и людей, что даже для спины Россинанта их было бы чересчур много. Санчо Панса также не более, как толстяк крестьянин, из корыстолюбия и по глупости потакающий чудачествам своего. господина. Но это длится недолго: Сервантес не мог все время заниматься безумием и глупостью. Он привязывается к своим героям, которых называет «детьми своего ума»; приписывает им свои суждения, свой ум, деля все поровну между обоими. Господину он дает обширный, возвышенный ум, порождаемый в здоровой голове наукой и размышлением; слуге же он дает ограниченный, но верный инстинкт, врожденный здравый смысл и природную искренность, когда корысть не вмешивается в дело, словом, все, что можно получить от рождения и что развивается при помощи одного только опыта. У Дон-Кихота оказывается больным уже один только уголок мозга: у него мономания хорошего человека, которого возмущает несправедливость и увлекает добродетель. Он еще мечтает о том, чтоб сделаться утешителем скорбящих, покровителем слабых и грозой для надменных и дурных; но обо всем остальном он рассуждает чудесно, говорит красноречиво и скорее создан, как выражается Санчо, быт проповедником, чем странствующим рыцарем. С своей стороны, и Санчо уже не тот: он умен, хотя и груб, и хитер, хотя простоват. Как у Дон-Кихота только одна капелька безумия, так у него одна капелька веры в своего господина, которая, впрочем, оправдывается сознанием превосходства последнего.
Тут начинается удивительное зрелище: эти два человека, ставшие неразлучными, как душа и тело, выясняются и пополняют один другого, совместно действуя для цели столько же благородной, сколько и безумной; совершая сумасшедшие поступки и говоря мудрые речи: подвергаясь насмешкам и даже жестокостям людей и выясняя пороки и глупости тех, кто их осмеивает и тиранит; возбуждая в читателях сперва смех, потом жалость и наконец живейшее участие; умея почти столько же трогать, сколько веселить; забавляя и поучая и, наконец, составляя своим постоянным контрастом друг с другом и со всем светом непреложный фон для великой и вечно новой драмы.
Особенно во второй части Дон-Кихота ясно проявляется новая мысль автора, созревшего летами и званием света. В ней говорится о странствующем рыцарстве лишь на столько, на сколько это необходимо для продолжения первой части, чтобы их связывал один общий план. Но это уже не простая пародия рыцарских романов: это книга практической философия, собрание правил или, лучше сказать, притч, легкая и справедливая критика всего человечества. Новая личность, делающаяся другом Ламанчского героя, баккалавр Самсон Карраско, разве это не скептическое неверие, ничего не уважающее и надо всем насмехающееся? А вот и другой пример: кто, читая в первый раз эту вторую часть, не думал, что Санчо, сделавшись губернатором острова Баратарии, будет только смешить его? Кто не ожидал, что этот импровизированный властелин наделает на своем судейском кресле более глупостей, чем Дон-Кихот в своем уединении на Сиерра-Морене? И все ошиблись: гений Сервантеса замышлял гораздо больше, чем забаву для читателя, в то же время не забывая и этого. Он хотел доказать, что эта превозносимая наука управления людьми не есть тайна одной семьи или одной касты, что она доступна всем, и что для неё нужны более важные качества, чем знание законов и изучение политики: здравый смысл и доброе желание. Не изменяя своему характеру и не заходя за пределы своего ума, Санчо Панса судит и правит как Соломон.
Вторая часть Дон-Кихота вышла только через десять лет после первой, и Сервантес, печатая последнюю, совсем и не думал писать продолжения: тогда было в моде не кончать беллетристических произведений. Книги заканчивались, как поэма Ариоста, среди запутаннейших приключений и на самом интересном месте. Лазариль де Тормес и Хромой Дьявол не имеют развязки; Галатея также. Во всяком случае, не продолжение Авельянеды побудило Сервантеса написать свою вторую часть, так как она была уже почти кончена, когда появилась книга Авельянеды. Если бы Дон-Кихот был только литературной сатирой, то остался бы неконченным, и Сервантес, очевидно, написал вторую часть, чтобы, как уже сказано, изменить назначение своего произведения. Поэтому-то обе части этого произведения представляют единственный в своем роде пример в литературных летописях: вторая часть, написанная после перерыва, не только равна, но даже выше первой. Это потому, что исполнение её ничуть не ниже, а идея-мать более возвышенна и плодотворна; потому, что книга касается таким образом всех стран, всех времен; потому, что говорит с человечеством на универсальном языке; потому, что быть может более всех других книг в высшей степени возвышает редкое и драгоценнейшее из качеств человеческого ума – здравый смысл, достояние столь немногих…
Все это мы говорили лишь для того, чтобы дать в некотором роде историческое объяснение Дон-Кихота, потому что восхвалять его нет никакой надобности: кто не читал его? кто не знает его наизусть? кто не согласен с величайшим его поклонником Вальтер Скоттом, что это есть образцовое произведение ума человеческого? Есть ли на свете более популярная сказка, история, более нравящаяся всем временам, всякому возрасту, всякому вкусу, характеру и при всяких условиях? Не стоит ли пред глазами, как живой, этот Дон-Кихот, длинный, тощий и серьезный; этот Санчо, толстый, короткий и забавный; и экономка первого, и жена второго, и цирюльник дядя Николай, и служанка Мариторна, и баккалавр Карраско, и все герои этой истории, не исключая и Россинанта и Серого, другой пары неразлучных друзей? Можно ли забыть, как эта книга была задумана и как выполнена? Можно ли не удивляться полнейшему единству плана и необычайному разнообразию подробностей, этому плодовитому и богатому воображению, удовлетворяющему любознательности самого ненасытного читателя; замечательному искусству, с которым связываются и сцепляются эпизоды, одушевленные разнообразным, все возроставшим интересом и оставляемые, однако, без сожаления в виду удовольствия очутиться лицом к лицу с обоими героями; их сходству и в то же время различию; сентенциям господина, остротам слуги; нисколько не тяжелой серьезности одного и нисколько не пустой болтовне другого; интимной и естественной связи между грубым и возвышенным, между смехом и сочувствием, шуткой и нравоучением? Можно ли не почувствовать прелестей и красот этого великолепного, гармоничного, легкого языка, принимающего все оттенки и тоны; этого слога, в котором соединились все слоги, начиная с простейшего комизма и кончая величественнейшим красноречием, и который дал повод сказать о книге, что она «написана божественно на божественном языке»?
Но это последнее удовольствие доступно лишь тем, кто читает книгу в оригинале, а таких мало за пределами Пиренеев. Прошло то время, когда по-испански говорили и в Париже и в Брюсселе, и в Мюнхене, и в Вене, и в Милане и в Неаполе; когда это был придворный, дипломатический и аристократический язык: теперь французский язык играет ту же роль. Но за то всякий может прочитать Дон-Кихота на своем родном языке: ни одна книга столько не читается и не переводится. Ее переводят и в России, и в Дании, и в Голландии, и в Греции, в Германии ее перевели Тик и Зольтау: в Англии существует десять переводов: Шельтона, Гейтона, Варда, Джарвиса, Смоллетта, Озелля, Мотте, Вильмонта, Дерфени Филипса; кроме того, на эту книгу написал комментарии Джон Бауль; в Италии было, наверное, столько же переводчиков, начиная с Франчиозини до анонимного переводчика 1815 г… для которого гравюры составил Новелли. Во Франции их еще больше, если считать все переводы, начиная с кратких переделок Цезаря Удена и Россе и кончая переводами, появившимися в нынешнем столетии. Самый лучший или, по крайней мере, самый популярный перевод сделан в половине прошедшего столетия Филло де Сен-Мартеном. В предисловии, написанном к этой книге в 1819 г., говорится, что один этот перевод выдержал во Франции, уже пятьдесят одно издание. Этот беспримерный успех доказывает громадные достоинства оригинала и вечно новый, все возростающий интерес, возбуждаемый им из поколения в поколение. Каким могучим жизненным началом должен быть одарен Дон-Кихот или, лучше сказать, какая на нем должна быть печать бессмертия, если он так славно противостоял всем искажениям переводчиков. Книга эта была написана слишком умно и искусно, чтобы быть понятой всеми: автору нужно было сбить с толку всех, даже ищеек инквизиции. Поэтому в книге столько ловких выражений, столько тонких намеков, легких насмешек и искусных уверток, к которым Сервантес прибегал, чтобы скрыт от глаз инквизиции чересчур смелые, насмешливые и глубокие мысли, которых нельзя было высказывать прямо. Уже двести лет назад Дон-Кихота приходилось читать, как эпитафию лиценциата Педро Гарсиаса, и действовать, как студент в прологе к Жиль-Блаза, т. е. поднять камень, чтоб узнать, какая душа в нем зарыта. Теперь же в особенности трудно понять смысл всего, когда намеки на современность стали непонятны: остались только слова, а мысль ускользает, и даже сами испанцы не всю книгу понимают, нужен ключ, а ключ можно найти только в комментариях, недавно составленных Боулем Целлицером, испанской академией, Фернандецом Наварреттом, Лос Риосом, Арриетой и Клемансеном. Ни один переводчик еще не пользовался их указаниями для выяснения Сервантеса себе и другим.
Работая в шестьдесят лет слишком со всем пылом и рвением молодого человека, Сервантес писал зараз несколько больших сочинений. В благородном и полном достоинства посвящении, обращенном им в октябре 1615 г., при второй части Дон-Кихота к покровителю своему, графу Лемосскому, он обещает скоро прислать ему другой свой роман, Персилес и Сигизмуда (Los Trabajos de Persiles y Sigismunda). При других случаях он обещал в то же время вторую часть Галатеи и два новых произведения, не известно какого рода, Бернардо и las Semmas del Jardin. От этих трех последних не осталось и отрывка, что же касается Персилеса, то он был напечатан вдовой Сервантеса в 1617 г. Странное дело! Сервантес в то самое время, когда убивал рыцарские роман стрелами насмешки, и тем самим пером, которое метало эти смертоносные стрелы, писал почти такой же безразсудный роман, как те, которые помутили рассудок его гидальго. Он в одно и то же время критиковал я восхвалял, подражая тем, которых осуждал, и первый впадая в грех, который проклинал. Еще страннее то, что именно этому произведению он отдавал предпочтение и расточал похвалы, подобно тем отцам, которых слепая любовь заставляет предпочитать болезненный плод их старости здоровым старшим детям. Говоря о Дон-Кихоте со скромностью, почти со смущением, он торжественно возвещает миру свое чудо Персилеса. Роман Персилес и Сигизмунда, который не знаешь с чем сравнить и к какому роду отнести, потому что он соединяет в себе все роды, не принадлежа ни к одному, представляет собою ряд сцепленных, как в интриге Кальдерона, эпизодов, причудливых приключений, неслыханных случайностей, невероятных чудес, ложных характеров и непонятных чувств. Сервантес, такой точный и верный живописец физической и нравственной природы, хорошо сделал, что перенес действие в гиперболические сферы, потому что это мир вымышленный, безо всякого отношения к тому, который был у него перед глазами. При виде этого разврата великого ума, в котором можно найти материал для двадцати драм и ста рассказов, невозможно не удивляться воображению почти семидесятилетнего старика, все такому же богатому и плодовитому, как воображение Ариоста; невозможно не удивляться этому всегда благородному, изящному, смелому перу, прикрывающему нелепости рассказа роскошным убором языка. Персилес изящнее и более обработан, чем Дон-Кихот: некоторые места его представляют образец законченности стиля, и это, быть может, самая классическая из испанских книг. Ее можно сравнить с дворцом, построенным целиком из мрамора и кедра, но без плана, непропорционально, бесформенно и представляющим, собственное говоря, не архитектурное произведение, а кучу драгоценных материалов. Когда видишь сюжет книги и имя автора, предпочтение, отдаваемое им этой книге перед всеми другими своими сочинениями, и выдающиеся достоинства, так щедро рассыпанные им там, то с полным правом можешь сказать, что Персилес одно из величайших заблуждений ума человеческого.
Сервантесу не пришлось наслаждаться ни успехом, которые он себе сулил от этого последнего произведения своего пора, этого Веньямина между детьми его ума, не более прочным и законным успехом своего истинного права на бессмертие. Всегда несчастный, он даже не мог предугадать по похвалам своих современников, какая слава его ждет в потомстве. Когда он печатал в конце 1615 г. вторую часть Дон-Кихота, в шестьдесят восемь лет, он уже страдал неизлечимой болезнью, которая вскоре свела его в могилу. Надеясь при наступлении теплого времени найти некоторое облегчение на деревенском воздухи, он уехал 2-го апреля следующего года в местечко Эскивиас, где жили родные его жены. По через несколько дней болезнь его усилилась. и он был принужден вернуться в Мадрид в сопровождении двух друзей, которые ухаживали за ним дорогой. Во время этой поездки в Эскивиас с ним случилось происшествие, по поводу которого он написал пролог к Персилесу и благодаря которому сохранилось единственное несколько подробное указание на его болезнь.
Три друга мирно ехали по дороге, когда один студент, ехавший сзади их на осле, закричал им, чтоб они остановились, и стал жаловаться, подъехав в ним, что не мог раньше настигнуть их, чтобы насладиться их обществом. Один из жителей Эскивиаса ответил, что в этом виновата лошадь господина Мигеля де Сервантеса, у которой очень большие шаги. При имени Сервантеса, которого он обожал, не зная его, студент соскочил с осла и, схватив его руку, вскричал: Да, да, вот святой одноручка, знаменитый человек, веселый писатель и забавник муз! Сервантес, так неожиданно осыпанный ласками и похвалами, отвечал с обычной своей скромностью и вопросил студента снова сесть на осла, чтоб рядом с ним проехать остальной путь. «Мы несколько умерили шаг», продолжает Сервантесь, «и дорогой заговорили о моей болезни. Добрый студент сразу произнес мне приговор. – Эта болезнь, сказал он, водянка, которой не излечат даже все воды океана, еслибы вы выпили их по капле. Ваша милость, господин Сервантес, должны умеренно пить и хорошо есть, и это поможет вам поправиться безо всяких лекарств. – Это самое говорили мне уже многие, ответил я. Но я не в состоянии удержаться, чтобы не пить вволю, точно я только для этого и родился. Моя жизнь уходить, угасая, и вместе с эфемеридами моего пульса, которые остановять свое течение не позже будущего воскресенья, я прекращу эфемериды и моей жизни. Ваша милость познакомились со мной в тяжелую минуту, потому что у меня уже мало остается времени, чтоб показать мою благодарность за участие, которое вы выказали иве.» При этих словах мы подъехали к толедскому мосту, на который я въехал, а студент отправился по дороге к Сеговии.