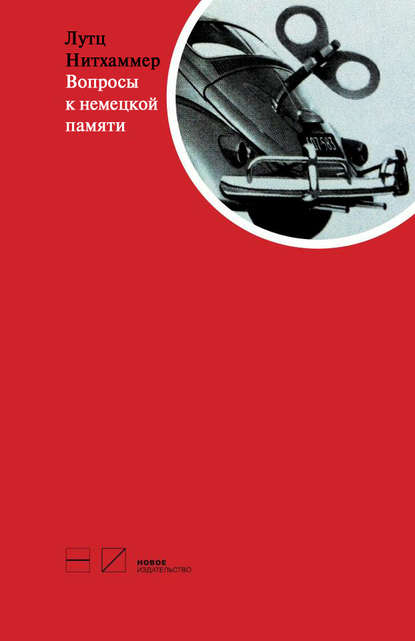По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К числу элементов саморегуляции в сеттинге относится и сама готовность дать интервью-воспоминание. Поначалу у меня были сомнения по поводу того, сумеем ли мы найти достаточное количество «добровольцев», которые согласились бы с нами сотрудничать; этот страх оказался в нашем случае безосновательным: нам очень редко отказывали в интервью те, к кому мы обращались, и был даже целый ряд добровольцев, откликнувшихся на газетные объявления, т. е. проявивших собственную инициативу {29}. И во время разговоров нас часто удивляло, с какой охотой люди вспоминали и рассказывали. Это, должно быть, объяснялось и тем, что опрашивали мы рабочих или тех, кто вышел из их среды, и тем, что в Рурской области приняты открытые формы общения. Если же проанализировать опыт этого и других проектов в том, что касается трудностей с нахождением респондентов и получением от них достаточно обстоятельных сведений, то представляется, что эти трудности связаны с двумя группами факторов: во-первых, таким затрудняющим фактором является принадлежность человека к группе с жестким социальным контролем, который стирает индивидуальное в памяти, подвергает высказывания цензуре или заставляет делать их так, чтобы они не вызывали доверия (например, сохранившееся деревенское сообщество). Во-вторых, это личная неуверенность человека в том, что ему в разговоре с незнакомцем удастся совладать с собственными воспоминаниями {30}.
Все эти ограничения, вытекающие из характера сеттинга интервью-воспоминания, приходится принимать как границы возможностей всей устной истории. Конечно, того или иного потенциального респондента, который сначала отмахнулся от просьбы об интервью, можно убедить с помощью разумного и правдоподобного разъяснения сути проекта, так что он все-таки согласится сотрудничать. Но в остальном рекомендуется избегать всяких попыток раздвинуть эти границы с помощью каких бы то ни было уловок, например, давить на человека с целью принудить его к интервью или во время разговора хитростью вытягивать из него какие-то воспоминания сверх тех, которые он готов сознательно поведать в условиях свободного диалога. Это проблемы этики исследования: народный опыт в истории не следует проявлять в большей степени, чем этого хотят те, кому он принадлежит. Но кроме того, это же и источник ошибок, и ложная экономия в исследовательской работе: человек, который ощущает, что его против воли впутали в ситуацию припоминания {31} (если только дело не происходит на допросе в полиции), имеет массу возможностей выпутаться из этой ситуации: он может вышвырнуть интервьюера за дверь, может спустить интервью на тормозах, может наврать с три короба, а может со всей вежливостью сознательно накормить интервьюера – так, что тот этого зачастую и заметить не сможет, – камуфлирующими воспоминаниями. Интервью-воспоминание – не допрос, а добровольное соглашение, и хрупкие ищущие движения памяти начнутся только тогда, когда в отношениях между собеседниками останется не больше недоверия, чем приличествует подобной встрече.
Если сеттинг со всеми его ограничениями принят, то интервью может дать массу сведений и рассказов о вещах, информация о которых больше нигде не сохранилась. С помощью специального дифференцированного комплекса вопросов эти данные можно проверить на достоверность, а потом, привлекая сопоставимые сообщения, «насытить» их. Особенно щедрыми на подобную информацию оказываются в устной истории два уровня памяти: активный и латентный. На уровне активной долговременной памяти, где лежит то, что постоянно нужно и вспоминается без особых усилий, у людей в нашем обществе хранятся три запаса воспоминаний, которые с большой регулярностью проявляются в ходе интервью-воспоминаний.
Представление человека о своей жизни в целом {32}, состоящее, во-первых, из актуального толкования (принцип конструирования биографии) и, во-вторых, из переработанной реальной информации по нескольким избранным внешним этапам жизни: эта информация никогда не бывает исчерпывающей, но редко бывает ложной. Этот набор можно путем расспросов обычно без труда расширить до более сложного и многостороннего рассказа о внешних условиях жизни (включая последовательность семейных констелляций, профессиональных функций и условий труда, имущественных и социальных статусов и т. д.). Есть обойма стандартных историй, которые рассказывают, как говорится, по любому случаю, и они уже хорошо зарекомендовали себя как коммуникативные блоки. В них могут описываться оригинальные или не оригинальные события и переживания, они могут быть обкатаны вкусами меняющейся аудитории, как галька морской водой. Поэтому их характер слишком произволен и случаен, чтобы их использовать для исторической реконструкции, но они могут содержать в себе интересные свидетельства переработки опыта и установок респондента, а главное – стиля его коммуникации с окружением.
Далее есть латентный уровень памяти, на который в ходе интервью-воспоминания можно попасть через реконструкции и ассоциации. Тут все зависит от специфического взаимодействия между собеседниками, так что ни ход, ни результативность разговора предугадать нельзя. На этом уровне обнаруживаются воспоминания, которые когда-то по некоей (зачастую с трудом поддающейся выяснению) причине были важны; они касаются либо рутинных вещей (т. е. многократно повторяемых в повседневной жизни действий или впечатлений), либо ситуаций приобретения нового опыта (т. е. встреч с чем-то прежде неведомым).
Рутинные действия, ощущения и состояния, которые когда-то были настолько важны, что сохранились в памяти, вспоминаются, судя по всему, образно. Поэтому респонденты зачастую могут с большой подробностью описать их заинтересованному слушателю, который своим вопросом вырвет эти вещи из незначимости будничного и, возможно, даже поможет респонденту их реконструировать, приводя свидетельства из других источников. Эти описания не обладают сами по себе нарративной структурой и не претендуют на статус смыслового высказывания, хотя могут спровоцировать по ассоциации дальнейшие рассказы.
Ассоциативные рассказы, которые (подобно названным выше «стандартным историям») имеют форму сцен или эпизодов, знакомят слушателя с ситуациями, в которых рассказчик столкнулся с чем-то новым, для переработки чего еще не существовало категориального аппарата, и что поэтому отпечаталось в памяти во всей событийной пластичности. Поэтому в биографических интервью, когда речь идет о юности, а затем снова, когда речь идет о чрезвычайных ситуациях (экзистенциальных и общественных кризисах, войне и т. п.), историй рассказывается множество, в то время как фазы нормальной жизни, во-первых, вообще описываются реже и меньше, обычно только после наводящих вопросов, а во-вторых, скорее характеризуются, оцениваются, нежели пересказываются. Набор стандартных историй из фонда информации, пригодной для ассоциирования, ничего не говорит об их исторической оригинальности, наоборот, в той мере, в какой они вообще не выдуманы, а прожиты рассказчиком, они активны потому, что их смысл согласуется с тем, что сегодня думает рассказчик, и/или потому, что то смешное (либо драматичное), что в них заключено, хорошо себя зарекомендовало в процессе коммуникации, а может быть, только в ходе этого процесса и сложилось по-настоящему.
Структура текста и индивидуальность рассказа
Результат интервью-воспоминания – звуковой протокол, т. е. ряд магнитофонных кассет, на которых записаны те звуки, которые во время интервью достигали микрофона. Я так обстоятельно это проговариваю, чтобы подчеркнуть, что такое интервью не только зависит от производственных условий, заданных определенной социальной ситуацией, но и в техническом плане фиксируется лишь в очень урезанной и отчужденной форме. Звуковой протокол ничего не говорит о том, что предшествовало беседе, что говорилось во время смены кассет и после интервью, что сообщалось или комментировалось взглядами и жестами (магнитофонная запись вообще не фиксирует зрительной информации, а та может быть очень важна для взаимного восприятия собеседников) {33}. То, что произносилось в сторону, зачастую столь же трудно разобрать, как и те пассажи, в которых накладываются друг на друга несколько голосов {34}, а какие-то слова, которые интервьюер прекрасно помнит (потому что он внимательно слушал респондента и смотрел ему в лицо, считывая слова по губам), на пленке могут оказаться полностью заглушены звонком телефона, лаем собаки, шумом проезжающего трамвая или звоном чашек.
Кроме того, услышав (особенно впервые) магнитофонную запись собственной речи, большинство людей удивляются или раздражаются, потому что не узнают самих себя. Дело не только в плохом качестве звукозаписи, и не только в том, что человеческий голос по-разному слышится изнутри и снаружи: дело еще и в том, что когда рассказ сводится к своей акустической составляющей, то его языковая форма (интонация, диалектные особенности, артикуляция, грамматика) приобретают такую значимость, которой говорящий не предполагал, пока шла живая беседа, и это вызывает потом эффект отчуждения. На следующей фазе обработки, когда интервью транскрибируется и превращается в письменный текст, происходит дальнейшая редукция и дальнейшее отчуждение, и тогда то, что в виде звучащей речи было понятным, начинает выглядеть так, что может вызвать еще гораздо более сильное раздражение {35}: человек видит свое устное высказывание облеченным в такую форму – форму письменного текста, – в которой он сам высказывался бы иначе.
Этот диссонанс можно при транскрибировании несколько смягчить либо за счет точной письменной передачи звуков устной речи, либо за счет более или менее полного «перевода» сказанного на литературный язык. В первом случае возникает искусственный текст, который сильно отличается от обычного письменного текста, но, как правило, читать его, а тем более с интересом, смогут только лингвисты: для фиксирования исторической информации такая форма малопригодна {36}. Во втором случае возникает другой искусственный текст, который как источник оказывается обеднен, т. е. лишен многих пригодных для интерпретации аспектов и искажен толкованиями переводчика {37}. А если подобные «переведенные» тексты потом еще и публикуются в виде разрозненных фрагментов, где исключены слова интервьюера (т. е. последние указания на то, как данный текст возник), то создается иллюзия оригинального народного текста. Здесь отчуждение конечной формы от изначального интервью достигает своей вершины. Эта частая ошибка особенно легко совершается потому, что в устной истории ставится задача приблизиться к субъектам и оригинальности их опыта (хотя возможности такого приближения ограничены условиями возникновения и передачи информации в контексте интервью-воспоминания), а во-вторых, потому, что акустическое качество и объем сообщаемой в интервью информации служат препятствиями на пути ее анализа и публикации, и, в-третьих, потому, что исследователю трудно иметь дело со сложной структурой текста, который, как кажется, составлен из множества отдельных фрагментов.
И все-таки именно от этого трудно структурированного текста, в котором рассказ сведен сначала к акустической составляющей, а потом и к ее письменной транскрипции, должна отправляться историческая интерпретация, потому что этим сохраняется в пригодном для всех типов анализа виде наиболее сложная из поддающихся традированию форм интервью. Назовем вкратце основные элементы этой структуры текста.
В первую очередь речь идет об отражении акта социального взаимодействия {38}, в котором инициатива исходит от интервьюера, а у интервьюируемого могут быть одновременно несколько адресатов: интервьюер, с которым он имеет дело; через него – общественность или наука как социальный институт; отсутствующие коммуникативные партнеры респондента, когда он воспроизводит либо диалоги с ними, либо уже отрепетированные на них истории. При групповых интервью все это изначально зависит от отношений между интервьюируемыми. В индивидуальных бывает так, что респондент на какое-то время уходит в свои воспоминания и говорит словно бы с самим собой или с каким-то прежним собеседником.
Во-вторых, мы имеем дело с одной или несколькими версиями биографии респондента. Как правило, таких версий две: сначала краткое изложение, какое обычно рассказывают посторонним людям (например, в резюме или при приеме на работу и т. д.), причем отбор данных, которые заслуживают упоминания, позволяет узнать кое-что о культурных ожиданиях и – при сравнении нескольких биографий, относящихся к одной и той же культуре, – о личности респондента. Потом рассказывается расширенная история жизни, в которой сводятся вместе все биографические сведения, содержащиеся в интервью. Вторая версия, которая содержит элементы реконструкции, позволяет более отчетливо разглядеть контуры первой, но тоже остается в рамках того, что относится к биографическому сознанию респондента и, как правило, к его представлениям о том, какая информация не является приватной. Хотя биографические элементы зачастую содержат указания на бессознательные сферы и ключевые переживания детства, интерпретатору все же не следует забывать, что у него, как и у любого другого историка, нет возможностей для валидизации его предположений по этому поводу, но в отличие от других авторов, пишущих исторические биографии, против его интерпретаций и догадок респондент может возразить {39}.
В-третьих, текст состоит из множества сведений; часть их получена в ответ на стандартизованные вопросы, часть – с помощью вопросов в вольной форме, часть содержится в рассказах респондента на другие темы. Из самих этих сведений не ясно, верны они или нет, ведь в неконтролируемости памяти и культурного взаимодействия существует множество мыслимых причин для предоставления неверных сведений. Но в отличие от многих социологических опросов вопрос об истинности сведений в устной истории релевантен, потому что история раскрывает свой критический потенциал именно в процессе соотнесения современных высказываний с имеющимся источниковым материалом. Поэтому необходимо подкреплять сведения, содержащиеся в интервью, независимо от их внутренней непротиворечивости и убедительности, данными из других интервью и сопоставлением с источниками других типов.
В-четвертых, почти в каждом интервью-воспоминании содержатся рассказы, которые непредсказуемым образом распределяются по всей продолжительности разговора. Стиль рассказа может определяться стилем беседы во время интервью, сценической формой самих воспоминаний или коммуникативным кодексом данной культуры. Эти рассказы – самое большое сокровище устной истории, потому что в них эстетически сплавляются воедино фактические и смысловые высказывания. Но вместе с тем их же и труднее всего исторически интерпретировать, потому что момент их сплавления располагается где-то между моментом событий и моментом рассказа о них.
Все эти элементы соединяются в «текст», причем не в планируемом порядке, а хаотически, в такой последовательности, которая вытекает из интерактивного характера разговора и ассоциативного характера памяти. Таким образом, текст обычно не следует вполне ни хронологии, ни намеченному порядку вопросов, ни выдерживаемой рассказчиком канве повествования, ни тематике диалога. Хронологическую канву жизни, как правило, в интервью проходят два или более раз, от случая к случаю нарушая ее, забегая вперед или возвращаясь назад. Тематические группы «вопросника» приспосабливаются к нарративным приоритетам респондента и темам, которые ему приходят в голову в процессе воспоминания. За счет этого интервью получается настолько дробно фрагментированным, что приходится все время заново конструировать предмет и проблематику обсуждения, или те повествовательные «колеи» {40}, в которых рассказчик присоединяет по ассоциации различные предметы к главной теме; т. е. все время делается только шажок вперед и под иным углом зрения сообщаются взаимно перекрывающие и дополняющие друг друга контрольные сведения по одной и той же теме. Это, разумеется, в еще большей степени касается такого интервью, которое продолжается несколько встреч и всякий раз как бы начинается заново.
Эта смешанная формальная структура «текста» интервью-воспоминания отличает его от используемого в социологии нарративного интервью и имеет далеко идущие последствия для его исторического анализа и публицистического использования. В ней проявляется характер устной истории как двоякой встречи: с одной стороны, это встреча между общественным институтом науки и индивидуальным субъектом (как в социологических качественных исследованиях), с другой стороны, это встреча между настоящим и прошлым. Эта последняя, с одной стороны, вызвана вопросами исследователя, а с другой стороны, происходит в субъективных ассоциациях вспоминаемых и сочиняемых историй, поэтому оба уровня встречи пересекаются друг с другом. Разнородные блоки, из которых строится текст: биографическая справка, информационные молекулы ответов на фактические вопросы, миниатюры эстетически завершенных рассказов – возникают в рамках динамики взаимодействия. В ней субъект-носитель опыта определяет, о чем он будет вспоминать и что из этих воспоминаний, в какой форме и в какой интерпретации он хочет передать данному интервьюеру, данному проекту, данной общественности; при этом на протяжении интервью как способность человека к воспоминанию, так и желание поделиться вспомненным могут меняться. А представитель науки {41} в этом взаимодействии определяет, где и как брать на себя инициативу по организации такого интервью-воспоминания, о чем и сколько спрашивать, какие высказывания данного респондента считать в свете своих научных познаний о прошлом достоверными и информативными; в ходе долгого интервью (и проекта) как этот его интерес, так и его познания тоже могут меняться.
Поэтому для анализа полученного в результате интервью текста необходимо его обработать. Такая обработка позволяет воспринимать как целое, так и отдельные блоки, составляющие его, и их интерпретативно связывать друг с другом, со сравнимыми блоками из других интервью и с научными знаниями. Для этого нужны промежуточные ступени редукции (краткое изложение данных, резюме интервью, индексация сообщенных в нем фактических сведений, выписка из него «историй») {42}, которые делают весь текстовый материал обозримым и пригодным для сопоставления, а также обеспечивают возможность учитывать контекст при интерпретации блоков по отдельности. Полные транскрипты не выполняют такой задачи по организации информации (не говоря даже об информационных потерях при переводе в письменную форму); будучи более легки в обращении, чем акустическая запись, вводят в соблазн при анализе полностью избавиться от нее. Частичные транскрипты предполагают такую организацию данных, и через проблематику отбора фрагментов они снова и снова возвращают исследователя к магнитофонной пленке как самому верному и информативному способу фиксации информации. Поэтому, на мой взгляд, им стоит отдавать предпочтение. Вовсе без транскриптов при анализе не обойтись, потому что звуковой протокол оставляет слишком мало времени на осмысление только что услышанного, а кроме того дополнительное отчуждение, возникающее при записывании устных рассказов, может заставить интерпретатора внимательнее отнестись к их содержанию, импликациям, языку и эстетике.
Дело в том, что справедливость по отношению к субъекту опыта, уделение ему подобающего места в истории не требуют просто верить всему, что он расскажет: такая некритическая «вера» (и публикация, перемещающая слова респондента в совершенно иные контексты) была бы абсурдна, если учесть структуры взаимодействия и памяти, и означала бы, что рассказчикам не будет оказана обещанная услуга – ввести их в историю. Скорее для этого необходимы критический анализ и интерпретация, в ходе которых исследователь старается определить, к какому временному пласту относится тот или иной блок текста, сводит и упорядочивает рассеянные данные, проверяет их и делает пригодными для использования при реконструкции условий жизни былой эпохи или при осмыслении важнейших высказываний субъекта. Благодаря этому становится понятна их значимость в их историческом контексте. Но этот важнейший, на мой взгляд, шаг связан по необходимости не только с выходом из имманентности «текста», но и с перспективным сужением его сложности. Ведь этот шаг требует отбора и содержательного структурирования, которых не заменят предпосылки понимания и познавательные интересы исследователя.
В этой точке мы встречаемся с исконной проблемой социологии {43} – в историческом ее варианте: каков тот шаг, который от репрезентации индивидуального и его сложности ведет к познанию его значения и более общих взаимосвязей? Со времен Макса Вебера этот шаг во многих общественнонаучных дисциплинах понимают как шаг от субъективной реальности индивида, в которую исследователь может только вчувствоваться, но не может ее познать, к научной эмпирии. Для нее этот субъект – объект анализа, один случай из многих, сравнение которых позволяет увидеть специфические взаимосвязи между причинами (такими как возраст, происхождение, специальность, доход и др.) и следствиями (такими как установки, поведение). Эти взаимосвязи могут быть сформулированы в виде гипотезы, гипотеза может быть проверена, а ее объяснительная сила – измерена. Потребность в точном измерении возникает в конечном счете из прагматического познавательного интереса – постольку, поскольку изучение социальных закономерностей призвано служить будущему управлению ими. Эти процедуры и интересы, в принципе приходящие извне, в своей противоположности индивидуальному восприятию действительности обеспечивают для позитивистской традиции научность всего предприятия {44}. Устной истории тоже предъявляют такое понимание науки, когда задают вопрос о репрезентативности ее данных.
Такая эпистемологическая модель малопривлекательна для нашего случая: во-первых, устная история не располагает практическими возможностями проверить статистическую репрезентативность своих данных {45}, а во-вторых, она вообще, с одной стороны, предъявляет чрезмерные требования к материалу историка, а с другой – ограничивает его познавательные возможности. Чрезмерны требования потому, что процесс традирования исторической информации весьма сложен и не сводится к количественным аспектам. Ведь то, что дошло до нас от прошлого, – это его следы, зачастую непроизвольные, фрагментированные остатки прежней реальности и традиции: это в устной истории точно так же, как при раскопках развалин древнего города или при исследовании отношений между двумя монархиями. Какие следы сохранились и насколько они до нас дошли – измерить невозможно, в конечном счете приблизительно определять и принимать в расчет это вообще можно только в каждом конкретном случае {46}. Однако, существуют, разумеется, поддающиеся измерениям серийные источники, и их количественный анализ может дать ценные контрольные данные; вместе с тем он может и помочь уточнить неверные данные, как если бы мы измеряли льдину, плавающую в неизвестном океане.
Если бы мы захотели определять соотношение между единичным случаем и его значением только по правилам статистической репрезентативности, то исторический интерес оставался бы прикован к контингентной имманентности определенных фрагментов исторической информации и не мог бы найти ни взаимосвязей в прошлом, ни нашего отношения к ним, и невозможно было бы скорректировать это отношение путем сверки с источниками. Но ограничиваться измеримым не нужно, поскольку применительно к прошлому нет необходимости совершать какие-то поступки, и поэтому уроки истории не заключают в себе никакого руководства к непосредственному действию {47}. Изучение прошлого служит расширению нашего восприятия и корректировке искаженной при передаче информации, а также – наряду с развлечением и наглядными примерами – дает прежде всего понимание некоторых вещей и немножко свободы. Для этой цели годится и помимо измеримой точности любой разумный подход, если он только адекватен материалу и эпистомологически прозрачен.
Поэтому в последние годы в социальной истории (а еще раньше – в социологии, потому что процесс измерения зачастую и в современности исключает сложные постановки вопроса, ориентированные прежде всего на понимание) снова стала чаще использоваться иная эпистемологическая модель: монографическое исследование, микроисследование, качественное исследование. На сравнительно изолированных единичных примерах изучаются связи внутри сложных социокультурных комплексов {48}. Фредерик Лепле – отец этого исследовательского метода {49} – облек свой (и многих, кто занимается устной историей) опыт отчуждения сокращенных предположений и достижения новых осознаваний в оптимистические слова:
Когда наблюдение начинается, возникает впечатление, что количество фактов растет бесконечно…; с каждым новым шагом возникают новые сопротивления, и скоро у наблюдателя возникает искушение оставить свою затею. Но если он будет упорен, то в конце концов он доберется до такой фазы, где факты, образно говоря, сами собой разложатся в единую схему {50}.
То, о чем говорит Лепле в первой части процитированного высказывания, мы в нашем проекте назвали «шоком детипизации»: когда исследователь достаточно пристально всматривается в жизненную действительность своих собеседников и их толкования собственных воспоминаний, то он утрачивает уверенность в правильности тех вопросов и представлений, с которыми пришел на интервью; материал ведет его дальше, возникают бесчисленные связки и новые вопросы, причем происходящее невозможно описать как опровержение и переформулирование некоей гипотезы {51}. Скорее это процесс частичного изменения собственной идентичности и собственного видения мира. Процесс этот протекает зачастую почти незаметно, но нередко в итоге все же прорывается наружу эмоциональными взрывами: лихорадкой открытия, депрессиями, чрезмерным отождествлением себя с опрашиваемыми или возникающим чувством злости в их адрес или в адрес других исследователей. Альтернатива «рациональная объяснительная работа (через дистанцирование) versus вчувствование (через приближение)», при которой в обоих случаях исследователь подозревает в неразумии свой объект исследования, а не самого себя {52}, – представляет собой программу борьбы с саморефлексией, потому что в ней сплетаются воедино мысли и чувства. Эмоциональное напряжение невозможно снять одним только усилием разума. Этот процесс прояснения, при котором может оказаться полезной супервизия, необходим для того, чтобы результат работы не состоял из произвольных проекций. Заменить его отступлением на оценивающую дистанцию нельзя, потому что масштабы оценки окажутся тогда неадекватными. Проблема заключается не в том, чтобы обрести дистанцию, а в том, чтобы воспринимать существующую и сделать ее инструментом понимания.
Насколько необходимо для дальнейшей плодотворной работы ученому разобраться с самим собой, настолько же этого одного недостаточно для достижения цели. Многие проекты по устной истории, застрявшие на стадии сбора материала, свидетельствуют о том, что шок детипизации и его преодоление очень трудны. Но то, как описывает Лепле во второй фразе дальнейшую работу, очень напоминает ту рекламу сигарет, в которой говорится, что в затруднительной ситуации надо лишь «наслаждаться всей душой», и тогда «все пойдет само собой». Одного только упорства недостаточно, ведь если факты сами собой раскладываются в единую схему, то значит, что перед нами, скорее всего, либо гениальное озарение, либо рационализированная проекция, и у исследователя нет критерия, чтобы отличить одно от другого. Упорство, о котором пишет Лепле, создает поначалу только творческое напряжение; помимо него сегодня можно назвать еще четыре рабочие операции, которые могут привести исследователя от встречи со сложными единичными случаями к более общим выводам: это содержательное уточнение воспринимаемой чужести, реконструкция ее предпосылок, насыщение ее за счет сравнения и проверка ее по тексту.
Первый шаг называют часто также «взглядом этнолога» {53}. Этнолог не разглядывает объект сквозь очки предзаданных категоризаций или ожиданий: он сначала смотрит, как люди решают и интерпретируют основные жизненные проблемы, такие как рождение и воспитание детей, половое созревание и сексуальное поведение, обеспечение экономического воспроизводства и распоряжение излишками, виды деятельности и привычки, характерные для того или иного пола и возраста, обращение с болезнью и смертью. Этнолог во всех этих базовых ситуациях обращает внимание на видимые социальные связи и отношения, конфликты и проявления власти, разделения труда и социальной эксклюзии. Отмечая то, что его раздражает, исследователь обращает особое внимание на эти вещи, которые представляются ему чуждыми и которых он не понимает; он описывает это и просит объяснить. Во всем, что ему говорят, он прислушивается не только к словам, но и к умолчаниям, хотя еще не знает, скрывается ли за молчанием нечто настолько банальное, что люди не считают нужным проговаривать это, или же какая-то тайна, которую не доверяют незнакомцу. Такой способ восприятия можно в основных чертах перенести из антропологической практики включенного наблюдения в практику проведения и анализа интервью-воспоминаний. В результате возникнет материал, который позволит описывать и истолковывать различие между тем, что считается нормальным в изучаемой социальной культуре, и тем, что представляется нормальным исследователю.
Внимание к структурным различиям {54} возникает, конечно, не «словно само собой», а из попытки объяснить материал, обращаясь к обстоятельствам его возникновения. Что было имплицитно заложено в высказываниях респондентов? Как можно разрешить противоречия? Как то, что поначалу непонятно, можно разъяснить с помощью дополняющих предположений или соединения других сведений, полученных от того же информанта? В рамках какого видения мира, при каких материальных условиях, в контексте каких социальных связей и отношений, в какой грамматике мышления и общения обладает смыслом то, что показалось исследователю необычным, экзотическим или иррациональным? Пытаясь упростить материал или сделать его внутренне непротиворечивым, исследователь выходит на лежащий под материалом или вне его уровень структур, которые предшествуют поступкам и высказываниям индивида, – они и обеспечивают возможность его диалога с окружением и, в частности, с интервьюирующим его незнакомцем {55}.
Но было бы весьма рискованной затеей (особенно в исследовании по современной истории) пытаться описывать содержание и масштабы таких латентных структур на основе одного единичного свидетельства. Потому что в той мере, в какой ослабевает сила формирующего воздействия и уменьшается гомогенность социальных субкультур (условий жизни, характерных для той или иной профессиональной группы, общественно-имущественного слоя или региона), нарастает индивидуальность жизненных историй или они группируются в типы биографий (с особыми ментальными структурами и кодами, социальными и трудовыми отношениями), тонкие различия между которыми уже не так явно отражают тот малый космос, в котором живет каждый данный индивид. Однако не только в таких условиях, но и в жизненных средах, выглядящих стабильными, высказывания субъектов всегда определяются как структурами их социального существования, так и индивидуальностью их биографии. Одно невозможно отделить от другого в сложных высказываниях индивида, но при сравнении нескольких высказываний, принадлежащих членам одной группы, объединенным общими структурами, сходства и различия проявляются более отчетливо, становится видно пространство свободы, которое они оставляют индивиду, и возникает возможность хотя бы в общих чертах распознать различные системы отсчета и границы действия каждой из них {56}. Это насыщение и дифференциация латентных структур путем сравнения осуществляются тем скорее, чем более замкнутой и гомогенной является группа, которой принадлежат опрошенные. И наоборот, степень насыщения и дифференциации очень трудно определить или хотя бы зафиксировать применительно к отдельным сферам опыта, когда биографии очень различны, когда материальные и культурные условия жизни неоднородны и непостоянны, а также когда исследователь существует в тех же самых условиях и поэтому их специфические отличия не бросаются ему в глаза.
Перечисленные до сих пор шаги от особого к общему уводили в сторону от непосредственного восприятия конкретного исторического материала, от наблюдения. Если обнаруженные структуры валидны, то они должны проявляться и в приложении к отдельно взятому тексту. Предлагаемый новый способ прочтения текста призван обеспечить более глубокое понимание его высказываний, учитывающее их исторический контекст. Когда я говорю здесь о «тексте», я имею в виду прежде всего отдельные, завершенные по форме истории. Эти рассказы в рассказе, т. е. в интервью {57}, – плотные, сложные, осмысленные истории – невозможно понять с помощью неопределенного «вчувствования». Подступиться к ним можно на двух уровнях: во-первых, через разработку этого источникового текста, каковая предполагает все вышеназванные шаги и добавляет к ним методы критики источников, формальный и языковой анализ: этот уровень я буду в дальнейшем именовать герменевтическим; во-вторых, через целостное восприятие таких произведений устной литературы: этот уровень я буду в дальнейшем именовать эстетическим.
Герменевтика
Герменевтика как учение о понимании текстов требует прежде всего осуществлять критику источника, т. е. предполагает попытку определить форму изучаемого текста, его положение в контексте и его происхождение, учитывая историю данного интервью, его участников и общую взаимосвязь рассказанного. В историческом анализе интервью-воспоминания главное – это определить, дают ли содержание и/или форма текста указания на тот временной пласт, к которому относится история. Этот шаг в работе не специфичен для устной истории, он – часть стандартного репертуара исторической критики источников {58}.
Если, например, содержание рассказа заставляет предполагать иной смысл, нежели тот, который придается ему за счет использования его в коммуникативном контексте интервью, то будет, как правило, обоснованным предположение, что имела место какая-то более давняя, так сказать, ошибочно примешанная в силу ассоциативного характера памяти история. Если интервьюируемый утверждает, что пересказывает диалог, происходивший пятьдесят лет назад, а в тексте при этом содержатся выражения и ссылки на имена или факты, которые до войны еще не были известны, то интересно выяснить, что имел в виду автор, придумывая (неудачно) якобы подлинный разговор. Но верно и другое: если рассказчик использует слова и образы, принадлежащие позднейшей эпохе или изобразительному языку позднейшего кинематографа, то это еще не обязательно значит, что его воспоминание о травматическом опыте, имевшем место в детстве, во время войны и т. п., ложно. Ведь переживание имело место в словесной форме, и так, не облеченным в слова оно хранилось в памяти, чтобы когда-нибудь быть изложенным с помощью языковых и прочих выразительных средств, имеющихся в распоряжении человека на момент рассказа. Интерпретатору в таком случае следует обратить внимание на те обстоятельства, в которых имели место описываемые события, а также на то, как о них рассказывает респондент (это лучше сделать, слушая магнитофонную запись). При занятиях устной историей на первом месте стоит не «изучение подделок», а стремление более точно определить момент возникновения того опыта и тех смысловых связей, которые описываются в рассказах опрошенных. Если, например, анализируя повествование о некоем предмете, относящемся к 1920-м годам, по его языковой форме и референтным связям удается определить, что смысл этого рассказа возник в коммуникативном контексте 1950-х годов, то для истории человеческого жизненного опыта (Erfahrungsgeschichte) это означает не меньший «улов», чем если бы оказалось, что рассказ «подлинный» в том смысле, что его референтные связи ведут именно в 1920-е годы.
Потом, основываясь на критической оценке текста как источника, можно попытаться более точно истолковать его смысл, полнее учитывая историю возникновения этого текста и коммуникативные особенности его формы. В прежней герменевтике и дройзеновской «историке» {59} считалось, что смысловое понимание текста возможно постольку, поскольку интерпретатор является, как и автор, человеком. Однако такая привязка возможности понимания ко внеисторической видовой категории ничего не дает, потому что человек есть не какое-то живое существо вообще, а в каждом случае культурно, социально и исторически определенное существо. Культурная деятельность, такая как историческая интерпретация, не может абстрагироваться от этой индивидуальной определенности автора и интерпретатора текста, а должна отправляться именно от их различия. Поэтому в более новых версиях герменевтики она понимается не как установление прямой связи между двумя далеко отстоящими друг от друга людьми, а как метод, в соответствии с которым смыслы, соединяющие миропонимание текста и интерпретатора, прилагаются к интерпретируемому тексту и проверяются на совпадения и различия {60}. Но откуда берутся эти смыслы?
Тут нам помогут упомянутые выше шаги: первое – этнологическое восприятие чужести, или различия, второе – объяснение их конструкцией латентных структур, третье – насыщение этих структур и четвертое – ограничение их протяженности за счет сопоставления с другим материалом. Иными словами, интерпретация не должна опираться на туманное и априорное понимание, существующее у интерпретатора еще до начала работы с текстом. Он может проверять на отдельных текстах смыслы, которые происходят из методологически уточненного восприятия самого интервью {61}.
В результате – как, надеюсь, мне удалось показать, – исторический анализ интервью-воспоминаний даже при невозможности статистически репрезентативных утверждений позволяет посредством методических шагов устанавливать связь между текстом единичного случая и историческим контекстом. С одной стороны, эти шаги могут дать ключи к интерпретации отдельных рассказов, так что их тексты откроются для нового, более глубокого прочтения и обретут значимость в рамках более широких исторических контекстов. С другой стороны, благодаря вниманию к различиям, эти шаги позволяют прозрачным образом делать обобщения или утверждения относительно структур. Эти интерпретации и обобщения, однако, суть гипотетические истолкования, которые свидетельствуют о перцептивных предпосылках интерпретатора.
Границы «антропологической» объективации
Заимствования у антропологии в области восприятия и структурирования других культур, предложенные мною как способ вырваться из герменевтического круга, возможны лишь до некоторых пределов. Одна такая граница заключена в опыте самой антропологии, поскольку, добившись понимания структур, эта дисциплина одновременно разучилась видеть способность изучаемых ею культур к автономным изменениям. «История» осталась на стороне европейских наблюдателей, чья конструкция структур жизни «дикарей» гиперрационализировала и деисторизировала эти структуры. Это не бросалось в глаза, пока колониальные власти, стоявшие за спиной антропологов, препятствовали восприятию и осуществлению изучаемыми племенами своей исторической субъектности. Но после начала национально-освободительной борьбы стран третьего мира стало понятно, что эта «мертвая зона» в поле зрения антропологов является критической {62}. Такая устная история, которая стремится познавать в повседневной жизни борьбу за независимость, или даже поддержать ее, должна отдавать себе отчет в этой границе и искать компенсаций, которые проявили бы живой, противоречивый, субъективный элемент в ее свидетельствах.
Вторая граница возникает, когда этнометодология возвращается в современные метрополии: сокращение исторической и общественной дистанции уменьшает и размывает зону чужести между исследователями и их респондентами, а тем самым и эпистемологический ресурс этого модуса исследовательской работы. Если не почти все чуждо (как в случае, когда берлинский интеллектуал два года живет в африканском горном племени), а встречаются два немца, живущие в одном городе и не разделенные даже большой социальной и имущественной дистанцией, то восприятие дистанции требует более тонкой саморефлексии. Она, однако, неотделима от массы общих черт в повседневной жизни и ментальности и не вознаграждается романтикой экзотических приключений. И все же дистанция реально существует, однако исследователь познает ее уже не посредством той «социальной смерти» {63}, которая стимулировала внимание европейца, осуществлявшего включенное наблюдение в полностью чужой культуре: он познает ее через частичное и потому зачастую не полностью осознаваемое раздражение его самопонимания и его предположений относительно респондентов. Только в ходе контакта природа дистанции может быть выяснена, вычленена из клубка дистанцирующих или объединяющих атрибуций; тогда может быть точнее определен и объем возможного понимания латентных структур. Одновременно эта более узко очерченная рамка анализа открывает зону, в которой свидетельства не требуют и не допускают специальной интерпретации в сегодняшней публичной сфере, а могут сообщать о своем смысле напрямую. Определение этой зоны, правда, дело трудное, в частности, потому что будничный язык интервьюируемых людей создает иллюзию непосредственности их воспоминаний, которую те, однако, зачастую теряют при возвращении их в исторический контекст. Здесь перед историком стоит задача: осмысленно отобрать и соотнести друг с другом цитаты и предлагаемые интерпретации.
Тем самым названа уже и третья граница: информанты и исследователи при изучении устной истории средствами «этнологии собственной страны» {64} связаны друг с другом общей (по крайней мере частично) публичной сферой. В отличие от традиционной этнографии исследователь здесь рассказывает «своей публике» не о том, что он обнаружил в мире, совершенно отдельном от его мира и препарируемом в рамках эволюционной теории или этнографического музея, подобно коллекции бабочек, – мире, культурную диалектическую связь которого с этноцентризмом Европы мы только сегодня научились видеть в ретроспективе {65}. Скорее в данном случае общество изучает само себя, и «публика» здесь потенциально и частично является и рассматриваемым объектом, и квалифицированным субъектом одновременно. Такой процесс познания не может быть завершен внутри науки, с тем чтобы его результат был в качестве готового продукта представлен общественности, рассматриваемой как внешняя: участники интервью-воспоминания и его анализа разрабатывают только основу для дальнейшего процесса познания общественной коммуникации.
Эстетическое восприятие
Эти эпистемологические барьеры могут быть открыты для читателя (слушателя, участника семинара и т. д.) и для общественности, когда истории-примеры из интервью-воспоминаний вместе с предлагаемыми интерпретациями историка делаются доступными для эстетического восприятия {66}.
Только бедные, сконструированные истории «раскладываются без остатка», когда интерпретатор к ним прилагает свои категории; такие рассказы после этой операции выглядят опустошенными, в них не остается никакого живого зерна, как в соломе после обмолота. Запоминается «мораль сей басни», а сама она забывается. Хорошие истории (а во время интервью любопытному и бережному интервьюеру, как показал наш опыт, расскажут много хороших историй) описывают удивительные сложные процессы, обладающие множеством связей с другими процессами. Эти связи частично описываются, частично упоминаются, а частично подразумеваются, но никогда не поддаются категориальной редукции; значение описываемого события или процесса для автора раскрывается в общей структуре повествования {67}. Иными словами, смысл истории воплощается в ее форме. Изучение тематических историй, рассказываемых без подготовки и повествующих о пережитых самим рассказчиком событиях {68}, показало, что обычно человек, выстраивая свою историю, должен выполнить три требования: во-первых, он должен из частичных событий и связей между ними выстроить единое целое, передающее замысел его рассказа. Во-вторых, чтобы поддерживать интерес слушателя и направлять его на этот главный замысел, рассказчику нужно сконденсировать описываемый процесс, выделяя важные узловые пункты. В-третьих, он, проходя шаг за шагом вспоминаемый событийный ряд, должен вставлять по ходу дела подробности и пояснения к тем моментам, которые, как он полагает, его слушателю неизвестны (или в большом интервью отсылать его к уже рассказанному ранее).
В силу таких требований к эстетике подобных историй смысловое содержание рассказа поддается вычленению и более или менее краткому выражению (цитированию), а из конкретных впечатлений строятся сложные взаимосвязанные структуры, но не систематические, а генетические. То, что рассказчику представляется интересным в его истории, он пытается наглядно продемонстрировать слушателю. Поскольку он рассказывает незнакомому человеку без подготовки, пользуясь разговорным языком, то наглядность достигается либо путем обращения к распространенным знаниям, зачастую генетически связанным с опытом преодоления повседневных жизненных проблем, либо путем специального описания того, что является уникальным, особым. И то, и другое приходится ради краткости делать лишь намеками, и потому предполагается опора на жизненный опыт, не эксплицируемый в полной мере.
Если в такой ситуации рассказчик не идет путем, описанным выше, т. е. не растолковывает все то, чего слушатель не понимает, и не рассказывает предысторию своей истории, а избирает путь эстетического восприятия, то у исследователя не остается по отношению к прочим слушателям преимущества, даваемого знанием. Наоборот, поскольку в данном случае главное – это то впечатление, которое «охватывает» слушателя при целостном восприятии, то скорее и лучше всего сможет понять сказанное тот, чей жизненный опыт в наибольшей мере пересекается с опытом рассказчика. Ибо понимание, по Дройзену, происходит «как бы непосредственно, сразу, так что мы не осознаем тот логический механизм, который при этом действует. Поэтому акт понимания подобен непосредственному интуитивному наитию, творческому акту, искре, проскакивающей между двумя заряженными телами, акту зачатия. В понимании полностью участвует вся умственно-чувственная природа человека» {69}.
Подобным же образом описывал Пирс предшествующее всякой научной операции и единственно продуктивное «абдуктивное умозаключение», путем которого на основе наглядного восприятия сложной констелляции делается вывод относительно ее главного информационного содержания: он тоже говорил об «интуиции» или о «молнии», с помощью которых через обращение к досознательному опыту можно сразу прийти к точной (хотя еще не доказуемой) расшифровке воспринимаемого {70}.
В один ряд с герменевтическим разбором текста интервью, таким образом, может на уровне эстетического восприятия встать и совсем другое понимание заложенных в нем завершенных микропроизведений устной литературы, – такое понимание, которое вполне адекватно этим историям как сложным выражениям субъективного опыта и к которому непредсказуемым образом способен «всякий».
Этот «всякий», однако, всегда есть некто особый, который по своей индивидуальности, а зачастую и по своей социокультурной принадлежности характеризуется специфическими отличиями и сходствами с респондентом и/или с историком. Поэтому он со своей позиции может обнаружить в рассказываемой истории еще какую-то информацию и какие-то смыслы, не те, что намеревался сообщить рассказчик, и не те, что выявили методические интерпретативные операции историка. Как минимум этот «всякий» может проконтролировать предложенную последним интерпретацию в приложении к некоему конкретному тексту-примеру {71}. Поэтому было бы неправомерным сужением осмыслять процесс производства устной истории как происходящий только в биполярном пространстве между субъектом и объектом, или между субъективностью и объективацией. Скорее его следует рассматривать, схематически говоря, как треугольник отношений, в котором реципиенту, т. е. «всякому», по праву должна быть отведена самостоятельная критическая позиция в социальной коммуникации по поводу истории. Поэтому тот, кто публично презентирует произведения устной истории (как правило, историк), должен следить, чтобы форма презентации давала возможность этому третьему участнику реально осуществить свою ключевую роль в исторической коммуникации.
Чтобы пояснить сказанное, я еще раз кратко рассмотрю альтернативные формы текста с точки зрения реципиента. Звуковой протокол или транскрипт обстоятельного интервью-воспоминания не пригодны для публичной презентации, поскольку их текст имеет смешанную структуру, содержание фрагментировано, степень подробности слишком высока. Их нельзя «прочесть», их можно только прорабатывать: расшифровывать, классифицировать, анализировать, интерпретировать и/или готовить к публикации.