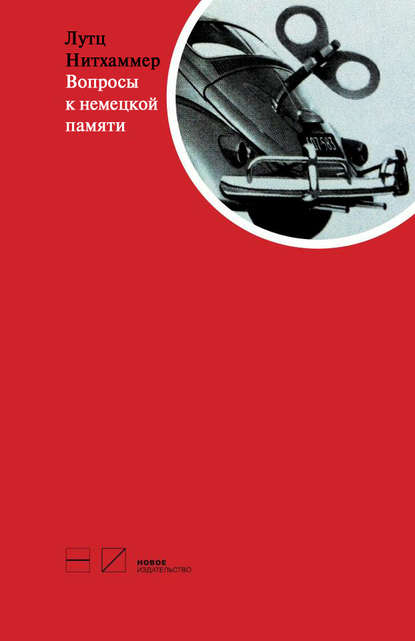По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нередко фрагменты текстов, собранных в ходе проекта, – обычно это истории вышеописанного рода – вычленяют из корпуса и публикуют в книге (или фильме, радиопрограмме, на выставке). То есть публикуются фрагменты устной литературы, которые реципиент может воспринимать эстетически. Если он благодаря специальной профессиональной подготовке или параллельному опыту в целом знаком с тем, о чем рассказывается в этих воспоминаниях, то он может занять позицию по отношению к фактическому содержанию рассказа. Но в любом случае он не имеет того биографического горизонта и того интерактивного контекста, в которых этот рассказ возник, и потому он лишен важнейшего ключа к его исторической интерпретации. Кроме того, если ему не предложено никакой исторической привязки этого текста, никакого критического обобщения и интерпретативного его разъяснения, то у него нет средств, чтобы в рамках исторического знания осмыслить значение рассказа и составить свое собственное суждение. Такой реципиент, ограничивающийся эстетическим восприятием единичных историй, может составить себе наглядное представление о предмете и сделать некоторые изолированные открытия; его можно призвать идентифицировать себя с персонажами; им можно манипулировать, создавая иллюзию подлинности документа; можно его развлечь, вызвать у него потрясение или навести на возвышенные мысли; но лишь в редчайших случаях расширится его историческое восприятие и обострится его способность к суждению.
Однако, ничем не лучше ситуация, когда историк презентирует ему только результаты своей интерпретативной работы, местами подкрепляя или украшая свои слова краткими цитатами из источника. Такие цитаты в большинстве случаев не поддаются проверке и потому, собственно, совершенно ничего не подкрепляют. Кроме того, из массива текста интервью-воспоминания можно вычленить фразы или обрывки фраз, подходящие под любую, даже самую причудливую интерпретацию. «Собственный смысл» источника, которому должна быть адекватна интерпретация, проявляет свою «сопротивляемость» лишь в сравнительно длинных цитатах, которые позволяют проследить либо взаимодействие между интервьюером и респондентом, либо все сложное смысловое и формальное целое рассказа. Если же такие цитаты, причем пригодные для эстетического восприятия посторонним науке реципиентом, не приводятся в публикации наряду с интерпретациями, то реципиент остается полностью во власти интерпретатора, как если бы тот водил его по музею с завязанными глазами. Вполне возможно, что слова экскурсовода оказались бы способны настолько возбудить историческое воображение посетителя, что изолированные экспонаты вернулись бы перед его мысленным взором в те жизненные и источниковые контексты, из которых они намеренно или ненамеренно были вычленены. Сами по себе выставленные в музее шкаф, машина, витраж или мундир мало что говорят. Но если наш реципиент не может видеть эти экспонаты, хотя разбирается в одежде, посуде, картах или механизмах не хуже историка, который в данном случае должен только поставить ему на службу свои познания о другой эпохе, то что произойдет с его интересом, его знанием предмета, его критикой и его представлениями?
Может показаться, что среди методических рассуждений о проведении интервью-воспоминания неуместно приводить указания, какой должна быть презентация. Но только в этой точке замыкается круг, когда мы пытаемся заниматься устной историей с целью внести вклад в развитие демократической историографии, приблизиться к субъективному опыту тех, кто иначе не получит голоса в истории, ибо этот голос нигде не сохранится. Я постарался показать, что простых, прямых путей нет. Услуги исторической науки – даже сравнительно методологически сложные – нужны, чтобы участие тех, о ком рассказывается в истории, в самом деле способствовало расширению исторического восприятия всех. Но надо также избегать и противоположной опасности – опасности неконтролируемой научной экспроприации этой фрагментированной коллективной памяти: как показывает накапливание инструментального знания-власти в некоторых разделах эмпирической социологии и социальной истории, эта опасность реальна.
Я не говорю об утопической ситуации, когда мы, ученые, вдруг оказались бы одарены способностью так представлять результаты своей работы, чтобы всякий мог их понять и с удовольствием и интересом с ними знакомиться. Это, конечно, цель похвальная {72}. Но саморефлексия подводит к осознанию того, что выше головы не прыгнешь и что историки – не наставники нации, что они должны предлагать ей нечто осмысленное, и это нечто зачастую лишь через много промежуточных этапов, после критического отбора, в измененной форме, дойдет до исторической коммуникации в обществе и окажет на нее влияние – а иногда и не окажет. Я же говорю скорее о том, что эти услуги, эти предлагаемые историей обществу интерпретации должны быть сформулированы так, чтобы это были в самом деле предложения, которые отражали бы эпистемологические границы исторической интерпретативной работы и держали бы эти границы открытыми для критики со стороны «всякого» и для его участия, для выражения его точки зрения. Иначе говоря: историческое познание следует понимать не как продукт интеллектуалов, а как социокультурный процесс, который хоть и не движется без вклада интеллектуалов, но все же в нем и другие выполняют свои совершенно отдельные функции. Достижение этих целей, на мой взгляд, лучше всего обеспечивается тогда, когда интервью-воспоминания не превращаются ни в собрания непроинтерпретированных фрагментов, ни в продукты анализа, из которых изгнано живое содержание памяти респондента. Вместо этого следует сознательно сочетать в напряженном соотношении друг с другом углубляющую и обобщающую интерпретацию и эстетику длинных цитат, в которых тексты могут реализовать свое сопротивление неверно приписываемым смыслам, сохранить свою самобытность и историческую субъективность {73}.
Интервенция памяти
Английское словосочетание oral history означает – вопреки своему буквальному значению – не какой-то особый вид истории, который ограничивается устно традированными источниками, а специфическую технику изучения современной истории {74}. Устная история, с одной стороны, позволяет исследовать определенные сферы, по которым нет иных источников или они не доступны, и таким образом, она представляет собою один эвристический инструмент среди прочих. С другой же стороны, она позволяет расширить концепцию недавнего прошлого и историзировать его, в силу чего практика oral history оказывает влияние на понимание истории в целом.
Существуют два распространенных заблуждения. Первое из них – что устная история есть социально-романтический самообман, научно несостоятельный, ибо надежных воспоминаний и репрезентативных высказываний слишком мало, чтобы можно было строить на них серьезное исследование. Второе – что устная история есть универсальная аббревиатура вчерашнего, своего рода instant history, которая годится для всего чего угодно и позволяет понять утраченный мир дедушки, прослушав его последнее интервью, записанное на магнитофон. В противоположность этим двум глобальным предрассудкам функцию oral history в изучении современной истории скорее можно уподобить функции археологии для истории древней.
Это метод, специфичный именно для Новейшего времени, нацеленный на междисциплинарное сотрудничество, позволяющий расширить спектр исторических источников и историческое восприятие, а от других эвристических областей в истории отличающийся тем, что его источники не даны в готовом виде: их характер определяется отчасти тем, как они «добываются». Конечно, сравнение с археологией не совсем удачно, потому что остатки воспоминаний в памяти качественно отличаются от керамических черепков в земле. Но раскопки расширяют наше понимание истории, основанное на текстовых источниках, добавляя к нему пространственное измерение, и разрушают проекции исторической фантазии, предлагая новую возможность восприятия, где все наглядно и все зарисовано гораздо более реалистично, чем прежде воображалось. Подобным же образом интерактивная индукция интервью-воспоминания требует такого представления об исторической науке, при котором мы признаем, что ее данные продуцируются в процессе исследования, что она приближается к перспективе субъективного опыта, препятствует переносу нынешних представлений на прошлое и создает (подобно археологии) из фрагментов и примеров основу для нового восприятия, в данном случае – восприятия такого аспекта, как человеческий жизненный опыт. Поэтому ниже я хотел бы попытаться кратко очертить те сферы, где интервью-воспоминание сулит эвристические приобретения для современной истории, а затем сказать несколько слов о том, почему аспект человеческого опыта исторически важен и в какой мере его интервенция может иметь критическую функцию.
Свидетельство экспертов
Устная история возникла в США вскоре после войны, когда стало ясно, что важные для общества решения все больше принимаются не на уровне высшего руководства, а готовятся в штабах, аппаратах и на заседаниях, так что те, кто за них «ответственны», на самом деле зачастую только повторяют написанное другими и оправдывают это перед лицом общественности. Логика, стоящая за этими решениями, и институциональные процессы, в ходе которых они вызревали, суть порождения мира элит второго эшелона (менеджеров, функционеров, чиновников, экспертов), которые не пишут своей истории, не излагают в ней своих мотивов и связей, а если бы они и писали мемуары, то эти книги не продавались бы. Те письменные тексты, которые эти люди продуцируют, суть лишь конечные морены внутриаппаратных процессов, которые сами по себе все меньше опираются на письменную фиксацию информации. В XIX и в первой половине ХХ века дело обстояло еще совсем иначе: во-первых, число участников было гораздо меньше; во-вторых, им зачастую не оставалось ничего другого, кроме как письменно объясняться друг с другом по поводу их истинных мотивов. Современные бюрократические аппараты во второй половине ХХ века продуцируют все больше бумаг (впрочем, этому процессу роста может положить конец распространение средств телекоммуникации), но все больше решений обсуждается и принимается по телефону или в мобильных рабочих группах, поэтому такие бумаги все меньше годятся для глубокого исторического анализа {75}. Никсоновские магнитофонные записи деловых разговоров в Белом доме и взяточная бухгалтерия Флика[3 - Имеется в виду «дело Флика», ставшее причиной громкого политического скандала в ФРГ в середине 1980-х годов. Фирмы Ф. Флика тайно передавали крупные денежные суммы деятелям нескольких политических партий, в том числе и министрам. Это, как предполагали (доказательств, впрочем, найти не удалось), были не просто пожертвования в пользу партий, но взятка за выгодное для концерна постановление Министерства экономики. Чиновники налогового ведомства обнаружили записи об этих выплатах в бухгалтерских книгах компании.] обладают такой высокой ценностью не потому, что в них документирован очень необычный способ ведения дел, а потому, что подобная форма фиксации информации о практиках в мире власти и денег в высшей степени необычна.
Однако опыт показывает, что представители этих кругов зачастую и после выхода на пенсию или в отставку сохраняют дисциплину, подобающую их должностям, и лишь немногие из них готовы и способны с достаточной точностью вспоминать детали своей прежней деятельности. Только в исключительных случаях долговременная память не изменяет человеку, когда по прошествии десятилетий нужно в подробностях реконструировать процессы принятия конкретных решений. Это неоднократно показывали допросы свидетелей в процессах по преступлениям нацистов, шедших более чем через двадцать лет после событий. Это обстоятельство испортило репутацию огромной массы письменных свидетельств и записей устных рассказов в области современной истории {76}. Ситуация бывает, возможно, иной в тех случаях, когда подобные процессы принятия решений одновременно означали важные, переломные моменты в биографии самого вспоминающего, но тогда он зачастую не хочет потом ни с кем делиться воспоминаниями о них. Опыт интервьюирования представителей элит на темы, связанные с политическими решениями, привел историков к мысли, что опросы свидетелей надо начинать сразу после значительных событий. Но такие мероприятия по превентивной фиксации исторических сведений быстро наталкиваются на финансовые трудности, а кроме того, они сопряжены со сложнейшими методическими проблемами {77}.
Многие историки, разочаровавшиеся в плодотворности и надежности интервьюирования представителей элит как способа сбора информации о принятии решений, тем не менее считали, что встречи с ними помогали им многое понять из «подоплеки дела». Более крепкой представляется долговременная память в отношении того, что касается социальных отношений внутри аппаратов и между ними, оценок тех обстоятельств, которые определяли принятие решений, и тех кодов, в которых осуществлялась коммуникация; одним словом: лучше помнятся истории из верхних этажей рабочего мира {78}. Поэтому тут вполне можно было бы проводить антрополого-социальноисторические исследования повседневной жизни «человека организационного». Но в качестве информационной подпорки для современной политической истории даже такие воспоминания из организационных контекстов следует признать особо текучими и субъективными данными, которые можно собирать и контролировать только в сочетании с соответствующими архивными разысканиями. В этом смысле процесс такого комбинированного сбора информации сближается с расследованием дел в криминалистике, а интервью – с допросом. Часто для этих целей более пригодны и достаточны разговоры «о подоплеке дела», проводимые без магнитофона, т. е. не оставляющие после себя никакого документа, доступного для текстового анализа.
В проекте LUSIR подобные интервью с представителями элит на темы, связанные с политическими решениями и структурами, проводились только как составные части биографических интервью, сопровождались архивными исследованиями профсоюзных документов, а в качестве респондентов фигурировали прежде всего члены производственных советов и другие представители рабочих элит горнодобывающей и металлургической отраслей. Разговоры «о подоплеке дела», ведшиеся помимо собственно интервью, дали нам очень важные сведения, например для реконструкции политических взаимосвязей {79}. Но та полученная от представителей политических элит информация, которая касается не фактов и структур, а политических идей, ценностей, опыта и кодов, особенно трудна для интерпретации, потому что этим людям приходилось постоянно заново обдумывать и переосмысливать свои цели, так что их память уже многократно прорабатывала и заново интерпретировала воспоминания.
Это я хотел бы проиллюстрировать примером ретроспективной рефлексии одного профсоюзного функционера по поводу вопроса об обобществлении собственности на средства производства в первые послевоенные годы. Свой опыт он сформулировал в таких словах: «Здесь тогда еще время не пришло для тогдашнего времени» {80}. Сначала эта фраза вызывает недоумение. Высказывание, с одной стороны, представляет собой краткую формулу, а с другой стороны, расплывчато и облачено в камуфлирующие понятия («время»), которые к тому же имеют разные значения: это противоречие указывает на то, что это перед нами квиетистский код самопонимания, которым выражена идея, не пригодная для открытого высказывания. Правда, достаточно хотя бы немного знать о том времени, чтобы понять политическое значение этих камуфлирующих понятий. Но фразу, которая в результате такой расшифровки получится, – «общественные отношения здесь тогда еще не созрели для обобществления средств производства», – респондент явно не хотел произносить, потому что это было бы всего лишь затертой левацкой рационализацией поражения социал-демократов и коммунистов. Сказав меньше, он дал понять больше и одновременно это скрыл. Этот человек – сын плотника, разочарованного «старого бойца» СА, – в конце войны был убежденным членом гитлерюгенда, командовал малолетками. Потом убежал от русской оккупации из Центральной Германии в Рурскую область, где уже в 1946 году стал руководителем молодых рабочих на своем предприятии, двумя годами позже вступил в профсоюз, а потом, когда основной его работой стала профсоюзная деятельность, стал членом СДПГ. Послевоенная переориентация привела его в лагерь левых и одновременно способствовала стремительному росту его общественного положения: на сегодняшний день он считается одним из немногих выдающихся левых деятелей среди крупных функционеров своего города. Обобществление средств производства – это для него цель, которая после войны стала прежде всего содержанием его новой жизни; но, глядя из сегодняшнего дня, он идентифицирует ее с тогдашним временем, и при таком дистанцировании она выглядит уже не такой актуальной. От темпорального понятия («тогда») он отделяет пространственное («здесь»): очевидно, тогда же где-то в другом месте время для обобществления уже пришло, но это было в той самой советской зоне оккупации, откуда он сбежал. Из этой искаженной картины общеполитических условий, биографии и приобретенной позднее, ставшей с тех пор не актуальной, но все же сохраненной целевой ориентации возникает процитированная трудная фраза, которая поначалу недоступна для коммуникации, потому что ради сохранения идентичности громоздкие связи с действительностью камуфлируются формулами-пустышками. Но эти формулы-пустышки представляют собой усеченный код и содержат в себе одновременно коммуникативное предложение собеседнику: достичь согласия в рамках просвечивающего общепринятого (для левых) паттерна рационализации.
Этот пример показывает, что интервью с политиками полны подводных камней, особенно в обществах, где политические векторы в недавнем прошлом несколько раз резко менялись. Даже – или особенно – там, где предмет воспоминания не слишком эфемерен для долговременной памяти, а в силу своей личной значимости хорошо в ней сохранился, в интервью лишь в редких случаях рассказываются сырые воспоминания о ценностно нагруженных политических сюжетах. Это превращает их – тем более, что политический процесс, как правило, порождает также другие источники информации, – в богатый фонд данных для изучения индивидуальных и общественных факторов, которые при формировании и переформировании опыта сплетаются друг с другом; но для исторической реконструкции возникающий в результате источник использовать трудно. Впрочем, эта проблематика не столь сильно проявляется в работе со вторым типом экспертного интервью, применяемого для реконструкции сфер современной истории, слабо обеспеченных источниками: я имею в виду реконструкцию условий повседневной жизни.
Значительная часть повседневности, в которой группы и индивиды трудятся, состоят в социальных отношениях, формируют толкования своей жизни или перенимают унаследованные, сама по себе не продуцирует текстовых (а зачастую и вовсе никаких) источников. Хотя именно в этой сфере общественные структуры и политические процессы соприкасаются с жизнью индивида, т. е. история как бы охватывает и пронизывает человека, документирована эта сфера чрезвычайно скудно, и это многих удивляет, ведь повседневность представляется чем-то настолько близким, что кажется, будто источники по ее истории находятся повсюду, а каждый человек – эксперт по собственной недавней истории. На самом же деле история повседневности особенно трудна для изучения и зачастую в большей мере, чем политическая или интеллектуальная история, нуждается в теоретической базе {81}.
Связано это прежде всего с тем обстоятельством, что большинство рутинных действий в повседневной жизни совершается неосознанно: это привычные и едва приметно меняющиеся впечатления и действия, заученные в период социализации. Человеку становится изнутри видна их особость только тогда, когда они перестают быть автоматическими. Неосознанное представляет собой «забытую историю» {82}. Тот факт, что его содержание составляют вещи, когда-то возникшие, не присутствует ни в сознании, ни в воспоминании до тех пор, покуда эти вещи сохраняют свою действенность. Они проявляются на поверхности сознания лишь постольку, поскольку их приходится не совершать машинально, а вспоминать, или если их наблюдает кто-то со стороны.
Поэтому не удивительно, что попытки исторического изучения жизненной практики субъектов сталкиваются с особыми эвристическими проблемами. Остатки прежней повседневной жизни весьма фрагментарны, поскольку в большинстве будничных отношений и процессов господствует устная коммуникация, а отложения материальной культуры, если они вообще собираются и хранятся, не заключают своего смысла сами в себе: они всего лишь технологические элементы и инструменты исчезнувшей жизни. Историческая интерпретация в таких условиях, как правило, вынуждена опираться на сохраненный преданием исключительный случай, который документирует нарушение повседневной практики или преследование отклоняющегося поведения, или же на другие свидетельства внешних наблюдателей. Но адекватно ли отражают такие внешние свидетельства тот «собственный смысл», который заложен в описываемых жизненных условиях, а если нет, то как они его преломляют, – можно проконтролировать только по свидетельствам «изнутри» {83}. По этой причине подавляющее большинство проектов по устной истории сегодня посвящено исследованию таких социальных групп или фаз в истории еще живущих поколений, которые не породили никаких или почти никаких субъективных свидетельств, источников, и цель этих проектов в том, чтобы через интервью-воспоминания сделать эту недавно минувшую повседневность частью истории.
Но и к этой цели нет прямых путей. Если субъектные связи повседневности открываются преимущественно стороннему наблюдателю или воспоминанию, то и интерактивная индукция пассажей в интервью-воспоминании, посвященных истории повседневности, порождает только такие источники, которые полностью раскрывают себя лишь при взаимном контроле обоих измерений. Ведь о повседневности здесь говорится только по двум причинам: либо потому, что об этом спросил интервьюер, – и тогда смысл конституируется спрашивающим, потому что его просьба поточнее описать повседневную практику всегда приводит к тому, что из латентной памяти извлекаются лишь свидетельства, освещающие предмет под одним определенным углом; либо потому, что респонденту захотелось вспомнить не существующую более жизнь, – и тогда преодолеть барьер предполагаемой им тривиальности предмета рассказа он может только за счет чувства сожаления или облегчения по поводу того, что теперь повседневная жизнь в этом и/или других отношениях стала иной. Это чувство (у многих старых людей это ностальгия) {84} – а вовсе не тогдашний смысл воспоминаемой жизненной практики – мотивирует активную память и структурирует смысл сообщения, выдаваемого ею. Но обе перспективы могут дополнять и контролировать друг друга.
Если интервьюер терпелив и уже настолько детально знаком с условиями жизни своего собеседника, что может задавать конкретные вопросы, то респондент, как правило, точно и подробно описывает рутинные повседневные действия {85}, по крайней мере такие, которые относились к основной сфере его деятельности, навыки, владение которыми было ему важно и являлось составной частью его я-концепции. Вопрос о том, почему такие рутинные повседневные операции удается извлечь из памяти, до сих пор, насколько мне известно, наукой не изучен. Но две причины кажутся мне очевидными. Во-первых, важность этих действий для трудовой и прочей жизни субъекта вела к тому, что они в точности запоминались, а длительная практика способствовала тому, что они входили, как говорится, в плоть и кровь. Во-вторых, это в большинстве своем «невинные» знания и умения, которые не приходилось в последующей жизни истолковывать или перетолковывать в отличие, например, от ценностных ориентаций или проблематичного опыта {86}. Точность воспоминания связана не в последнюю очередь с тем, что респондент не может разглядеть связь вопроса со смыслом истории своей жизни. Такой связи, как правило, и нет; смысл вопроса устанавливается аналитически и касается условий жизни некоторой группы. Но косвенно такая связь может возникать при анализе текста интервью, потому что у исследователя есть возможность проверять опыт и оценки респондента на соответствие его же рассказам о повседневной жизни. Если такого человека просят дать сведения о повседневной жизни некоей группы, объединенной какой-то общей практикой, то его наивное воспоминание будет обладать потенциалом плотного описания {87}. В сочетании с воспоминаниями о сравнимых ситуациях это описание можно контролировать и доводить либо до насыщенного и освобожденного от индивидуальных особенностей описания структуры, либо до характеристики некоего габитуса, социального структурирования диспозиций для практики индивида {88}.
Но получать такую информацию посредством бесед – в полевой социологии их называют экспертными интервью – бывает порой трудно. От интервьюера требуется глубоко «входить» в материал, чтобы, с одной стороны, он сам понимал значение своих вопросов для своего исследования и обладал достаточным терпением, чтобы выслушивать подобные описательные воспоминания, а с другой стороны, мог на основе своих познаний задавать достаточно точные дополнительные вопросы, поддерживая процесс воспоминания о рутинных повседневных действиях (какие трудовые операции осуществлялись на том или ином рабочем месте, как проходил среднестатистический день и т. д.), и производить на респондента впечатление человека, которому стоит рассказывать подобные вещи. Для интервьюируемого же трудность заключается часто в том, что он не может понять смысл вопроса (например, такого: как были обставлены те три квартиры, в которых он последовательно жил в детские годы?), или что его раздражает тривиальность предмета, или он предполагает, что интервьюер обладает некими познаниями вообще либо по данной конкретной теме («Ну, девочка моя, вы же знаете, что в хозяйстве делать приходится»), в то время как это может быть не так. Но работа по воспоминанию подробных описаний повседневности предполагает преодоление таких коммуникативных барьеров с обеих сторон.
Субъективность опыта повседневности и паттерны собственного смысла, заложенного в повседневности, невозможно реконструировать из комбинаций воспоминаний таким же образом, потому что они, как правило, подвержены воздействию позднейших или поступающих извне (фактически или на взгляд респондента) толкований, так что сведения, сообщаемые в интервью-воспоминании, варьируют в соответствии не столько с мерой и характером участия респондента в этих повседневных делах, сколько с тем, что он прожил и передумал с тех пор. Но поскольку аспекты повседневности не только являются элементами специфических групповых структур, но и описывают зону практики индивида, то субъективное восприятие их измерений и внутренней структуры имеет особое историческое значение {89}: какого рода проблемы с какими партнерами можно решать в этих рамках? Для чего необходимы организационные или институциональные решения? Является ли восприятие смысла совместимым со структурами повседневности или компенсирующим их? Как приватный мир человека соединяется с более крупными жизненными структурами, которые создаются средствами массовой информации, рынками или центрами политической власти? Поэтому необходимо пытаться скорректировать искажения, вызванные «эффектом ностальгии», когда память реконструирует структуры значения повседневности для субъекта. Для этого существуют главным образом две возможности: по крайней мере постольку, поскольку сообщаемые респондентом толкования отклоняются от тех, что господствуют (фактически или на взгляд респондента) ныне, можно подозревать, что они «правильные», оригинальные. Но кроме этого можно проверять и совпадение между описанием деталей и истолкованием целого: организуют ли они материал, рассказанный человеком в воспоминании о его рутинных повседневных делах? Совместимы ли они с фактами, сообщаемыми в других сохранившихся свидетельствах?
Хороший пример этому мы находим в работах Франца-Йозефа Брюггемайера о культуре шахтеров в эпоху бурного роста горнодобывающей промышленности Рурской области на рубеже XIX-ХХ веков {90}. В беседах со старыми горняками Брюггемайер обратил внимание на то, что в свое нынешнее истолкование тогдашних условий жизни и труда они все время вносили элементы самостоятельности, свободы, трезвого расчета и кооперации. Это противоречило всему, что ученый прежде знал из источников той эпохи, где поведение этих рабочих описывалось как нестабильное и неадаптивное: исследователи интерпретировали его как нецелесообразный пережиток аграрных ценностей и как паттерн поведения, характерный для мигрантов, столкнувшихся с дисциплинарными требованиями индустриального образа жизни. Среднему наблюдателю самоинтерпретация шахтеров во время интервью кажется ностальгическим искажением действительности, потому что он рассматривает условия их жизни и труда как крайне убогие и неустойчивые, в то время как предпосылками для самостоятельности, свободы и т. п. он привык считать материальное благосостояние и уверенность в завтрашнем дне. Однако, точно реконструировав условия повседневной жизни и работы этих людей, исследователь обнаружил, что противоречия вовсе не было, потому что в специфических условиях принятой тогда групповой работы в забое, в условиях вынужденного общежития, в условиях высокой мобильности при большой потребности отрасли в рабочей силе, справляться с бытовыми тяготами можно было только развив в себе повышенную способность к кооперации и самостоятельно управляя собою.
Итак, опыт исследовательских проектов в жанре устной истории учит, что интервью-воспоминание в самом деле позволяет реконструировать повседневные рутинные действия и условия жизни, которые иначе – в отсутствие других источников – пришлось бы считать навсегда утраченными для истории. Кроме того, оно дает возможность получить их осмысление и истолкование из уст самих участников этой жизни. Но этот же опыт позволяет увидеть и границы возможностей такого подхода. Мои заключения на сей счет основаны на единичных наблюдениях и не подкреплены эмпирически, поэтому вполне возможно, что при дальнейшем эвристическом развитии дисциплины удастся преодолеть те ограничения, о которых я говорю.
По моим наблюдениям, повседневная рутина вспоминается и описывается тем лучше, чем она была предметнее и пластичнее, чем больше в ней находили применение практические навыки (в противоположность базовым теоретическим знаниям) и чем в большей мере ее смысл раскрывался в непосредственно проживаемых событиях – таких, как, например, употребление некоего продукта. Работник ремесленной специальности или домохозяйка, ведущая подсобное сельское хозяйство, мне кажется, гораздо лучше могут описать и истолковать свою работу в ходе интервью-воспоминания, чем, например, рабочий, стоящий у конвейера, или конторская делопроизводительница. Когда будни состоят в основном из тривиальных действий, эффект которых абстрактен, а ответственность распылена и смысл производимой работы можно оценить только в контекстах такого масштаба, который недоступен восприятию работника, так что он осмысляет свой труд в основном исходя из его оплаты и социального статуса, в таких обстоятельствах попытки человека во время интервью-воспоминания описать свою работу зачастую оказываются беспомощными, а его рассказ – о социальных отношениях, например, внутри административного учреждения – смешивается до полной неразличимости с показными утверждениями, направленными на поддержание чувства собственного достоинства {91}. Это, впрочем, относится не только к управленческой деятельности, но к большому и все увеличивающемуся сегменту трудовой жизни, организованной по современным стандартам.
Далее, в воспоминании – или в рассказе, адресованном более молодому и незнакомому человеку, каким является интервьюер, – отличия описываются более подробно, нежели сходства. Больше всего стимулируют память и просятся в рассказ именно те феномены повседневной культуры, которые не отвечают нынешним обычаям и ожиданиям, а порой и вовсе уже не встречаются более. А то, что тогда было примерно так же, как сейчас, расплывается в общей картине «обычной жизни», так что менее яркие отличия скрадываются. Четкие контуры достигаются лишь при сильной дифференциации, и в устно рассказанных историях специфику оттенков зафиксировать очень трудно. Опыт – и не только в нашем проекте – показал {92}, что воспоминания и спонтанность интервьюируемого ослабевают, когда рассказ доходит до 1950-х годов и отличия от сегодняшнего дня уже не радикальны, а скорее являют собой лишь количественные градации одних и тех же вещей. Возможно, это – специфика возрастной группы тех, кого сегодня чаще всего опрашивают (т. е. людей старше шестидесяти) {93}, но все же свидетельствует и о том, что в принципе континуитет мешает вспоминать, топя чуть более выпуклые и кажущиеся достойными упоминания вещи в море привычной повседневности.
В более общем плане можно сказать так: реконструкции повседневной жизни с помощью интервью-воспоминаний более успешны применительно к тем явлениям, которые еще имели место в жизни современников, но теперь уже в таком виде более не существуют, нежели к тем, которые возникли на их памяти и продолжают существовать ныне. Это может показаться историку банальностью; важная ограничивающая функция этого положения становится видна только если учесть, что оно относится к специфическому методу изучения современной истории. Потому что если современная история вообще чем-то отличается от прочей, то именно тем, что она изучает события и структуры, с которыми ныне живущие люди еще связаны непосредственными узами опыта и власти.
Опыт субъектов
Устная история – не панацея, но обеспечиваемые ею возможности дифференцированного восприятия как в социальной, так и в культурной истории повседневной жизни еще далеко не исчерпаны. И все же она – не только эвристический инструмент для заполнения лакун в изучении современной истории. Ее основная роль в исторической науке заключается в том, что она начинает демонстрировать исторически обусловленный характер и историческую практику массы субъектов (говоря коротко – «народа» {94}). Это ставит ее в один ряд с другими качественными методиками изучения такой социальной истории, которая находится под влиянием гуманитарных наук, прежде всего антропологии, и выступает все более в качестве критического потенциала в отношении двух так называемых парадигм (т. е. способов овладения организацией всего исторического знания) – традиционного историзма и так называемой исторической социальной науки (historische Sozialwissenschaft).
Традиционному историзму (в той его разновидности, которая стояла на точке зрения, близкой к точке зрения господствующих групп, т. е. считала общество конструктом, созданным антагонистической наукой, а народ как величину пренебрежимо малую оставляла без изучения, произвольно приписывая ему те или иные качества), исследователи, пытающиеся заниматься качественной социальной историей, противопоставляют конкретизированный взгляд с точки зрения народа (или, говоря академическим языком, демонстрируют относительную автономию социокультурных субструктур). Это видение не может быть полностью вписано в картину, как она видится с трона и с кафедры, – разве что в форме резидуальных категорий («антропологических констант») {95}.
Ведущие представители исторической социальной науки, похоже, усматривают некий вызов в том, что в качественной социальной истории их макросоциологический теоретический аппарат оказывается слишком громоздким, устаревшим и некритичным, что их апелляциями к критическому рационализму пренебрегают как практически бесполезным, бесплодным сужением палитры исторических средств познания и что в истории собственный смысл субъектов и миров их повседневного опыта оказывается не намного более удобным для синтеза, «чем в реальной жизни» {96}.
Но в обоих случаях разломы порою кажутся глубже, чем они есть на самом деле. Устная история и другие области качественной социальной истории по необходимости являются составными частями понимающей исторической и социологической науки. В истории они видят культурную зону, которую методами точных наук невозможно, да и не надо, полностью «разложить по полочкам». Представителей этих направлений роднит со многими представителями позднего историзма априорное суждение, что историю творят люди, – только они при этом имеют в виду гораздо большее число людей. Подобно исторической социальной науке, они стремятся расширить научный контроль исторических источников, им дороги демократия (даже в период между выборами) и рациональность (вплоть до познания ее границ), они опираются на традиции Просвещения – впрочем, не на рационализированный в ту эпоху буржуазный бред величия и не на приобретшую структурный характер лавину модернизирующей экспансии европейской буржуазии, а скорее на осознанную в то время необходимость самосозидания и саморефлексии общества {97}.
Что же в таком расширенном контексте означает сказанное выше о вкладе устной истории в прояснение и доведение до общего сведения исторически сложившегося характера и практики массы исторических субъектов? Речь при этом идет не столько о случившейся истории (или о реконструкции былых событий) – это может выяснить традиционная наука, которая есть и никуда не девается. Речь идет об эмпирическом приближении к значению истории в истории. Это я называю историей человеческого жизненного опыта: как переработка человеком впечатлений, воспринятых им ранее, задает структуру для переработки тех впечатлений, что будут восприняты им потом? С этим вопросом связаны наиболее интересные в настоящий момент исследовательские перспективы устной истории. Если же слова «восприятие впечатлений» в первом случае заменить на «габитус»[4 - В оригинале автором здесь использовано слово Pr?gung, употребляемое им в двояком смысле: 1) формирующее воздействие социальной среды и исторических обстоятельств на индивида или группу и 2) габитус, обусловленный этим воздействием.], а во втором случае – на слово «практика», то помимо осознанной связи между знанием, полученным из опыта, и способностью к формированию понятий и к ориентации в зону нашего внимания попадет гораздо более обширная зона социокультурно неосознанного: эта зона глубин относится к области истории опыта, но превращает ее одновременно в область междисциплинарную. И интервью-воспоминания способны внести вклад в ее исследование.
С тех пор, как с изветшанием идеалистической концепции развития «история духа» потеряла свой главный стержень, а экономический редукционизм, признав постулируемую структурализмом «относительную самостоятельность» надстройки, закончил свои дни, не осталось, насколько мне известно, более ни одной теории, которая претендовала бы на всеохватное объяснение связей между материальными, социальными и интеллектуальными изменениями в истории. В условиях такого дефицита в исторической науке экспериментируют со множеством концепций, которые в большинстве случаев представляют собой варианты «истории ментальностей» по модели школы «Анналов» – например, это история представлений или история эмоций {98}. Проблематичным в этих концепциях мне представляется то, что они искусственно изолируют культурный аспект и либо превращают его в статичную структуру, либо изучают его изменения в отрыве от социальных процессов: в первом случае получаются в результате структуры без истории, чья постулированная «большая длительность» в современной истории не могла бы выглядеть убедительно; во втором случае в результате получается расширенная в социальном направлении «история духа», только лишенная своего идеалистического или вообще всякого фундамента.
Понятие опыта в том виде, в котором применил его к социальной истории в 1960-е годы Эдуард Томпсон {99} (и в котором оно тогда вообще стало одним из главных понятий «новых левых»), имеет преимущества перед ними – во всяком случае если его освободить от встроенного в него в свое время оптимизма. Это понятие связывает действующие ценностные традиции и мыслительные структуры с восприятием совокупности структурных условий и происшествий, толкуемых как исторические события. Оно открыто для дальнейших интерпретаций на основе новых впечатлений и соединяет индивидуальные и коллективные впечатления и истолкования, в том числе и те, что приходят извне {100}. Это понятие нацелено не на антикварскую пустоту некоей «ментальности», а на восприятие и истолкование будущих событий и обстоятельств субъектами опыта. Благодаря этому понятие опыта может, с одной стороны, связаться с их (субъектов) практикой, а с другой стороны – исторически – с нашим собственным опытом.
Но, сосредоточившись на эффекте коллективного опыта борьбы, создающего единое сознание группы, «новые левые» разрабатывали только один – так сказать, самый верхний – слой опыта: историю событий и конфликтов. Этот уровень особенно привлекателен и для тех, кто принимал активное участие в событии, и для тех, кто занимается исторической реконструкцией сознания: ведь здесь, под влиянием обстоятельств совместной борьбы, восприятие опыта неизбежно очень плотно проговаривается, обсуждается, на уровне сознания переводится в действие; это подчиняет мыслительные процессы ритму событий и порождает подлинные валы исторических свидетельств, в которых могут потом копаться археологи сознания. Только после событий можно разобраться: в какой мере продуктивность сознания, вызванная борьбой и образованием в ее ходе общностей, проявила также и более глубоко лежащие слои опыта участников (чем и обусловлена ее роль для будущей практики)? Не получилось ли так, что ситуация борьбы стала своего рода опьянением, а потом следует похмелье и возврат в совсем другую повседневность? {101}
Если же для освещения упомянутых «более глубоко лежащих слоев», которые связывают актуальное сознание с более долгосрочными структурами жизненных условий, ввести в анализ структурные концепции из общественных наук или из антропологии, то неизбежно останется мыслительный зазор между экспрессивной субъективностью сознания и сконструированной объективностью структур. В этом зазоре сознания прорастают семена обвинений в «ложном сознании» или «просветительском высокомерии».
Пьер Бурдье, отправляясь от иной постановки проблемы (он хотел в своих этнологических штудиях снять противоречие между структурализмом и феноменологией), попытался закрыть этот зазор с помощью своей теоретической схемы «габитуса» и «практики» {102}. Его основная мысль проста и убедительна: Бурдье указывает на то, что габитус и практика не замкнуты друг на друга, они соединяются при посредстве биографии. Интериоризованные в ходе социализации структуры, которые царят в социокультурном окружении субъекта, становятся его второй натурой. Специфическое для каждой социальной группы своеобразие этой второй натуры Бурдье называет габитусом: это в значительной мере неосознаваемые, долговременные установки, структурирующие будущие действия, но не в качестве вечного механического рефлекса, а в качестве проявления «всего прошлого опыта» {103}. Этот подземный канал второй натуры как забытой истории позволяет Бурдье избежать механиcтичности в описании связей, не впадая при этом в противоположную крайность субъективистского произвола. Он открывает общественные структуры для истории, причем ровно настолько, насколько это необходимо для движения окольным путем через структрурирование опыта субъектов и обусловленное опытом структурирование их практики.
Теоретическая концепция Бурдье прекрасно вписывается в зазор между теми аспектами опыта, которые субъект осознает, осмысливает в своей практике и которые благодаря этому становятся потенциальным материалом исторических источников и поддаются историческому изучению, – и глубинными слоями его характера, обусловленного социокультурными структурами. Историческое и социологическое изучение таких структур, конечно, тоже возможно, однако в биографии связь между ними просматривается с трудом. Под влиянием психоанализа была выдвинута гипотеза, что рано приобретенные установки сохраняются в неосознанном виде и от случая к случаю структурируют практическую деятельность человека, – и в том, что касается первичной социализации (прежде всего применительно к средним слоям индустриальных стран ХХ века), ей найдено множество эмпирических подтверждений. Но c ренессансом психоаналитического интереса к теории культуры (или ко вторичной социализации) возникает критическая ситуация, в которой становятся необходимы междисциплинарные усилия (такие как этнопсихоанализ), поскольку психоаналитический сеттинг, в котором можно ухватить биографическую правду, здесь наталкивается на границу своих возможностей переноса {104}. И схема Бурдье, разработанная на материале сравнительно статичных и элементарных условий, не дает ответа на вопросы: какие структуры и когда обнаруживают свое действие по формированию установок? Как ступени социализации, которые могут быть структурированы различными окружающими средами, соединяются и приспосабливаются друг к другу в опыте индивида? Какие воздействия на соотношение габитуса и практики могут оказывать конкурирующие структуры (например, у лиц, осуществляющих быструю восходящую социальную мобильность) или сильные и долговременные перемены в структурах окружающего мира (например, во время войны или после изгнания)? Список вопросов быстро удлиняется, как только мы начинаем исторически изучать тот или иной габитус {105}.
При таком количестве вопросов без ответов мне представляется тем более осмысленным обратить внимание на историю человеческого жизненного опыта – такую, которая не оттесняется на задний план изучением господствующих структур, а противодействует расплывчатости связанных с таким изучением исторических представлений (вроде «социальные изменения») и фаталистическому блеску сконструированных якобы собственных закономерностей структурных перемен – противодействует за счет того, что биографическим методом исследует реальную силу воздействия этих структур {106}. При этом не только приобретается знание о практических возможностях действия субъектов, но эти возможности расширяются. Ведь если прав Бурдье, говоря, что габитус субъектов, который неосознанно структурирует их деятельность, стал их второй натурой, т. е. что «забытая история» составляет большую часть их опыта, то воспоминание этой истории и ее изучение может повысить способность субъектов к самоопределению. Интервью-воспоминание затрагивает эту область, хотя и не может ее заполнить или структурировать; но оно встречается с проблемами психоанализа на пороге полового созревания, так сказать, с другой стороны {107}.
Мне кажется, что значительная доля интереса к устной истории происходит именно от непроясненных ожиданий в этом направлении. Какой вклад она могла бы внести в такую историю человеческого опыта? Например, она точно не могла бы заниматься изучением второй натуры человека на основе «репрезентативной выборки» жизненных историй, потому что количество интервью-воспоминаний, которые можно провести и проанализировать, всегда невелико, к истории раннего детства респондента и к большей части тех тем, которые он считает приватными, с таким инструментарием подступиться невозможно, а стало быть важные факторы, определившие его личность, останутся вне зоны внимания исследователя. Однако, интерактивная работа памяти в интервью-воспоминании (и в этом его отличие от прочих видов нарративных интервью) выводит на поверхность не только тот опыт, который консолидировался в сознании, но и множество следов забытой истории, указывающих на ту ее сторону, которая обращена к общественной сфере. Большая часть пластичных историй в памяти респондента происходит из встреч с чем-то новым, а значит открывает доступ к интериоризованной допонятийной интуиции, указывающей на отсутствие в тот момент соответствующей предиспозиции. При упорядочивании биографических историй, сложившихся под влиянием сравнимых социокультурных структур, можно обнаружить постпубертатные элементы того, что Бурдье называет габитусом.
В то же время, материал наших интервью показывает, что в условиях переломов, охватывающих все общество и глубоко затрагивающих жизнь индивида, его опыт определяется не только установками, приобретенными в раннем возрасте, но и складывается в процессе постоянного взаимодействия с проблемами и возможностями, которые предъявляет ему общество. Для изучения истории опыта в этом смысле интервью-воспоминания могут создать важную, – а при том, сколько разрывов и переломов в немецкой истории, зачастую и единственную – источниковую базу. Здесь мы тоже можем воспользоваться тем, что в биографическом рассказе излагаются по преимуществу встречи с чем-то новым, не вполне вписывающимся в существующие ментальные структуры, – а таких встреч на переплетающихся жизненных путях, особенно в 1940-е годы, бывало много почти у каждого. С другой стороны, отбор таких рассказов, их комментирование и использование в качестве аргументов, а также обнаруживающиеся в некоторых случаях следы позднейшей их обработки позволяют рассмотреть процессы ретроспективной интерпретации и переработки, которые определяются структурой опыта данного индивида, нормами его группы, существующими в «большой» культуре готовыми интерпретациями и цензурными ограничениями (особенно когда их направленность за время между событиями и рассказом поменялась), а порой и спроецированными ожиданиями интервьюера, которые передались респонденту. Пристальное изучение текста позволяет зачастую обнаружить в интервью следы, на основе которых этот многослойный конгломерат из остатков пережитого, преданий и сегодняшней их обработки можно раскладывать на временные пласты.
Тем самым начинает раскрываться континуитет опыта, сохраняющийся несмотря на все социальные или политические переломы и разрывы, в которых пресекаются или меняют угол освещения архивные данные и которые часто – за счет того, что принятые прежде толкования утрачивали убедительность или становились бесполезными, – обусловливали расхождение между личным опытом и теми интерпретациями, которые предлагало общество. Поэтому для исторического восприятия подводного течения народного опыта необходим «окольный путь» через индивидуальную биографию. Я хотел бы привести два примера из нашего проекта, которые на разных уровнях народного опыта освещают проблему вытеснения и того, как удается его не допустить.
В описаниях того, как люди жили и работали во время войны, на сцене зачастую присутствует огромное число статистов-иностранцев, в то время как при проблематизации национал-социализма, как правило, упоминаются война как таковая и преступления против евреев, но не пригнанные в Германию подневольные рабочие. Если же интервьюер спрашивал респондента именно о них, то лишь в отдельных случаях возникала реальная фигура кого-то из этих иностранцев, наделенная именем, лицом и голосом; в подавляющем же большинстве случаев наблюдалось две стереотипные реакции: во-первых, рассказчик уверял, что частенько приносил подневольным рабочим «бутерброды», а во-вторых, указывал на то, что, освобожденные весной 1945 года, они занимались грабежами и вымогательством. То есть, с одной стороны, подчеркивается собственное человечное поведение перед лицом бесчеловечной системы, но, с другой стороны, эта система в тенденции оправдывается последующим поведением ее жертв. Рассказ о том и о другом позволяет респонденту двояким образом освободиться от требования глубже соединить свой собственный опыт со смысловым и ценностным вопросом об оценке национал-социализма. Однако это – сравнительно поверхностный рефлекс вытеснения: ведь в отличие от вопроса об антисемитизме, который в послевоенное время был обстоятельно проработан институциями, формировавшими общественное мнение, в Германии никогда не ставилась публично проблема подневольных рабочих и военнопленных. Поэтому они, с одной стороны, не вытеснены из воспоминаний о войне, но, с другой стороны, не интегрированы в сознательный исторический опыт. Воспоминания о них респонденты излагают в интервью в необработанном виде, зачастую даже еще с исходной национал-социалистической лексикой и интонацией. Это указывает не только на прошлое – на то, как широко восприняты были нацистские интерпретации этой темы, но и на будущее – на подготовку немцев к приему послевоенных «гастарбайтеров» (это понятие тоже было введено нацистами) {108}.
В качестве второго примера я выбрал три любовных истории Моники Хертель {109}. Рассказывая о своей жизни, работавшая делопроизводительницей госпожа Хертель аккуратно наделяет каждую из этих любовей неким высшим смыслом: ее «первой любовью» был племянник лучшей подруги ее матери. Обе женщины споспешествовали нарождавшимся отношениям, и сегодня Моника думает, что не выбралась бы из них; но она стала последней любовью юноши – в самом начале войны он умер от ранения в живот. «Большая любовь» к некоему архитектору вывела Монику из ее узкого жизненного окружения, пробудила в ней страсть и способствовала ее культурному развитию; но в конце войны ее возлюбленному пришлось надзирать за заключенными из Дахау, работавшими на производстве, и последнее, что госпожа Хертель о нем знает, – это то, что у него были депрессии и что в это время он зачал ребенка с другой. Прошло несколько лет, и она повстречала одного случайного знакомого: он когда-то давно один раз увидел ее на темном перроне и потом писал ей письма из британского плена, а теперь он вернулся, они увидели друг друга при свете дня, и это была «любовь с первого взгляда». Этот мужчина стал ее мужем, но перед этим ей пришлось испытать утрату – утрату уважения и перспектив. Ее друг в годы войны сдал экзамен на аттестат зрелости и прошел ускоренные педагогические курсы, в 1947 году он получил место. А в 1948 году после денежной реформы, когда стали снова брать на службу тех уволенных прежде преподавателей, кто прошел денацификацию и имел на иждивении семьи, его должны были уволить. Чтобы этого не допустить, влюбленные срочно поженились, но у них не было ничего, и прежде всего – своей квартиры. Возвращенная после крушения национал-социализма власть родителей над детьми (она считалась на Рейне антифашизмом) осуществлялась путем распоряжения жилплощадью: живя у родителей, приходилось им подчиняться. Несмотря на официальную регистрацию брака, родители мужа настояли на том, чтобы молодые воздерживались от половой жизни, пока не получили через год собственную квартиру и не смогли обвенчаться в церкви. А в течение этого года свекровь вела себя по отношению к сыну так, будто он все еще был тем подростком, которого у нее почти десять лет назад отобрала война. Отставной офицер-летчик покорялся матери, а жена не хотела потерять свою третью любовь, поэтому подчинялась ханжеской тирании, отказалась от мечты о высшем образовании, а потом и от работы, на которой она зарабатывала больше мужа и которой была довольна. В конце концов они пришли к тому, что стали стандартной немецкой семьей 1950-х годов. Но своим детям госпожа Хертель – именно исходя из опыта трудного начала своего удачного брака – предоставляет больше свободы, поддерживает их любовные отношения, помогает им повышать профессиональную квалификацию. Ее идеалы воспитания – ответ на ту душную семейную атмосферу послевоенных лет, которая грозила покалечить ее третью любовь. Она хочет, чтобы ее детям досталось то, что у нее отняла социальная смерть ее «большой любви». И похоже, что пользуется она при этом теми средствами, которые пролагали дорогу ее «первой любви» до войны.
В этой истории содержатся кусочки мозаики, из которых, соединив их с другими похожими рассказами, можно реконструировать последовательную смену ценностей и поведенческих паттернов, которым подчинялись семейная жизнь и сексуальное поведение в 1930–1940-х годах и которые изменялись во взаимодействии с быстро менявшимися условиями жизни. Но помимо этого эта история демонстрирует удачное, на мой взгляд, построение первичного исторического опыта, в котором утраченное не поглощается сохраненным, воспоминания допускаются в сознание вместе со связями с социальными условиями и наделяются печалью, любовью и смыслом, а опыт прошлого становится обоснованием для взглядов, руководящих поступками. В качестве множества рассказы о схожем опыте могли бы внести вклад в понимание новых стилей воспитания и конфликтов поколений в 1950-е годы и позже, помочь понять их дефицит смысла, когда они отделяются от исторических условий своего возникновения и обоснования и конвенционализируются.
Анализируя одно отдельно взятое интервью с позиций истории человеческого жизненного опыта, нельзя изменить нашу картину современной истории. Интервью само по себе может только продемонстрировать распространенные паттерны и их исторически специфическое воздействие, их усвоение, отвержение или иную переработку в индивидуальном опыте. Эти указания – не доказательства, с помощью которых можно было бы сделать новые тезисы неуязвимыми для критики. Ответы респондентов скорее служат основой для вопросов к нашему историческому знанию; с одной стороны, они способствуют расширению наших исследовательских стратегий, а с другой стороны – вмешиваются непосредственно в историческую коммуникацию как свидетельства субъектов. Но их интерпретация может быть расширена до масштабов социальной истории человеческого жизненного опыта в той мере, в какой исследователю удастся путем анализа многочисленных интервью продемонстрировать регулярность таких установленных соответствий и способов переработки в продольном хронологическом срезе и упорядочить их с позиций социальной истории. Для этого необходима связь с исследованиями по структурной истории (в том числе психоистории), которые могут использовать применительно к более ограниченным отрезкам времени любые фрагментированные виды исторических источников для уточнения наших знаний о структурах условий и действий. С одной стороны, это даст нам принципиальный ориентир для упорядочивания материала, с другой – позволит историзировать эти исследования за счет привнесения в них перспективы субъектов.
Примечания
{1} Интервью с Антоном Кроненбергом, кассета 11, 1. Интервьюер – Александр фон Плато.
{2} Отчетливее всего это можно видеть по двум главным периодическим печатным органам этого направления – журналам Oral History (University of Essex, Colchester, England) и International Journal of Oral History (Meckler, Westport Conn.), по французскому Bulletin d’institut d’histoire du temps present (см., в частности, номер, посвященный круглому столу на тему «Проблемы и методы в устной истории», 1980), а также по сборникам материалов международных конференций: Our Common History: The Transformation of Europe / Ed. by P. Thompson. London, 1982 (Colchester, 1979); Papers presented to the International Oral History Conference. Amsterdam, Oct. 1980 / Hekt. ed. Jaap Talsma u.a.; IVe Colloque international d’Histoire orale. Aixen-Prove nce, Sept. 1982 / Hekt. ed. Philippe Joutard u.a.; V Colloqui Internacional d’Historia Oral: El Poder a la Societat. Barcelona, Mar. 1985 / Ed. Mercedes Vilanova. В немецкоязычном ареале см. сборники: Lebenserfahrung und kollektives Ged?chtnis: Die Praxis der Oral History / Hg. von L. Niethammer, W. Trapp. Frankfurt a. M., 1980 (2-е изд.: 1985); M?ndliche Geschichte und Arbeiterbewegung: Eine Einf?hrung in Arbeitsweisen und Themenbereiche der Geschichte geschichtsloser Sozialgruppen / Hg. von G. Botz u.a. Wien; K?ln, 1984. Классическим введением в проблематику являются работы: Thompson P. The Voice of the Past. Oxford, 1978; Joutard P. Ces Voix qui nous viennent du Passе. Paris, 1983.