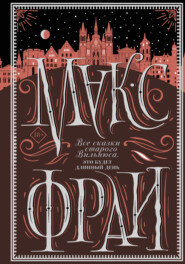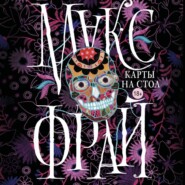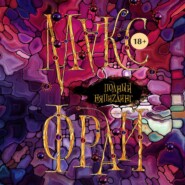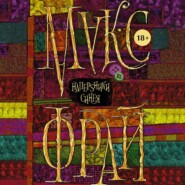По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказки нового Хельхейма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А сколько сейчас уходящих в Ирали? – спрашивает мэр Шуман. – Скольких нам надо вернуть?
Таис Михайловна морщит лоб, наконец признаётся:
– Точно не вспомню, чуть больше тысячи. Но многие из них сейчас дома, и с ними не будет проблем. Те, кто сейчас в Ирали, во Тьму за Ворота отсюда уже не вернутся. Ворота закрываются одновременно с обеих сторон.
Присутствующие переглядываются, наперебой говорят: «Ну надо же!» «Вот это отличная новость!» «Ого!» «А Карина сегодня дома?» «Так, узнаю сейчас». Несколько человек, не извинившись, выскакивают в коридор. Таис Михайловна ужасно не любит, когда разводят бардак, но сейчас говорит оставшимся:
– Кому надо своим позвонить, вперёд. Потом мне расскажете. Всё равно первым делом надо составить список, кто дома, а кто во Тьме за Воротами, вот сейчас и начнём.
* * *
Телефон в кармане передника рычит и мяукает, это папин звонок. Нина отдаёт нож помощнику: «Всё, что в миске осталось, тонкой соломкой», – выходит на задний двор, достаёт телефон, отвечает: «Да, на работе, но всё нормально, могу говорить». Отвечает: «Да всё отлично, а как ещё у нас может быть?» Отвечает: «Нет, сегодня без Микаэлы. Ну как – куда делась? Ушла. Да, во Тьму за Воротами; нет, не сегодня, вчера. Надеюсь, к ночи вернётся, потому что завтра у нас ужин районного братства электриков, и она мне тут позарез… что, папа? Я не расслышала. Как?!»
Нина ещё долго слушает папу, время от времени отвечает: «Да, конечно. Я тоже верю. Иначе не может быть. Ты сейчас один, или с дядей?.. А, понятно. Если твоё совещание до ночи закончится, ужинать к нам приходи». Наконец кладёт телефон обратно в карман поварского передника, садится прямо в траву и рыдает так горько, как не плакала даже в детстве, потому что в детстве ничего особо плохого с ней не случалось. Ну, упала, разбила коленку, поссорилась с другом, или новенький плащ порвала – довольно обидно, но не причина по-настоящему горевать.
И что Мика, сестричка иногда уходила во Тьму за Воротами, это тоже было не горе. Ну, подумаешь, с кем не бывает, ушла и пришла. Папа ей объяснил, что это нормально, некоторые люди рождаются уходящими, с ними трудно, зато у них интересная жизнь. И волноваться о них не надо, уходящие всегда возвращаются – это закон природы, правило, аксиома. До сих пор была аксиома. Была.
* * *
– А ты никому позвонить не хочешь? – спрашивает Светка. – Твой телефон наверное остался в кармане спецовки? Я к машине сбегаю, принесу?
– Спасибо, не надо, – улыбается Юри. – У меня как-то так получилось, что из всех знакомых уходящие только соседка и бывший тренер по плаванию, но у него я в детстве учился, давным-давно. А! И однажды, когда мы в школе учились, и я ещё не был джинном, познакомился в парке на танцах с девчонкой из квартала Дар-Дри, так она сразу расхвасталась, что уходящая, целых две жизни живёт. Но та история ничем не закончилась. Она даже не сказала мне свой телефон.
– Она что, внезапно дома во Тьме проснулась? – восхищается Светка. – Прямо во время танца ушла?
– Да нет же! – смеётся Юри. – Просто после танцев за ней ухажёр приехал на мотоцикле. Загорелый красавчик ростом до потолка.
– Подумаешь! – обиженно фыркает Светка, словно это её, а не Юри та девчонка отшила. – Приедь за мной хоть десяток загорелых красавчиков на мотоциклах, я бы тебе всё равно свой номер дала.
– Хорошо, я это запомню, – говорит Юри, закрывая глаза, потому что спать ему хочется невыносимо. – Джинны, конечно, не могут крутить романы; по-моему, это мы зря. Но ты учти, у моего деда призвание оказалось довольно короткое, в тридцать пять уже вышел в отставку, и понеслось – ух как он зажигал! Если я в него уродился, берегись, проходу тебе не дам.
– Напугал ежа голой задницей, – улыбается Светка. Но Юри её не слышит. Он уже крепко спит.
* * *
– А что происходит с телом? – взволнованно спрашивает Таис Михайловну её коллега, Пётр Шуман, начинающий мэр.
– С каким телом?
– С телом уходящего, который больше никуда не уходит, а навсегда остаётся дома, у нас. Они же – ну, чисто технически – спят во Тьме за Воротами, пока здесь живут. И теперь, получается, будут спать вечно? До конца жизни? Летаргический сон? А если… ну, слушай, они там, за Воротами, странные. Вдруг кого-то похоронят живьём?
– А, вот ты о чём, – кивает Таис Михайловна. – Да, это поначалу очень всех волновало, когда Ворота закрылись во время большой войны. Но оказалось, вообще не проблема. Тело исчезает из Тьмы; не знаю, как окружающие объясняют его исчезновение – сбежал? похитили? вместе с пальто и ботинками съел людоед? Но это уже не наша с тобой забота, пусть они там выкручиваются, как хотят. Главное, сам уходящий живёт потом дома до старости, или сколько ему отмерено, без каких-то особых проблем. У всех, кого тогда из Тьмы вывезли, была хорошая, долгая жизнь. Так что для людей это, знаешь, скорее везение, чем трагедия. Я на самом деле рада за них.
– Но две жизни всё-таки лучше одной, – неуверенно говорит мэр Шуман. – Или нет? У меня близкий друг уходящий, это я ему сейчас бегал звонить…
– Застал? – перебивает его Таис Михайловна. – Имя, фамилия? Я отмечаю в списке, кого из уходящих не надо из Тьмы забирать.
– Да, конечно. Ваня Гонзалес. Он дома, у него всё в порядке. Только после нашего разговора слегка беспокоится, не везут ли сейчас его хоронить. Я поэтому тебя про тело спросил.
– Можешь его успокоить, – улыбается Таис Михайловна. – В самом худшем случае, обратятся в полицию по поводу загадочного исчезновения, если найдётся, кому.
– У него там, вроде, семья большая; ладно, что делать, как-то переживут. Раньше, пока Ворота были открыты, я ему немного завидовал. Две жизни всё-таки. Разные. Целых две! Ваня мне много рассказывал о той, второй. По уму-то, особо завидовать нечему, лично я бы от такой жизни взвыл. Но интересно же – жуть! Во Тьме за Воротами всё совсем иначе устроено. Там и люди другие, и мир не такой, как Ирали, и в целом вся жизнь. На нашу ни капельки не похожа. Совсем!
– То-то и оно, – вздыхает Таис Михайловна. И помолчав, добавляет: – У нас, конечно, считается, что быть уходящим и жить сразу две жизни – хорошая, удивительная судьба. И это правильно: если уж уходящий таким родился и ничего изменить не может, пусть лучше думает, что ему повезло. Но ты-то не уходящий, и тебе я могу сказать откровенно: по-моему, нет ничего хорошего в том, чтобы время от времени становиться человеком из Тьмы. Я бы так не хотела. Рада, что не родилась уходящей. А вот кому я действительно с детства завидую, так это сидам.
– Завидуешь? Ты?!
– Ну, сейчас уже не особо, – смеётся Таис Михайловна. – А в юности – у-у-у-у! Они же, заразы такие, лучше всех устроились. Ходят во Тьму за Ворота, гуляют там, сколько захочется, видят странное и на зуб его пробуют, а себя не теряют. Всё помнят. Вот это действительно шикарная жизнь!
* * *
Мика просыпается от удара. То есть, на самом деле, никто её не ударил, ещё чего не хватало. Ей приснился этот удар. Как будто об стену стукнулась. Ну или не об стену, чёрт его разберёт. Мике больно, хотя на самом деле не больно. Боль – это просто сон.
Мало того, что наяву жизнь хоть вешайся, так ещё и снится всякая дрянь, – сердито думает Мика. Она сейчас, конечно, излишне драматизирует и сама это понимает. Нормальная жизнь, с чего бы вдруг вешаться. По сравнению с большинством знакомых, – думает Микаэла, – моя жизнь практически рай. Денег на всё хватает. И сын нормальный, не наркоман. И бывший муж не мудак, нормально с сыном общается, дарит гаджеты, забирает его на каникулы, учит чему-то там. И мама… ладно, не будем про маму. Главное, что жива.
Мика берёт телефон, смотрит время. Пять утра, господи, всего пять утра! Ещё два часа спать можно, – думает Мика. – Ай, нет, завтрак же надо ребёнку. Окей, полтора.
Мика сладко потягивается, укрывается с головой одеялом, закрывает глаза. Но заснуть, конечно, больше не может. Сердце до сих пор так колотится, словно чудом ушла от погони. Или наоборот, не ушла?
Проворочавшись час с боку на бок, Мика встаёт и идёт умываться. Ясно, что поспать уже не получится, так хоть соберусь раз в жизни спокойно, не второпях, – думает Мика, включая лампу над раковиной. Кто это?! А-а-а-а-а! – не кричит, а сдавленно стонет Мика, выскакивая из ванной. Даже сейчас, до полусмерти напуганная, она помнит, что ребёнка воплями нельзя будить. А потом так же беззвучно давится смехом, сообразив, что сама себя напугала. Над умывальником висит зеркало. Зеркало! А вовсе не вход в населённый демонами и чудовищами фантастический мир, – говорит себе Микаэла. И безжалостно добавляет: – Просто я очень некрасиво старею. Что вполне неизбежно с таким мясистым лицом.
* * *
Юри спит и слышит сквозь сон голос Таис Михайловны и другие знакомые и незнакомые голоса. Они говорят: «Завтра у нас будет полный список». Они говорят: «Работа для сидов». Они говорят: «Через два часа». Они говорят: «Он дома, в порядке, просто крепко после дежурства спал». Они говорят: «Тромбонист из шкафа». Они говорят: «И Большого Эла жена». Они говорят: «Проблема, что разные города». Они говорят: «Не проблема». Они говорят: «Грузовик», – Юри даже во сне узнаёт голос соседа дяди Георгия и бормочет, едва ворочая языком: «Завтра доделаю, там работы осталось максимум на два часа». Дядя Георгий, или кто-то похожий укрывает его вторым одеялом, говорит: «Я и не сомневаюсь, ты спи давай».
Юри долго просить не надо, он опять засыпает, вернее, проваливается в сон, как в бездонную пропасть, но не страшную, а сладкую, родную, знакомую. Это похоже не на падение, а на счастливый неспешный полёт.
Юри падает в сон, как в пропасть и слышит сквозь пропасть-сон голос Таис Михайловны: «Все, кому снится Ирали, должны вернуться домой».
* * *
Ева обычно курит немного – утром одна сигарета за кофе, ещё одна за работой, ради паузы, во время которой отстранённо, как бы чужими глазами смотришь на холст; иногда, если есть настроение, вечером после ужина, под вино. Но сейчас ещё нет полудня, а это уже шестая, Ева курит буквально одну за другой. Теперь понятно, – равнодушно думает Ева, – почему с курением так в последние годы борются: оно делает жизнь выносимой. А выносимой жизни нам тут не положено, не заслужили, плохо себя вели.
Ничего не случилось. Нет, правда, ничего не случилось, отлично идут дела: галеристка звонила, продала три картины; в новостях написали, что комендантского часа не будет; пришла наконец посылка с новенькой зимней паркой, и она подошла. Всё хорошо, – говорит себе Ева, – не ной, малахольная, незачем бога гневить.
Только и горя, что во тьме под закрытыми веками по утрам больше не бывает картин – ни незнакомых любимых лиц, ни нездешних пейзажей, ни натюрмортов со странными овощами, похожими на тропических птиц. Только какие-то чёрточки, звёздочки, точки, расплывчатый фейерверк; вроде, «фосфены» оно называется, или как-то похоже, это бывает у всех. Но это не повод впадать в уныние, – говорит себе Ева, – ты давай, дорогая, держись. Раньше были чудесные утренние видения, ну и скажи спасибо за роскошный подарок, с чего ты взяла, что так будет всю жизнь?
А может быть, просто возраст? – думает Ева. – Приближается климакс? Давай посмотрим правде в глаза, дорогая, пора. Нормальные тётки больше рожать не могут, а у художниц он проявляется так?
От этих мыслей Еве окончательно становится тошно. Почему сразу возраст и климакс? Человек – не только физиология. Люди сложнее устроены; уж я-то – точно сложней. Не спеши обесценивать чудо, даже если оно катастрофа, – говорит себе Ева. – Кроме так называемых «очевидных» может быть куча других причин. Лучше быть растерянной дурой, чем несчастной, всё правильно понимающей умницей, мне ли не знать.
Может, я запрет какой-нибудь тайный нарушила? – думает Ева. – Совершила нечаянно смертный грех? Не дала денег нищенке? Оскорбила кого-нибудь в интернете? С соседкой не поздоровалась? Съела в гостях колбасу? Чем угодно можно прогневать высшие силы, они у нас нервные, и их можно понять. А может, просто Земля вошла в какой-нибудь коридор затмений? Ну или не Земля. Кто-то зачем-то вошёл в коридор затмений, а я типа крайняя, отдувайся теперь за всех, – говорит себе Ева и почти помимо воли смеётся: ну я и дурища! Ну сочинила! Коридор затмений! Колбаса! Смертный грех!
Ева гасит седьмую уже сигарету и подходит к холсту – даже не серому, цвета отсутствия цвета, испещрённому мелкими бледными точками, пятнами, кляксами; если долго смотреть, не моргая, кажется, что они начинают дёргаться и мельтешить.
Ева, никуда не денешься, реалист. Поэтому лишившись своих чудесных видений, она рисует их отсутствие. Наступившую невозможность картин под закрытыми веками. Невыносимую пустоту.
Никуда не годится, – говорит себе Ева, глядя на бледные пятна. – Цвет я, вроде, поймала. Но это должна быть не грязь, а свет.
Таис Михайловна морщит лоб, наконец признаётся:
– Точно не вспомню, чуть больше тысячи. Но многие из них сейчас дома, и с ними не будет проблем. Те, кто сейчас в Ирали, во Тьму за Ворота отсюда уже не вернутся. Ворота закрываются одновременно с обеих сторон.
Присутствующие переглядываются, наперебой говорят: «Ну надо же!» «Вот это отличная новость!» «Ого!» «А Карина сегодня дома?» «Так, узнаю сейчас». Несколько человек, не извинившись, выскакивают в коридор. Таис Михайловна ужасно не любит, когда разводят бардак, но сейчас говорит оставшимся:
– Кому надо своим позвонить, вперёд. Потом мне расскажете. Всё равно первым делом надо составить список, кто дома, а кто во Тьме за Воротами, вот сейчас и начнём.
* * *
Телефон в кармане передника рычит и мяукает, это папин звонок. Нина отдаёт нож помощнику: «Всё, что в миске осталось, тонкой соломкой», – выходит на задний двор, достаёт телефон, отвечает: «Да, на работе, но всё нормально, могу говорить». Отвечает: «Да всё отлично, а как ещё у нас может быть?» Отвечает: «Нет, сегодня без Микаэлы. Ну как – куда делась? Ушла. Да, во Тьму за Воротами; нет, не сегодня, вчера. Надеюсь, к ночи вернётся, потому что завтра у нас ужин районного братства электриков, и она мне тут позарез… что, папа? Я не расслышала. Как?!»
Нина ещё долго слушает папу, время от времени отвечает: «Да, конечно. Я тоже верю. Иначе не может быть. Ты сейчас один, или с дядей?.. А, понятно. Если твоё совещание до ночи закончится, ужинать к нам приходи». Наконец кладёт телефон обратно в карман поварского передника, садится прямо в траву и рыдает так горько, как не плакала даже в детстве, потому что в детстве ничего особо плохого с ней не случалось. Ну, упала, разбила коленку, поссорилась с другом, или новенький плащ порвала – довольно обидно, но не причина по-настоящему горевать.
И что Мика, сестричка иногда уходила во Тьму за Воротами, это тоже было не горе. Ну, подумаешь, с кем не бывает, ушла и пришла. Папа ей объяснил, что это нормально, некоторые люди рождаются уходящими, с ними трудно, зато у них интересная жизнь. И волноваться о них не надо, уходящие всегда возвращаются – это закон природы, правило, аксиома. До сих пор была аксиома. Была.
* * *
– А ты никому позвонить не хочешь? – спрашивает Светка. – Твой телефон наверное остался в кармане спецовки? Я к машине сбегаю, принесу?
– Спасибо, не надо, – улыбается Юри. – У меня как-то так получилось, что из всех знакомых уходящие только соседка и бывший тренер по плаванию, но у него я в детстве учился, давным-давно. А! И однажды, когда мы в школе учились, и я ещё не был джинном, познакомился в парке на танцах с девчонкой из квартала Дар-Дри, так она сразу расхвасталась, что уходящая, целых две жизни живёт. Но та история ничем не закончилась. Она даже не сказала мне свой телефон.
– Она что, внезапно дома во Тьме проснулась? – восхищается Светка. – Прямо во время танца ушла?
– Да нет же! – смеётся Юри. – Просто после танцев за ней ухажёр приехал на мотоцикле. Загорелый красавчик ростом до потолка.
– Подумаешь! – обиженно фыркает Светка, словно это её, а не Юри та девчонка отшила. – Приедь за мной хоть десяток загорелых красавчиков на мотоциклах, я бы тебе всё равно свой номер дала.
– Хорошо, я это запомню, – говорит Юри, закрывая глаза, потому что спать ему хочется невыносимо. – Джинны, конечно, не могут крутить романы; по-моему, это мы зря. Но ты учти, у моего деда призвание оказалось довольно короткое, в тридцать пять уже вышел в отставку, и понеслось – ух как он зажигал! Если я в него уродился, берегись, проходу тебе не дам.
– Напугал ежа голой задницей, – улыбается Светка. Но Юри её не слышит. Он уже крепко спит.
* * *
– А что происходит с телом? – взволнованно спрашивает Таис Михайловну её коллега, Пётр Шуман, начинающий мэр.
– С каким телом?
– С телом уходящего, который больше никуда не уходит, а навсегда остаётся дома, у нас. Они же – ну, чисто технически – спят во Тьме за Воротами, пока здесь живут. И теперь, получается, будут спать вечно? До конца жизни? Летаргический сон? А если… ну, слушай, они там, за Воротами, странные. Вдруг кого-то похоронят живьём?
– А, вот ты о чём, – кивает Таис Михайловна. – Да, это поначалу очень всех волновало, когда Ворота закрылись во время большой войны. Но оказалось, вообще не проблема. Тело исчезает из Тьмы; не знаю, как окружающие объясняют его исчезновение – сбежал? похитили? вместе с пальто и ботинками съел людоед? Но это уже не наша с тобой забота, пусть они там выкручиваются, как хотят. Главное, сам уходящий живёт потом дома до старости, или сколько ему отмерено, без каких-то особых проблем. У всех, кого тогда из Тьмы вывезли, была хорошая, долгая жизнь. Так что для людей это, знаешь, скорее везение, чем трагедия. Я на самом деле рада за них.
– Но две жизни всё-таки лучше одной, – неуверенно говорит мэр Шуман. – Или нет? У меня близкий друг уходящий, это я ему сейчас бегал звонить…
– Застал? – перебивает его Таис Михайловна. – Имя, фамилия? Я отмечаю в списке, кого из уходящих не надо из Тьмы забирать.
– Да, конечно. Ваня Гонзалес. Он дома, у него всё в порядке. Только после нашего разговора слегка беспокоится, не везут ли сейчас его хоронить. Я поэтому тебя про тело спросил.
– Можешь его успокоить, – улыбается Таис Михайловна. – В самом худшем случае, обратятся в полицию по поводу загадочного исчезновения, если найдётся, кому.
– У него там, вроде, семья большая; ладно, что делать, как-то переживут. Раньше, пока Ворота были открыты, я ему немного завидовал. Две жизни всё-таки. Разные. Целых две! Ваня мне много рассказывал о той, второй. По уму-то, особо завидовать нечему, лично я бы от такой жизни взвыл. Но интересно же – жуть! Во Тьме за Воротами всё совсем иначе устроено. Там и люди другие, и мир не такой, как Ирали, и в целом вся жизнь. На нашу ни капельки не похожа. Совсем!
– То-то и оно, – вздыхает Таис Михайловна. И помолчав, добавляет: – У нас, конечно, считается, что быть уходящим и жить сразу две жизни – хорошая, удивительная судьба. И это правильно: если уж уходящий таким родился и ничего изменить не может, пусть лучше думает, что ему повезло. Но ты-то не уходящий, и тебе я могу сказать откровенно: по-моему, нет ничего хорошего в том, чтобы время от времени становиться человеком из Тьмы. Я бы так не хотела. Рада, что не родилась уходящей. А вот кому я действительно с детства завидую, так это сидам.
– Завидуешь? Ты?!
– Ну, сейчас уже не особо, – смеётся Таис Михайловна. – А в юности – у-у-у-у! Они же, заразы такие, лучше всех устроились. Ходят во Тьму за Ворота, гуляют там, сколько захочется, видят странное и на зуб его пробуют, а себя не теряют. Всё помнят. Вот это действительно шикарная жизнь!
* * *
Мика просыпается от удара. То есть, на самом деле, никто её не ударил, ещё чего не хватало. Ей приснился этот удар. Как будто об стену стукнулась. Ну или не об стену, чёрт его разберёт. Мике больно, хотя на самом деле не больно. Боль – это просто сон.
Мало того, что наяву жизнь хоть вешайся, так ещё и снится всякая дрянь, – сердито думает Мика. Она сейчас, конечно, излишне драматизирует и сама это понимает. Нормальная жизнь, с чего бы вдруг вешаться. По сравнению с большинством знакомых, – думает Микаэла, – моя жизнь практически рай. Денег на всё хватает. И сын нормальный, не наркоман. И бывший муж не мудак, нормально с сыном общается, дарит гаджеты, забирает его на каникулы, учит чему-то там. И мама… ладно, не будем про маму. Главное, что жива.
Мика берёт телефон, смотрит время. Пять утра, господи, всего пять утра! Ещё два часа спать можно, – думает Мика. – Ай, нет, завтрак же надо ребёнку. Окей, полтора.
Мика сладко потягивается, укрывается с головой одеялом, закрывает глаза. Но заснуть, конечно, больше не может. Сердце до сих пор так колотится, словно чудом ушла от погони. Или наоборот, не ушла?
Проворочавшись час с боку на бок, Мика встаёт и идёт умываться. Ясно, что поспать уже не получится, так хоть соберусь раз в жизни спокойно, не второпях, – думает Мика, включая лампу над раковиной. Кто это?! А-а-а-а-а! – не кричит, а сдавленно стонет Мика, выскакивая из ванной. Даже сейчас, до полусмерти напуганная, она помнит, что ребёнка воплями нельзя будить. А потом так же беззвучно давится смехом, сообразив, что сама себя напугала. Над умывальником висит зеркало. Зеркало! А вовсе не вход в населённый демонами и чудовищами фантастический мир, – говорит себе Микаэла. И безжалостно добавляет: – Просто я очень некрасиво старею. Что вполне неизбежно с таким мясистым лицом.
* * *
Юри спит и слышит сквозь сон голос Таис Михайловны и другие знакомые и незнакомые голоса. Они говорят: «Завтра у нас будет полный список». Они говорят: «Работа для сидов». Они говорят: «Через два часа». Они говорят: «Он дома, в порядке, просто крепко после дежурства спал». Они говорят: «Тромбонист из шкафа». Они говорят: «И Большого Эла жена». Они говорят: «Проблема, что разные города». Они говорят: «Не проблема». Они говорят: «Грузовик», – Юри даже во сне узнаёт голос соседа дяди Георгия и бормочет, едва ворочая языком: «Завтра доделаю, там работы осталось максимум на два часа». Дядя Георгий, или кто-то похожий укрывает его вторым одеялом, говорит: «Я и не сомневаюсь, ты спи давай».
Юри долго просить не надо, он опять засыпает, вернее, проваливается в сон, как в бездонную пропасть, но не страшную, а сладкую, родную, знакомую. Это похоже не на падение, а на счастливый неспешный полёт.
Юри падает в сон, как в пропасть и слышит сквозь пропасть-сон голос Таис Михайловны: «Все, кому снится Ирали, должны вернуться домой».
* * *
Ева обычно курит немного – утром одна сигарета за кофе, ещё одна за работой, ради паузы, во время которой отстранённо, как бы чужими глазами смотришь на холст; иногда, если есть настроение, вечером после ужина, под вино. Но сейчас ещё нет полудня, а это уже шестая, Ева курит буквально одну за другой. Теперь понятно, – равнодушно думает Ева, – почему с курением так в последние годы борются: оно делает жизнь выносимой. А выносимой жизни нам тут не положено, не заслужили, плохо себя вели.
Ничего не случилось. Нет, правда, ничего не случилось, отлично идут дела: галеристка звонила, продала три картины; в новостях написали, что комендантского часа не будет; пришла наконец посылка с новенькой зимней паркой, и она подошла. Всё хорошо, – говорит себе Ева, – не ной, малахольная, незачем бога гневить.
Только и горя, что во тьме под закрытыми веками по утрам больше не бывает картин – ни незнакомых любимых лиц, ни нездешних пейзажей, ни натюрмортов со странными овощами, похожими на тропических птиц. Только какие-то чёрточки, звёздочки, точки, расплывчатый фейерверк; вроде, «фосфены» оно называется, или как-то похоже, это бывает у всех. Но это не повод впадать в уныние, – говорит себе Ева, – ты давай, дорогая, держись. Раньше были чудесные утренние видения, ну и скажи спасибо за роскошный подарок, с чего ты взяла, что так будет всю жизнь?
А может быть, просто возраст? – думает Ева. – Приближается климакс? Давай посмотрим правде в глаза, дорогая, пора. Нормальные тётки больше рожать не могут, а у художниц он проявляется так?
От этих мыслей Еве окончательно становится тошно. Почему сразу возраст и климакс? Человек – не только физиология. Люди сложнее устроены; уж я-то – точно сложней. Не спеши обесценивать чудо, даже если оно катастрофа, – говорит себе Ева. – Кроме так называемых «очевидных» может быть куча других причин. Лучше быть растерянной дурой, чем несчастной, всё правильно понимающей умницей, мне ли не знать.
Может, я запрет какой-нибудь тайный нарушила? – думает Ева. – Совершила нечаянно смертный грех? Не дала денег нищенке? Оскорбила кого-нибудь в интернете? С соседкой не поздоровалась? Съела в гостях колбасу? Чем угодно можно прогневать высшие силы, они у нас нервные, и их можно понять. А может, просто Земля вошла в какой-нибудь коридор затмений? Ну или не Земля. Кто-то зачем-то вошёл в коридор затмений, а я типа крайняя, отдувайся теперь за всех, – говорит себе Ева и почти помимо воли смеётся: ну я и дурища! Ну сочинила! Коридор затмений! Колбаса! Смертный грех!
Ева гасит седьмую уже сигарету и подходит к холсту – даже не серому, цвета отсутствия цвета, испещрённому мелкими бледными точками, пятнами, кляксами; если долго смотреть, не моргая, кажется, что они начинают дёргаться и мельтешить.
Ева, никуда не денешься, реалист. Поэтому лишившись своих чудесных видений, она рисует их отсутствие. Наступившую невозможность картин под закрытыми веками. Невыносимую пустоту.
Никуда не годится, – говорит себе Ева, глядя на бледные пятна. – Цвет я, вроде, поймала. Но это должна быть не грязь, а свет.