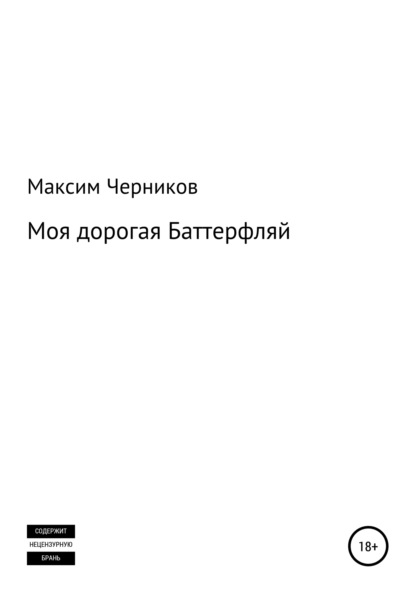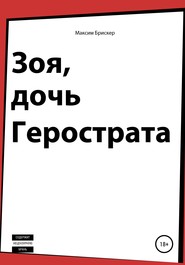По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя дорогая Баттерфляй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ты, наверное, не помнишь сюжет, я расскажу вкратце. Как почти всегда у Пуччини, это трагедия, в центре которой – молодая наивная японка, Чио-Чио-сан, или Мадам Баттерфляй, то есть Госпожа Бабочка, если дословно. Хоть она и гейша, душа ее чиста, ей всего 15 лет. Действие происходит в Нагасаки, на вилле, которую только что взял в аренду на 999 лет лейтенант американского морского флота, Бенджамин Франклин Пинкертон. Через того же маклера-сводника он вдобавок заключил брачный контракт, по которому женится на Чио-Чио-сан, но контракт предусматривает, что его можно легко расторгнуть. Также, как и отказаться от арендованного дома… Такие нравы, что ли, были тогда в Японии? Или это все происки проклятого американского капитализма и империализма? Не могу сказать, да и не надо в это углубляться. Чио-Чио-сан собирается отказаться от своей религии, чтобы стать ближе к Пинкертону, и принять его религию. Узнав об этом, дядя Чио-Чио-сан, японский бонза (то есть чиновник), стоящий на традиционных позициях, угрожает ей проклятием и в конце действительно проклинает ее за вероотступничество. Все родственники покидают свадебную церемонию, увлекая за собой и мать юной гейши, которая мечется между дочерью и категоричной родней.
Через несколько лет Пинкертон уезжает. Мадам Баттерфляй ждет его. У нее родился от него сын, Долоре (Печаль), которого она назовет Джойя (Радость), когда вернется отец. Но он все не приезжает. К ней сватается завидный жених, японский аристократ, но она отвергает его, к разочарованию верной служанки Судзуки, и остается верной американцу. Пинкертон в конце концов приезжает, но уже с новой женой, американкой. Чио-Чио-сан понимает, что Пинкертон женился, и этот брак – настоящий, так сказать, навсегда, а брак с ней уже не считается. И что ей придется отдать ему сына, за которым он, скорее всего, и приехал. Чио-Чио-сан прощается с сыном и убивает себя кинжалом, доставшимся от отца, Пинкертон в отчаянии рыдает над ее телом.
Опера – это всего лишь жест, полный искусственности. Но ведь и искусство – от этого слова, не так ли? И меня глубоко волнует этот жест, полный искусственности, потому что это и есть та сила, которая может творить с нами невероятные вещи. Меня волнует именно эта опера, так как в ней я нахожу некоторое сходство между нами, между нашими судьбами. Я – конечно, Пинкертон, бросивший тебя, ты – Мадам Баттерфляй. Не так много здесь похожего на наш случай, но я упрямо твержу себе, что это – про нас. Ну, пусть так, я устал сопротивляться собственному упрямству. У нас не так много экзотизма, а лишь обычная, грустная история, даже не трагедия. Хотя, почему не трагедия? Вполне себе трагедия. Я – подлец, ты – благородна, причем во всем. Даже если рассказываешь всем и каждому, какой я мерзавец. Ты безупречна, я говорю это без иронии, а вот я… Никогда не думал, что смогу быть таким подлецом, а вот ведь смог. Но это уже повторение. Я бичую себя, словно это хоть как-то поможет изменить ситуацию. Бессмысленное занятие все это.
Письмо шестое, 12 декабря 1982 года
Люба, я резко закончил предыдущее письмо, потому что очень расстроился. Даже не попрощался. Так что привет тебе, за предыдущее и сегодняшнее! И сразу огорошу тебя. Признаюсь, и это будет самой моей низкой тайной, которую я тебе доверю, что иногда бывают такие моменты, и я не могу их объяснить, когда я рад тому, что так сделал, что предал тебя, сбежал, бросил с детьми, оставил в ужасной ситуации. В такие минуты во мне просыпается гадкий человек, эгоист, сволочь, подонок, который способен на мерзость, на подлость. Я чувствую себя грязным животным, свиньей, низко павшим существом, и мне почему-то так радостно бывает от этого своего падения… Правда, все это довольно быстро сменяется угрюмостью, апатией, черной меланхолией… И вот это хуже всего. Уж лучше сгорать от стыда или радоваться своему падению с упоением грязного мазохиста.
А ведь я ни в чем не виноват! Во всем виновато сволочное государство, из которого я сумел сбежать и рад этому безмерно. Это оно заставило меня уехать, бросить жену и семью, отречься от всего, что дорого. А может, это был выход из тупика, в котором я оказался? Ведь я кричал во время очередной ссоры с тобой, что семья – это ошибка молодости, что мне надоело батрачить на дармоедов, что я хочу быть свободным.... Тебя это очень задело. А что, если это и было единственной дорогой мне правдой? И если я намеренно использовал этот случай, чтобы стать диссидентом, чтобы никогда вернуться и не попасть в те же сети? Ни дня не проходило без ссоры, без стычки, даже когда я приезжал на очень короткий срок. Мы изводили друг друга придирками, мелочными и пустыми, грызлись, отравляли друг другу жизнь. Наверное, прошла наша любовь. Но почему, когда дело доходило до развода, мы оба пасовали? Особенно я. Может, это ты меня разлюбила, а не я? Честно говоря, я запутался. На расстоянии можно все что угодно придумать. Но некоторые вещи виднее. И теперь мне кажется, более того, я уверен, что все-таки по-прежнему люблю тебя. И для того, чтобы понять это, я и должен был уехать.
Письмо седьмое, 16 декабря 1982 года
Здравствуй, Люба! То письмо было ужасным и жестоким, не знаю, зачем написал его, но из песни слов не выкинешь. Видимо, я так себя в тот момент чувствовал, это был импульс, мне хотелось отделаться от чувства вины, которое не дает мне покоя… Оно и сегодня меня мучает, но я стараюсь жить дальше, несмотря ни на что. Я не буду просить прощения за это, ты сама знаешь, была бы возможность, я бы к ногам твоим упал. Если бы это могло помочь. Но проку от этого не будет. Как не будет пользы от того, что я пишу тебе письма, которые, скорее всего, не достигнут адресата. Зато их прочтут, уже читают, товарищи из Гэбэ. Но я все равно расскажу – тебе, не им – о своей жизни. Хоть ты меня об этом и не просила.
Ты сильно удивишься, но я купил свою первую машину в Канаде – старенький вишневый «Форд». Это здоровенный детина, жрущий очень много топлива, дитя эпохи дешевого бензина и бэби-бума шестидесятых, но зато – настоящий автомобиль. Владельцы более новых, обтекаемых и не таких громоздких машин смотрят на меня с удивлением и усмешкой. А мне плевать, мне нравится мой Федя – так я назвал его. Да, прожорлив он не на шутку, часто приходится заправляться. Зато внутри – просторный кожаный салон, комфорт большого автомобиля, безумная роскошь по сравнению с остальными мыльницами, на которых рассекают довольные буржуа без фантазии. Я очень привязался к Феде. Разговариваю с ним, доверяю ему все свои тайны. И, кажется, он мне отвечает взаимностью. Надеюсь, у меня здесь наконец появился настоящий друг, который не подведет. Федя тебе бы понравился, и ребятам тоже. Димке точно, а младшему – не знаю, ему никогда не угодить…
Ты снова будешь удивлена, но ездить я здесь научился довольно быстро. И хоть езда у меня еще неровная, теперь я могу перемещаться, как многие здесь, на своей машине, пусть громоздкой и старомодной, зато не похожей на другие. На моем верном Феде.
Люба, мне пора на работу. Поеду на Феде, припаркуюсь, перейду на другую сторону улицы, брошу письмо в почтовый ящик в здании напротив, чтобы сволоте из ГБ было что читать. Может, они тебе хотя бы это письмецо покажут? Как я их ненавижу! А тебя – люблю, да, люблю, люблю, моя дорогая… И впервые с подписью:
ТВОЙ ВАЛЕРА
Письмо восьмое, не отправленное, 29 декабря 1982 года
Сев писать это письмо, я почти сразу понял, что не оправлю его Любе, а сохраню для себя. Пусть будет моим опытом в эссеистике, чуть ли не первым опытом самостоятельного письма, так я решил. Не знаю насчет эссе, потому что в основе этого – мои дневниковые записи, которые я вел до сегодняшнего дня. С некоторыми исправлениями обрамляю их в подобие текста, сижу, стучу на печатной машинке, переписываю на белые листы бумаги. Признаться, сам процесс доставляет мне неожиданное удовольствие, словно я открыл для себя что-то новое. Я и правда открыл! До этого я никогда не писал о себе, никогда не мнил себя, так сказать, литературным героем. А тут на тебе! Ну, если честно, я и сейчас не считаю себя таковым, но, признаюсь, это волнующий и увлекательный процесс – видеть, как оформляются твои мысли, выстраиваются в текст, в подобие литературного произведения, и герой всего этого – ты сам.
Написав Любе про Федю, я вдруг захотел отправиться на нем в путешествие. Вот так, с бухты-барахты, решил, что надо посмотреть на Ниагарский водопад и заехать в Штаты.
Кстати, когда накатывает суицидальная волна из-за чувства вины перед Любой, я с мазохистским наслаждением представляю, как было бы здорово на своем верном Феде впилиться в стену, ну, или хотя бы (Хотя бы! Ну я и шутник!) с моста слететь. Но для этого надо в Нью-Йорк, на Бруклинский мост, и оттуда пикировать. Или, что еще лучше и романтичнее, да и в какой-то мере экзотичнее, с Золотого моста в Сан-Франциско. Проехать все Штаты от края до края и поставить точку на краю океана; на другой стороне – Камчатка, Курилы, Владивосток, Страна Советов, родной и ненавистный совок… Но нет, не сделаю я такого, все это мое воспаленное сознание, я стал гораздо стабильнее в психологическом плане, особенно в этом на меня повлиял Федя. Уж кого, а его я никогда не смогу подвести. Это как предать лучшего друга.
Но оставим этот декадентский бред, а вот в USA надо бы и правда смотаться. Ни разу там еще не был! Все короткие отпуска (я брал максимум три дня, больше не хотелось, и даже они тянулись ужасно долго, нечем их было занять) проводил здесь, в Канаде, точнее, в Квебеке, это так провинция называется, в которой Монреаль; даже в Торонто ни разу не съездил… Да, решено, буду просить «длинный» – как минимум на неделю – отпуск. Сначала в Торонто, после этого на Ниагарский водопад и оттуда в Штаты, в Нью-Йорк.
Сказано – сделано: попросил недельный отпуск на радио, его дали без проблем, потому что в канун Рождества (до него всего-то неделя осталась), когда все разъезжаются, меня традиционно ставят затыкать дырки в эфире; я для них – холостяк, якобы еще в СССР развелся, пришлось такую легенду сочинить, но за нее, как видите, приходится и отдуваться. Я к этому привык, мне даже нравится работать в эти дни – спокойно, из редакции никого практически, кроме старой девы Марьи Ивановны; ее тоже всегда оставляют, все равно ей делать нечего, да и живет близко, она славная, совершено беззлобная старая девушка, слова плохого никому не скажет, настоящая белогвардейская интеллигентка, чудом уцелела в месиве Гражданской войны, в свои 87 лет бодра и жизнерадостна, как будто ей лет 45, не больше, отличная память… Мне с ней хорошо и интересно, она все время рассказывает истории из жизни, которых у нее море, да такие захватывающие, хоть роман пиши… Я, если честно, всегда хотел узнать, как она умудрилась остаться девственницей в такие бурные времена; как ее не оприходовал ни один красноармеец или еще кто, тот же белогвардеец? Они ведь тоже разные были, далеко не все ангелы. Стесняюсь ее про это спросить. Да и не так важно это, когда рядом есть такой замечательный человек. Остальные мои коллеги, как я уже говорил, мне гораздо менее симпатичны. Неопрятные, все как на подбор с обсыпанными перхотью плечами, в нелепой одежде, они живут исключительно ненавистью к СССР. В этой ненависти – весь смысл их жизни.
Но я отвлекся от своей истории. Так вот, встав рано-рано утром, я залил побольше бензинчика в прожорливого Федю и – в путь. Все напевал эту советскую песню – «В дорогу дальнюю, дальнюю…», пристала ко мне, невозможно было отделаться от нее, мурлыкал ее все время, пока ехал. Довольно рискованное предприятие я затеял, недавно сел за руль и уже собрался в такой дальний путь. Но, надеюсь, доеду. А нет – так нет. Я ко всему готов. Главное – других людей не угробить. Мне-то по большому счету все равно, а вот за остальных не надо ничего решать.
Пока еду, все-таки невольно развиваю эту тему: а если вдруг что случится? Всяко бывает ведь. Кто меня здесь искать будет? Пожалуй, особо никто и не хватится, кроме лендлорда да коллег на радио. Ничего, и тот и другие быстро найдут замену, проведут прощальную церемонию на русско-канадский манер, может, даже батюшку приведут, хоть я и остался атеистом, отметят мои диссидентские успехи… Но хватит этих мрачных мыслей! Я намерен проехать весь путь без «эксидентс». Да, это мое первое путешествие, тем более на машине, но интуиция подсказывает, что все будет хорошо. У меня приподнятое настроение, я даже приятно возбужден. «В дорогу дальнюю, дальнюю», – опять мурлыкаю себе под нос и прибавляю скорость; Федя урчит от удовольствия.
От Монреаля до Ниагарского водопада я добрался почти за десять часов. Дороги хорошие, правда, в паре мест ремонтировали, пришлось стоять в пробке, но мне это было даже на руку, я немного отдохнул, хоть и потерял часа полтора в общей сложности. Такой большой отрезок пути дался нелегко, но гораздо легче, чем я думал.
Добрался до Ниагары уже после обеда, проголодался, купил в ближайшем киоске гамбургер и съел с удовольствием. Запил его горьким эспрессо, забыл добавить сахар, поморщился – уж больно горчила эта бурда. Кстати, Ниагарский водопад – это не один водопад, а целых три; но в русском языке устоялось название именно такое. Это по-английски его (их) называют Niagara Falls, что правильнее. Все три водопада находятся на реке Ниагара; самый большой – Horseshoe Fall – ровно на границе Канады и США.
Вот я у водопада, или водопадов, народу хватает; все стоят как зачарованные, да и я тоже, перед этой громадой, демонстрацией природной силы, этим хаосом, у самой пропасти, над которой есть обзорная площадка, где безопасно, наблюдаем за этими водоворотами и потоками воды, оглушенные грохотом. Упорядоченность человеческой жизни и прямо перед ней – дикость, необузданность, грохот и шум, разгул стихии, что-то первобытное, первородное. Я наслаждался зрелищем, ради которого проехал так много. Вскоре стало тревожно, воспоминания столпились, как нежданные гости перед закрытой дверью, которую надо открыть из вежливости, но не хочется. Но настырные посетители не уходят, стоят молча, надо либо прикрикнуть на них, либо открыть им дверь. Я сделал усилие над собой, пробудился от сна наяву и, не оглядываясь, пошел обратно к машине. Посмотрел на карту и решил доехать до ближайшего крупного города – Буффало, что на Великих озерах, это уже США, штат Нью-Йорк.
Какой-нибуль час – и я уже в Буффало. Уже въезжая в него, вспомнил, что промчался мимо Торонто, не заехав туда и на полчаса… Эта спонтанность меня раззадорила, я почувствовал ее вкус, вкус путешествия, почти приключения… Я стал бродягой на железном коне, или скорее слоне, учитывая размеры Феди, эдаким Дон Кихотом, и даже Санчо Панса у меня был, только безмолвный.
Проезжая мимо порта Буффало, вспомнил, что я уже здесь был однажды; естественно, в составе торгового экипажа Совморфлота. Вот так сюрприз! Да, наш корабль заходил в этот порт, это было самое начало 1979 года, январь, только-только после Нового Года, мы какие-то химикаты везли американцам… Ну вот, значит, здравствуй во второй раз, дорогой Буффало! Почти ровно четыре года назад я был здесь… У порта я не остановился, так как устал порядочно, да и не хотелось там торчать, ворошить прошлое. Город тоже осматривать не стал, сразу поехал искать ночлег. Остановился у первого попавшегося отеля на не слишком оживленной улице; цена меня устраивала, средний номер скромных размеров, вполне сгодится для одной ночевки. Заплатил вперед, чтобы не было вопросов, портье расплылся в улыбке. Припарковал Федю, дошел до комнаты, повалился на кровать не раздеваясь и сразу же отключился.
Проспал до позднего вечера, когда уже не было смысла выходить куда-либо, кроме как в фойе отеля. Там работал барчик, в котором сидели несколько американских алкашей. Они пили свое пойло, угрюмо уставясь куда-то, никаких мыслей в глазах, только тупость и одиночество. Тоскливое место, но я все же взял стакан виски, сел в протертое и пропахшее дешевым табаком, когда-то бывшее ярко-красным кресло, стал медленно пить, хотя люблю залпом. Когда оставалась еще половина, выпил ее так, как привык дома, одним большим глотком, запрокинув голову. Не стоит лишать себя удовольствий, даже в таком угрюмом местечке, подумал я. При взгляде на протертое красное кресло почему-то вспомнилась женская вагина… Или это так виски подействовал? Секса у меня не было в общей сложности года полтора; в Канаде у меня ни одной женщины так и не появилось; я хранил верность Любе, да и вообще не изменял ей никогда. И все это время я жил как в тумане, не осознавая отсутствия секса и не страдая от этого. Сейчас же, в тускло освещенном баре, в этом красном кресле, в этой незнакомой и не слишком комфортной обстановке, но в то же время «suggestive», то бишь приглашающей к чему-то, намекающей на порок, на купленные экстазы, страшно захотелось женщины; или даже не женщины, а просто вагины, красной, похотливой, желающей, пусть оплаченной, но вагины… Живой, сочной, пульсирующей… Надо спросить у портье про «девочек». За доллар он, уверен, поможет найти. Подойти и так и сказать ему: хочу вагину! Меня рассмешила эта мысль, но и помогла собраться с духом.
Я подошел к стойке и негромко объявил о своих желаниях. Я хорошо скрывал свое волнение за напускным цинизмом. Портье улыбнулся с пониманием, немного гнусновато, но все было сделано быстро и профессионально. Поблагодарив за незаметно сунутые деньги, он сказал, что в мой номер постучатся через пять минут. Я сухо и деловито сказал ему «Сенкс», словно делал это уже не первый раз, и поспешил удалиться, даже не проверив, как там мой Федя на парковке. Надо было успеть принять душ.
Наскоро помывшись и заканчивая вытираться, я услышал стук в дверь – он был тихий, но требовательный, словно говорил: «Вы меня сами пригласили, вот и открывайте без промедления!» Я заволновался, запутался в полотенце и чуть не грохнулся в ванной, на скользкий и холодный пол. Поспешно натянул брюки, машинально обнюхал подмышки – они все равно пахли потом, плохо помыл, слишком торопился. Стал натягивать рубашку, но пальцы не слушались, время шло, в дверь постучали второй раз, чуть более требовательно, чем прежде. Я не выдержал и открыл дверь как был – в полузастегнутой рубашке, с виноватым видом выдавил «Sorry!» И получил в ответ молодое хихиканье. Да, она была совсем молоденькая, эдакая дурочка с Дикого Запада, блондинка, хорошенькая и наивная. Я ожидал, честно говоря, другой тип – постарше, холеную, пахнущую тяжелыми духами, женщину, а не девочку. А тут была девчонка лет двадцати трех максимум. Я даже ощутил себя немного Гумбертом. Но ведь у нее тоже есть вагина, подумал я и подивился своему цинизму; как быстро, однако, переключился я на эротику. Да, естественно, у нее есть вагина, и молодая при этом. Я немного испугался, что с такой молодой девчонкой почувствую себя неловко, но она была такая раскованная. И вдобавок горячая штучка, как здесь говорят. И почему бы мне, старому козлу (вовсе не старому, просто по сравнению с ней я все еще чуть-чуть комплексую), не порезвиться с молоденькой манденкой? Очень даже неплохо. Если полез за вагиной, так лезь до конца, ныряй в нее с размаху, получай удовольствие, carpe diem! Так я подбадривал себя. Но девчонка и сама была не промах: несмотря на юный возраст, она очень хорошо умела обращаться с такими, как я…
Все прошло быстро, весело и легко. Мы вместе смеялись над моей неуклюжестью и скованностью; девушка была чудесная, такая шустрая и непосредственная! Я получил большое удовольствие от ее вагины, молодой и возбужденной. Видно было, что это дело ей нравится, и она в нем – профи. Ей оказалось даже чуть меньше, чем я думал – двадцать два года. Ее звали Энни, и это имя ей шло, наверное. Она, конечно, уловила мой акцент. Узнав, что я из России, из СССР, она пришла в дикий восторг. «У меня никогда не было советского мужчины!» (Soviet man, она так и сказала). И добавила ободряюще: «А ты неплохо трахаешься для советского мужчины!» Вот это был явно комплимент, которого я не заслуживал. Трахался я в ту ночь неважно, мы оба это знали. Она сказала это, чтобы подбодрить меня. Узнав, что я журналист, работаю на радио, она пришла в еще больший восторг. У нее больше не было клиентов на эту ночь, и она предложила спуститься в бар и пропустить по стаканчику. Я согласился. Угостил ее виски, и сам еще принял на грудь. Энни расспрашивала меня о моей жизни в СССР, но, увидев, что мне неприятно про это говорить, перешла на тему работы. Ей все было интересно, любая подробность. Я рассказывал вяло, но старался ее заинтересовать. «Скажи мне честно, я хороша в этом или нет? Только честно!» – неожиданно спросила Энни. «Ты в этом великолепна», – ответил я абсолютно честно. И сильно удивился – неужели проститутки здесь так серьезно подходят к своей работе, без всякого стыда и комплексов? А почему бы, собственно, и нет?
Энни призналась, что ее интересуют только взрослые мужчины. С молодыми ей скучно. С личной жизнью – проблемы, призналась она, наверное, из-за ее ремесла. С родителями давно не общается. Я понял, что понравился ей. Она мне, наверное, тоже. С ней я чувствовал себя как будто моложе. Или, скорее всего, с ней я правильно ощутил свой возраст. Ведь я не старый еще, мне немногим больше сорока, а это для мужчины – расцвет. Просто все это время – начиная с приезда в Канаду, а может и раньше, – я был самым настоящим стариком. Мне было не менее 57 лет, если не больше, – именно так я себя чувствовал в последнее время. А тут – бабах, и я снова как молодой, полный сил, не переоценивающий себя, просто уверенный в себе мужчина. Я подумал, а что, если я предложу ей поехать со мной в Нью-Йорк? Это будет настоящее приключение. И я предложил. Это было рискованно, ведь я почти не знал ее. Может, у нее были какие-то постыдные тайны, которые могут всплыть в процессе нашей поездки. Энни отказалась, сослалась на неотложные дела; увы, она не может вот так сорваться из Буффало в Нью-Йорк. Так что зря я предвкушал приключение. Ну что ж, значит, все пойдет так, как было задумано изначально – я поеду туда один. Увидев, что я немного расстроился, Энни извинилась и постаралась сгладить неловкий момент: «Знаешь, а я ведь могу позже приехать к тебе в Монреаль, правда? Я действительно сейчас не могу поехать с тобой в Нью-Йорк, хоть и очень хочу…» Она была так трогательна в своей искренности. Но не хотела рассказывать, что у нее за дела, которые она не может подвинуть или отменить. Я знал, что не стоит просить ее рассказать, что это за такие дела – эта их священная «прайвэси», которую нельзя трогать. Я нацарапал на клочке бумаги из записной книжки мой монреальский телефон и вручил ей, свой она мне не дала, видимо, и не было, живет, наверное, в квартире без домашнего телефона. Ладно, оставим это на волю случая, или чего там еще. Позвонит так позвонит, нет так нет. Но так хорошо с ней было, с этой девчонкой, которая почти вдвое меня моложе.
Наутро я был бодр и весел как молодое животное, в шесть утра уже рассекал по пустому Буффало на верном Феде. Проезжая мимо порта, я притормозил и на несколько минут задержался в глупой надежде увидеть советское судно. Опомнившись, я прибавил газу и резко сорвался с места. Федя недовольно заворчал: дескать, зачем так круто? «Извини, дорогой, нервишки зашалили!», – обратился я к нему примирительно. Какой же я дурак все-таки! И зачем мне видеть советское судно, даже если оно там есть? От воспоминаний о прошлом неприятно обдало жаром, потом бросило в холодный пот.
Еще девять часов с небольшими остановками, и я наконец въехал в Нью-Йорк. Там я по рекомендации коллег с радиостанции снял дешевую халупу на Манхэттене, которая раз в пять была хуже моей квартиры в Монреале. Ее хозяином был старик-француз, говоривший по-английски с чудовищным акцентом и постоянно норовивший перейти на родной французский, который я вообще не знал. Он попросил не мусорить и долго объяснял, как обращаться с кухонными и прочими принадлежностями. Все углы были в плесени, подозрительно серое постельное белье, за которое пришлось заплатить дополнительно. Но даже с этими поборами квартира была очень дешевая по местным меркам, о чем француз постоянно напоминал. На кухне висело одно жалкое серое полотенце; в ванной комнате, которую надо было делить с соседями из квартиры наверху, никаких полотенец не было. Наконец он ушел, и я остался один. Когда пришла пора мыться, я понял, что придется использовать полотенце на кухне, выбора у меня не было, а специально покупать банное полотенце я принципиально не хотел.
Нью-Йорк показался мне интересным, но довольно дискомфортным местом. Город был достаточно грязным, небезопасным, суетным и агрессивным. Небоскребы тревожно нависали, создавали особую ауру, столпотворения на перекрестках были привычным делом. Каждый второй пытался провести, а то и обокрасть тебя, все были помешаны на выгоде, на деньгах, чувствовалось, что жизнь здесь не дешевая. Мне казалось, что я попал в людской зверинец, где каждый человек – волк, но в человеческом обличье. Homo Homini Lupus Est, одним словом. Эта пословица оказалась иллюстрацией тех отношений, которые, как я заметил, процветали здесь. Жестокий город, так я его назвал. В то же время здесь как-то по-особому чувствовалась жизнь, ее биение и бурление, она завихрялась в тугие сгустки энергии, сжималась и разжималась, пульсировала и затягивала в подобие торнадо, из которого трудно было выбраться. Это было удивительное чувство, оно не отпускало тебя, заставляло плясать под свою дудку, выделывать опасные кульбиты, как физические, так и внутренние. Вот почему здесь так много сумасшедших, говорил я себе, оказавшись в самом эпицентре энергетического торнадо, на Таймс-сквер. Безумный, бешеный город, огромное пульсирующее сердце, без устали качающее кровь и пот живущих в нем людей, всемогущий вампир, высасывающий соки из всех, до кого может дотянуться…
Несмотря на сильную антипатию, даже я, не такой уж молодой, хоть и далеко не старый, но уже с опытом и привыкший к более спокойным местам, попал под влияние этого спрута! Скажу честно, если бы я был каким-нибудь уличным художником-бунтарем или просто современным музыкантом, или на худой конец парикмахером-гомосексуалистом, или барменом с амбициями телезвезды, я бы здесь, наверное, остался, полюбил бы этот город на всю жизнь. Но нет, я не был ни тем, ни другим, ни третьим. Я вспомнил, что здесь живет Бродский, так захотелось его встретить где-нибудь случайно, на этих неуютных улицах, но где найти его? Тем более что Нью-Йорк так свел меня с ума, что я лишь на секунду вспомнил о своем литературном кумире; в следующее мгновение могучий поток нес меня куда-то, я словно плыл в каком-то полукошмарном сне, галлюцинировал наяву, как рыба с выпученными глазами, которую выбросило на берег из родной стихии, и она совершенно ошалела от этого…
Я ходил один как потерянный по этому зверинцу и дивился бешеной энергетике муравейника, где каждый муравей считал себя самым главным… На второй день мне все же захотелось домой. Я устал от этого безумия, от этой гонки в зверинце из стекла и бетона, меня невероятно раздражала эта накаленная вихрями, всегда словно грозовая, атмосфера. На третий день я уже с трудом сдерживался, чтобы не уехать досрочно. На утро четвертого дня я вздохнул с облегчением: сегодня можно будет наконец отчалить, как только придет хозяин.
Он пришел рано, я недавно встал и прямо при нем машинально вытер лицо кухонным полотенцем. Увидев это, хозяин рассвирепел: «Как вы смеете так делать? Вы что, плохо воспитаны?» «Нет, это вы плохо воспитаны, вы даже не понимаете, что обязаны снабжать жильцов полотенцами». «Я ничего не обязан, это не отель, цена низкая, найдите лучше…» «Я больше никогда не останусь здесь и другим скажу, какой вы жадный и мерзкий. И квартира эта мерзкая, вон, сами посмотрите, все углы в плесени, а как воняет!» «Убирайтесь отсюда немедленно!» «С удовольствием!» Я был рад, что высказал ему все, что хотел. Когда, наскоро собрав вещи и выйдя из квартиры, я остановился на пороге и хотел что-то добавить на прощанье, скупердяй захлопнул ее перед мои носом. Я с досады пнул в дверь ногой, крепко выругался по-русски и пошел вниз, проведать Федю. «Скоро поедем!» – весело сказал я ему, мое настроение было спасено одним фединым видом, его большой доброй мордой, сверкавшей потускневшей латунью.
Еще 9 часов с остановками на кофе и туалет, и я дома, в Монреале. Впервые я назвал этот город и квартиру, в которой живу больше года, своим домом, и сам удивился этому. Я доволен поездкой, несмотря на неприятности в Нью-Йорке. После нее я гораздо увереннее стал чувствовать себя за рулем, проехав столько километров, или миль, на моем верном Феде. После заплесневелой конуры на Манхэттене квартира в Монреале казалась мне верхом уюта. И еще я с нежностью вспоминал веселую, добросердечную и симпатичную потаскушку Энни. С этой сладкой мыслью я, усталый и довольный, заснул рано, в десять часов вечера. Мне снится мой добрый, надежный друг Федя, добродушно поблескивающий своей латунной мордой, и тело Энни. Проснувшись в три ночи, понимаю, что во сне от, видимо, созерцания прелестных форм Энни у меня случилась поллюция. Как в подростковые годы! Я иду, сонный, отмываться в душ, стою там и улыбаюсь счастливой, идиотской улыбкой. Да, я счастлив. Меня впервые за долгое время ничто не тревожит…
Письмо девятое, не отправленное, 30 декабря 1982 года
…Я не успел докончить рассказ о том, как провел свой отпуск, точнее, о финальной его части, весьма печальной. Но на следующий день, сразу же после работы, сажусь дописывать, точнее, писать новое письмо, которое, как и предыдущее, не буду отправлять. Через два дня – Новый Год, а я захвачен не всякими там приятными заботами типа покупки елки и сервировкой праздничного стола, а своей писаниной, которая кажется мне самым важным делом на свете.
На шестой день отпуска я никуда не выхожу, весь день валяюсь в кровати, читаю для удовольствия, чувствую себя подростком на школьных каникулах. Мне нравится моя холостяцкая конура. Вечером, довольно поздно, в полодиннадцатого, когда мои глаза стали понемногу слипаться, вдруг звонит телефон. Я вздрагиваю, откладываю книжку и медленно, словно не решаясь выйти из своей подростковой оболочки, из своей неги, нехотя иду к нему. Спрашиваю себя: кто это может быть? А вдруг это Энни? Сердце радостно бьется. Я беру трубку и как можно сексуальнее, с такой нежной хрипотцой взрослого, уверенного в себе мужчины, говорю «Hello». Уверен, что, если это Энни, это сведет ее с ума. В ответ слышу нервное женское шептанье на русском с украинским акцентом: «Здрасьте… Это Рита… Володя, это вы?» «Нет, это не Володя…Вы, наверное, ошиблись…» В ответ в трубке раздаются короткие гудки. Я стою так долго и слушаю это ужасное пиканье. Во мне все начинает ныть, свербеть и болеть невыносимо. Слезы текут по щекам, а я все стою и слушаю эти проклятые гудки. И вспоминаю шепчущий, нервный, на грани отчаяния, голос молодой женщины, говорящей на русском с украинским акцентом… Я стою и слушаю пиканье в трубке, и повторяю ее слова: «Володя, это вы?»
В следующее мгновение я кладу трубку, взгляд падает на кассету с оперой Пуччини. Каким-то сверх-усилием воли я заставляю себя не включать ее. Но от виски отказаться уже не могу. После половины бутылки я все же слышу «Un Bel Vedremo» в исполнении Каллас и рыдаю в голос, без остановки. Неужели я все-таки включил запись или это моя галлюцинация? Допив бутылку почти до дна, по традиции швыряю ее об стенку. Опять придется собирать осколки по всей комнате наутро, а сейчас я уйду во вторую комнату, буду спать на тахте, она не такая удобная, как кровать, но ничего, пьяному везде хорошо спится, хоть на коврике…
Наутро встаю разбитый. Вспомнив про вчерашний дебош, пылесошу пол, вытряхиваю кровать, выметаю щеткой из укромных углов остатки стекла, подбираю мелкие осколки, раню палец, прижигаю его йодом, завтракаю черным кофе и остатками сыра, который вот-вот испортится, жадно затягиваюсь сигаретой. Пора уже прекратить эту «славную» традицию с разбиванием бутылок с виски об стену. Полдня потом приходится убираться, а запах… Плюс стирка белья в «лондри» – еще и деньги лишние трачу, которые здесь вовсе не лишние… Хорошо, что лендлорд не знает этого. Хотя соседи могут и доложить. Может, хоть страх выселения и штрафа за порчу имущества меня испугает?
Не могу сидеть дома в этот последний, седьмой, отпускной день и решаю провести его остаток где-нибудь недалеко от Монреаля, на природе. Федю трогать не буду – руки дрожат после вчерашнего, да и не стоит так… Сначала в метро, потом на автобусе – приезжаю в большой национальный парк, он как лес, только облагорожен, пригоден для прогулок, с указателями, туалетами и даже кафе и киоски иногда встречаются. Людей довольно много – воскресенье. Но никто никому не мешает. Брожу, дышу свежим воздухом и стараюсь ни о чем не думать. Но мысли упрямы – все равно вспоминаю вчерашний звонок. Пытаюсь переключиться на Энни, немного получается. Вдруг она мне сейчас позвонила, а я не дома? Хочу сорваться и поехать туда, и сидеть как собака, сторожить телефон, смотреть на него, гипнотизировать его, говорить, заклинать ему: «Ну, позвони, позвони, позвони». Уже было направившись к выходу из леса, останавливаюсь и поворачиваю обратно. Не пристало взрослому мужчине вести себя как собаке, или как мальчишке. Вокруг так много женщин, так много всего, что могло бы спасти меня, изменить, покончить навсегда с моей депрессией, стоит только чуть-чуть осмелеть и протянуть руку…
Я вернулся домой немного успокоенным. Я люблю свою квартиру, свою конуру, как я ласкового ее называю. Она уютная и комфортная, таких в совке вообще нет, это я уже к ней привык и немного разбаловался. Сначала, когда я в нее вошел, я думал, что сознание потеряю, все никак не мог принять тот факт, что я буду в ней жить… Это было как сон, от которого не хочешь просыпаться. Потом сон стал явью, даже обыденностью, рутиной. Как видно, меня не спас полностью небывалый комфорт, в котором я оказался. Проблемы остались: угрызения совести, тревога, отчаянье и чувство вины перед ребятами и Любой. Записи с «Мадам Баттерфляй», бутылки виски об стену и так далее. Я об этом и так много говорил, не буду больше пока.
Письмо десятое, не отправленное, 31 декабря 1982 года
Через несколько часов настанет Новый Год, а мне все равно, я пишу в исступлении новое письмо, которое тоже не буду отправлять никому, сохраню его для себя, как и те два предыдущих… Сегодня на радио у меня был короткий день, завтра, правда, будет длинная смена, с захватом утренних часов, я к этому уже привык, на Новый Год у меня всегда много работы… В общем, выкарабкался я из очередного кризиса с горем пополам, спасибо моему новому призванию. Или это просто мимолетная страсть? Так я называю свою писанину. Но факт остается фактом: у меня появилось занятие, которое стало мне важнее всего.
Это письмо, наверное, будет самым философским из всех. Оно, по сути, ни о чем. Вот его начало: у моего дома есть еще и внутренний дворик с садиком, где можно сидеть и пить утренний кофе, читать газету или книгу, вынеся кресло или стульчик, когда хорошая погода, даже жарить шашлык, который здесь называют «барбекью». Этот дворик очень милый, он не похож на совковый двор, это уютный courtyard, а не уродливый dvor. Климат в Канаде, надо сказать, не сильно лучше российского, я имею в виду центральные и северные районы страны, не Краснодарский край, разумеется. Зима суровая, лето короткое, бывает, конечно, жара, но ее тяжело выносить из-за высокой влажности – везде довольно близко море или большие реки, как здесь, например, река Святого Лаврентия. Зато какой чистый воздух! Во дворике, кстати, я ни разу еще не сидел, видимо, совковый менталитет дает о себе знать. Не привык отдыхать у всех на виду, хотя соседи часто так делают, выносят свои стульчики и нехитрую закуску, и сидят там, порой, часами, греются на солнышке, ловят редкие погожие деньки. Я выглядываю из окна и завидую их беспечности, свободе этой – вот так просто сидеть, никого не опасаясь, не ожидая никакого подвоха… Как для нас, советских граждан, пусть бывших, странно это! Пусть мы и бывшие, но привычки так быстро не проходят, не исчезает сразу эта зажатость, напряженность, готовность к форс-мажору, затравленность. Правда, я уже чувствую, что начинаю впитывать здешние обычаи, местный менталитет, становлюсь более прямым, не так сильно сутулюсь, хожу не такой пришибленный как раньше. У Бродского про это гениально сказано: «Полжизни уходит на то, чтобы распрямиться». Вот, потихоньку распрямляюсь. И меня это радует. Только огорчает, что Люба не может этим пользоваться, и ребята, Димка и этот, младший. Им бы, уверен, понравилось здесь. Они быстро бы впитали все местное. Особенно младшенький. Ему, я так думаю, это бы идеально подошло. У меня какое-то к этому сопротивление есть, увы, порой неприятие даже. Мне нравится все это, но в то же время часто вдруг появляется раздражение, досада. Я знаю, откуда это: просто слишком многое из здешнего идет вразрез с нашим менталитетом, в котором я уже достаточно прожил и просолел в нем, как огурец в рассоле. Вот почему меня это и восхищает, и раздражает. Потому что слишком многому сейчас приходится учиться, приходилось и приходится, и еще придется. Этот процесс не такой быстрый, как хотелось бы. И слишком многое надо отбрасывать, все лишнее, весь этот совковый хлам и стереотипы. Надо постоянно меняться, впитывать новое, а тут еще мои угрызения совести.
Ни с одним соседом по дому я не общаюсь. Только сухо киваю в ответ на их приветствия. Мне не важно, что они подумают обо мне. Может, они каким-то образом узнали, откуда я, как получил разрешение на проживание в стране, чем занимаюсь и так далее. Да, по документам я – бывший политический беженец, ныне нечто среднее между гражданином и туристом, человек с правом на проживание, и меня это, признаться, радует. Для местных я, конечно, эмигрант, да еще варящийся в собственном соку, не слишком охотно перенимающий здешний образ жизни, хмурый, говорящий с акцентом, да еще и довольно сильно пьющий… Странно, что никто из них до сих пор не вызвал полицию во время одного из моих дебошей. На мое счастье, в доме живут типы гораздо похуже; не будь их, у меня бы давно были проблемы с полицией, а так все внимание достается им; на их фоне мои выходки проходят почти незамеченными. Это буйная семейка ирландского происхождения, которая любит выяснять отношения при открытых окнах, потом они шумно мирятся, то есть трахаются, тоже при открытых окнах, на публику… Полиция их уже хорошо знает, глава семейства раз 20 был в участке, их неоднократно штрафовали за нарушение общественного порядка. И, наверное, благоверного упекут в тюрьму, когда количество нарушений превысит какой-то только им, полицейским, известный порог; они ведь действуют по протоколу и считают, сколько ему еще вот так можно доводить всех, а потом рука закона тяжело опустится на его плечо и мы все вздохнем спокойно. Признаться, эта семейка меня не так сильно раздражает, я к ней отношусь даже с нежностью, они напоминают мне наших соседей в Калинине, дядю Колю и тетю Машу, которые жили как кошка с собакой. Когда дядя Коля умер – от сердца, конечно, он был алкаш, – тетю Машу едва успокоили, даже в больницу пришлось положить. Она рвала на себе волосы и пыталась прыгнуть к Коле в могилу, ее дружно оттащили, все женщины рыдали, даже мужчины пускали слезу… Уверен, что если муженек этой ирландки откинет копыта раньше времени, то будет точно такая же сцена. На которую я буду смотреть так же безучастно, как и там, в совке. Уж знаю я цену этим маленьким трагедиям! Вот так люди находят друг друга, какое-то время все идет хорошо, потом приходит просветление, они понимают, что ошиблись, а расстаться не в состоянии, и вот они длят и длят это мучительное сожительство, мучают друг друга до гробовой доски, врут окружающим, что это, дескать, и есть настоящая любовь, а то, что у них – так, скука смертная… Не так ли у нас с Любой было с определенного времени? Или у нас все-таки была и даже есть еще любовь? А может это мои иллюзии, потому что я оказался в изоляции и страдаю от угрызений совести? И принимаю муки совести за любовь и нежность… Если бы я знал, как все обстоит на самом деле!
Знаю одно, понятие дома для меня – по-прежнему болезненная тема. При слове «дом» сразу вспоминаю нашу угловую трехкомнатную квартиру в Калинине, в кооперативном доме, в пяти минутах от Волги. Вот это – дом. А здесь, в Монреале, – пристанище, убежище, конура, уютная и неопрятная, та, о которой я, возможно, изредка и стыдливо мечтал. И вот на тебе, мечта эта стыдливая сбылась, бери ее, пользуйся, живи! В сущности, я и есть не кто иной как беженец, или перебежчик, удравший, сбежавший из своей родной и ненавистной страны «в поисках сытой жизни». Или что там еще про меня брешут все оставшиеся, тайно сгорая от зависти? Мечта любого просвещенного совка, и даже не просвещенного. Любой слесарь-алкоголик знает, чувствует, как животное, что в той же Канаде жизнь в тысячу раз лучше налажена, организована и куда удобнее, чем при таком истово «обожаемом» советском строе. Но до чего же, оказывается, несладок этот хлеб чужбины, как он, перемешанный со слезами, горчит! Однако я этот горький хлеб – «Я жрал хлеб изгнанья» – ни на что не променяю. Да и нет такой возможности менять. Все мосты сожжены.
Стал много в последнее время читать Бродского, и по-русски, и по-английски, его эссеистику и, конечно, стихотворения. Великий поэт, и здорово, что он может спокойно жить в Америке, пусть в изгнании, и публиковаться, и преподавать. Я бы дал ему Нобелевку, если бы это от меня зависело – периодически слышу такие разговоры у нас в курилке, что вот-вот дадут, и на этот раз точно, не прокатят. Давно пора, и не стоит медлить, у него больное сердце, поскорее бы дали уже, а то столько разговоров, а воз и ныне там.