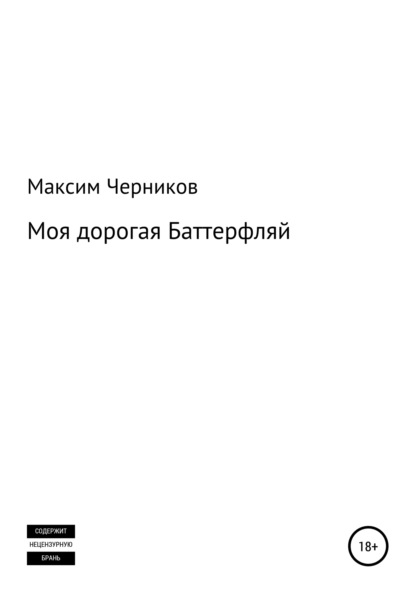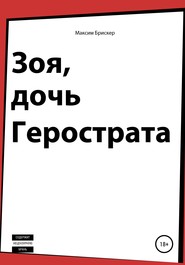По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя дорогая Баттерфляй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот интересно как получается, и Бродскому, и мне помогают страны, к нашей Родине не имеющие никакого отношения. Даже в какой-то мере враждебные, как утверждает пропаганда. А та «прекрасная страна», из которой нас или выгнали, или из которой мы сами сбежали, потому что невыносимо было, она ничего не сделала, чтобы удержать нас. Напротив, она была равнодушна к нам и нашим страданиям, даже как будто наслаждалась ими. Как будто говорила: ну и бегите, пиздуйте! Без вас обойдемся!
И, конечно, я почему-то уверен, что Бродского наградят Нобелевкой, и сделают это шведы, а не та страна, что выгнала, вышвырнула, изгнала его. Эта страна, чего доброго, еще и в позу встанет, дескать, а что это вы его награждаете? А вот хотим – и награждаем, ответят шведы и прочие из тех, кто захочет его наградить. Я просто хочу сказать, что, кроме пинка под зад, мы ничего от нашей страны не получали, он и многие другие, включая меня, хоть я и не претендую на такой же масштаб, как он, разумеется, не ставлю себя на одну с ним доску. Одного, значит, выгнали из страны, выкрутили руки и вытолкали, он же тунеядец и антисоветчик; второй сам сбежал, ну и хорошо, говорит моя родная страна, мы и о тебе плакать не будем. Вот еще. Мы о тебя ноги вытрем. Нам нужны покорные рабы.
От этих мыслей на душе и светло, и тяжело. Скорее тяжело, все-таки, светло лишь от того, что тлеет уголек надежды о Нобелевке для Иосифа Александровича, а так было бы совсем темно и беспросветно. Приходится опять прибегнуть к помощи виски. После двух больших глотков боль притупляется, впервые за долгое время я пью и не плачу, и тем более не бью бутылку о стену; засыпаю почти детским сном, во сне пару раз всхлипываю и вздыхаю, но на этом все, никаких слез. И я совсем забыл, что этой ночью наступил Новый Год…
Письмо одиннадцатое, не отправленное, 1 января 1983 года
Наутро 1 января, снова собираясь на работу, я вдруг понял, что именно эта страна – теперь, по сути, мой дом, мой приют, прибежище добровольного изгнанника. Вот такая горькая ирония: я изгнанник, лишенный дома, домашнего очага, разлученный с семьей, одинокий, но это – мой дом, такой, какой есть… Я пишу эти строки во время пятичасового перерыва между двумя моими большими новогодними сменами; самую долгую я отработал, осталась вот эта, короткая, потом меня сменит Петр Петрович, а завтра уже вся редакция вернется с каникул, будет оживленно и уныло одновременно, все пять пропитается безысходной и неисчерпаемой ненавистью к СССР… С тем же Петром Петровичем, что сменит меня сегодня, кроме его воспоминаний о детстве и о том, как он ненавидит все советское, тоже говорить не о чем. Он из донских казаков, эмигрировавших в двадцатых годах, примерно в то же время, что и Марья Ивановна; но она была двадцатилетней девушкой в то время, а он – совсем маленьким, когда его увезли сначала в Париж, а оттуда, немного подросшим, в Канаду. Он в совершенстве владеет французским, освоил его еще в Париже, а вот по-английски ни бельмеса не понимает. Кстати, так же, как и наша гордость, ум, честь и совесть нашей эпохи, как мы в шутку (и всерьез тоже!) ее называем, Марья Ивановна. Здесь, в Монреале, кстати, французский куда в большем почете, чем английский. Уверен, наша Марья Ивановна сейчас спит здоровым, безмятежным сном в своей девичьей постели, у нее сегодня выходной. А завтра утром будет как огурчик на своем посту, бодрее и веселее всех.
Когда ехал на своем верном Феде, неожиданно вспомнил про мать, впервые за долгое время. Как она там, в Челябинске? Знает ли о моем побеге? Уверен, знает, Люба ей сразу же сообщила, из мести и вообще, надо ведь оповестить, мать все-таки, на это у нее всегда найдется время… Материн телефон Гэбэ тоже прослушивает, уверен на сто процентов, но зря они стараются, я все равно ей не позвоню. Просто не хочу, и все. Что я услышу, кроме эгоистических упреков? Она всегда раздражала меня своим себялюбием, стремлением привязать к себе. Когда я собирался поступать в МГИМО, она костьми легла, не дала мне уехать, все деньги забрала, даже мои собственные, устраивала отвратительные сцены… Я все равно уехал, сбежал тайком, крадучись как вор; перед этим работал на стройке все лето, чтоб было на что сбежать; деньги закапывал в саду, чтобы не отобрала, как тогда, она все вещи мои каждый день обшаривала… Она осталась в Челябинске, после смерти отца у нее появился любовник, вот, наверное, с ним и стала жить; при мне он стеснялся приходить к нам, она к нему сама бегала, не могла без мужчины. Да я и не виню ее, по крайней мере за это, хотя меня все эти шуры-муры коробят, память отца и все такое… Хотя отец сам был хорош! Исчез, и все, пропал с концами, никто даже найти его не смог. Ни одной весточки от него, ничего, за много лет. Вот это стойкость духа! Или просто эгоизм?
В МГИМО я не поступил, завалили, сволочи, на вступительных, там такой блат. Хотя я блестяще выдержал все экзамены. Я видел по глазам этих тварей, что мой ответ – лучше всего того, что они слышали за долгие годы. Но – пресловутый пятый пункт. В общем, не получилось с Москвой. Пришлось ехать к теткам в Калинин, к жадным еврейкам, которых так и хотелось некрасиво назвать жидовками… Как они меня изводили! Выдержал у них два месяца, потом поступил в Калининский Университет, у приемной комиссии глаза были мокрые – так хорошо я отвечал на экзамене. Все пять лет учебы они меня на руках носили. Самое счастливое время было! Первая любовь – нет, не с Любой, с Аллой… Не хотел говорить об этом, но да, именно Алла была моей первой женщиной и… первой женой. Недолго, правда, эта наша музыка играла, полгода вместе протянули и разошлись как в море корабли. Но поначалу я был ужасно влюблен. Каждый день старался покупать ей цветы, не замечал ее капризно оттопыренной губки, из-за которой все и началось потом… Алла была дочерью генерала, избалованная девица, куча нарядов, дорогая заграничная косметика и все такое. Многие думали, что я из-за этого с ней связался, но нет, она меня пленила совсем другим. Своей независимостью, гордостью, прямой, как у балерины, спиной. У нее был характер. А какое тело! Я замучивал ее постельными делами, а она в этом была довольно холодна, надо сказать. Или это я ее не заводил? Все возможно, да мне и не важно теперь, что там было и чего не было. Потом все как-то расстроилось, оркестр наш заиграл фальшиво, хотя уже давно он так играл, это я слишком любил и не замечал этого. Когда заметил, очнулся, было самое время – Алла сделала второй аборт, был скандал, ты не хочешь ребенка от меня? Нет, не хочу. А, тогда я ухожу. Уходи, сделай милость… Я так от тебя устала! После этого разговора я ее не видел. Ну, не считая суда. Мне настолько она стала противна, что я даже ни разу не обернулся, чтобы посмотреть на нее, она сидела сзади, в глубине, я чувствовал ее присутствие, ее взгляд, но не реагировал. Когда я шел к судье подписывать заявление, наши глаза встретились, она их отвела первой, я слегка задержался на ней и тоже перевел взгляд на потолок, я видел чужую женщину, ее лицо ничего мне не говорило, это было незнакомое существо. Я как можно быстрее подписал все бумаги и вышел из зала, спокойный, уверенный, не жалеющий ни о чем. Все время, что я провел с ней, казалось дурным сном, почти кошмаром.
На праздновании в честь окончания последнего курса и получения диплома я впервые увидел Любу, она стояла скромно в стороне, разговаривала с подружками. Но взгляд был смелый, и в то же время кроткий. Мне словно кто-то сказал, шепнул на ухо: «Вот она, давай, иди к ней!» И я пошел. Пригласил на танец. Завязался неловкий разговор. Я чувствовал себя искушенным рядом с ней, у меня было уже за плечами три-четыре романа, даже короткий брак. А Люба была как раз совсем не искушенная, наивная и чистая. Она не казалась особенной, яркой, харизматичной, но в ней было что-то трогательное, ранимое даже, она вся была раскрыта как свежий молодой цветок, который ищет солнца, который хочет беззаботно улыбаться его лучам и радоваться жизни. Я подумал, что, если упущу его, то этот цветок уйдет к другому, и что тогда будет? Она достанется какому-нибудь Митьке, или Саньке. Странные это были мысли, но я понял, что это судьба, что я уже взял этот цветок в свои руки и он мой…
Я поцеловал ее, она хотела отстраниться, но передумала и робко, трогательно потянулась ко мне своими девичьими, ни разу не целованными губами. В эту же ночь, в моей общежитской комнатке, у нас случилось это. Я был нежен и ласков, а она так трогательно отвечала на каждое мое движение, что я готов был заплакать. Один раз в глазах даже стояли слезы, но она не видела этого. Я был пленен и покорен, она стала моей женщиной, скоро будет моей женой, в общем, в эту же ночь все решилось. Мы отчего-то тянули со свадьбой еще пару месяцев, нас обоих пронзила какая-то странная, подростковая робость, и тогда я сам пошел в ЗАГС и обо всем договорился. Как назло, был самый сезон, все ближайшие дни были заняты, так что пришлось ждать еще две недели. Но нас, признаться, это совершенно не волновало. Мы уже были одним целым, мужчиной и женщиной, нашедшими друг друга, двумя соединившимися половинками. Скоро станем мужем и женой. Запись в книге, церемония, фата, белое платье, гости, банкет – всего этого нам было не нужно, да и денег не было. Была простая церемония, с минимальным количеством друзей, все из университета, никакой помпы. Я прекрасно знал, что моя мать все раво не приехала бы, поэтому не звонил ей. Любины родители тоже не смогли приехать, они жили еще дальше, в Сибири. Правда, была ее старшая сестра и брат.
После свадьбы мы все равно поехали к ее родителям – Люба на этом настояла. У них был большой частный дом в Хабаровской области, родители оказались открытыми, честными людьми, я нашел там настоящий родительский дом, которого никогда до этого не знал. Сразу стал звать их папой и мамой, и это было искренне. Я полюбил Любиных родителей, иногда подсмеивался над ними, над их «деревенской» простотой. Но полюбил искренне, от всей души. И они меня тоже. Неграмотная, почти не учившаяся в школе, но очень мудрая Мария Никитична называла меня «Валерощка», она не выговаривала «Ч». Она любила рассказывать, как девочкой пошла в школу, а по дороге на нее напали деревенские мальчишки, обозвали ее «нищенкой», распотрошили портфель, испортили учебники, вытащили узелок с едой, и она, плача, вернулась домой. Больше в школу ее не отправляли. Или как ее укусила змея-медянка, а она думала, что это рыбка… У меня слезы на глаза наворачивались. Отец, Иван Васильевич, говорил, что из всех детей я на него более всего похож. Мы с ним ездили по соседним областям, добывали дефицитные продукты типа мяса и сыра – полки были пустыми; выпивали, вели мужские разговоры, часто засиживались до утра. Он был очень талантливый бухгалтер, работал на золотых приисках, работа была рискованная, но денежная. Конечно, он проворачивал махинации, но никогда никого не обманывал – из подельников. А всякие там ревизоры – они прекрасно понимали, что есть махинации, но не могли его поймать, как ни бились, настолько он умело прятал концы в воду…
Уверен, родители Любы живы-здоровы. Наверное, их глубоко задело и расстроило то, что я сделал. Вот, значит, еще двое, перед которыми я чувствую себя очень виноватым. И моя мать тоже, дай бог ей здоровья и долголетия. Уверен, что кого, а ее не слишком расстроило мое исчезновение. По сути, я уже давно исчез из ее жизни, она никогда мне этого не простит… Но даже после того, что я сделал, Люба не станет дружить с моей матерью, уж слишком они разные. Они виделись всего пару раз, но друг друга терпеть не могут, и это навсегда. Мать унижала Любу, прохаживалась по ней, Люба терпела, а потом вспыхивала, в итоге получались сцены. Когда они готовы были навеки разругаться, я увозил Любу. Та пару дней на меня дулась, припоминала все гадости, которые услышала от матери, потом отходила. У матери всегда был злой язык, и еще вдобавок эта ревность.
Наши с Любой отношения тоже стали ухудшаться, и это было не из-за матери, а из-за нас самих. Не знаю, почему, но мы стали какими-то нетерпимыми друг к другу, собачились по мелочам и по-крупному, доходило до скандалов и истерик. Я про это уже не раз говорил. Мне стало казаться, что Люба меня разлюбила, меня это задевало. Я знаю, она мной не переставала восхищаться, мой ум, эрудиция, яркость – все это ее трогало, но… Но было что-то, что ее не устраивало во мне. Я это хорошо понимал. Да и мой характер оказался далеко не сахарным. Я изводил ее порой придирками, вспышками гнева, неконтролируемой яростью, даже несколько раз бил ее. Я мог бы сказать в оправдание, что это она меня провоцировала, да очень часто так и было, она правда меня унижала, язвительно комментировала мои идеи, которыми я с ней делился. Но я! Почему не мог ей, бабе, показать, что благороден, даже, быть может, благороднее ее, не мог дать ей пример, падал до ее уровня, бабьего, визгливого, обидчивого? А она ждала от меня другого… В общем, что-то стало не ладиться у нас.
Рождение Димки и помогло, и не помогло. Мы стали жить гораздо лучше, купили трехкомнатную кооперативную квартиру в Калинине после 7 зимовок в Якутске; я там работал в газете «Советская Якутия», Любу удалось пристроить на радио. У нее, кстати, в отличие от меня, был диплом журналиста, а я был по образованию педагог, но давно работал именно как журналист. Благополучие иногда помогало уменьшить разногласия и трения, создавало защитную пленку, но те все равно прорывались наружу в виде скандалов и ссор, обнажая истинную сущность наших отношений. Или это были именно те отношения, которых мы оба желали? А может, мы были только на них и способны? Не знаю. Одно было ясно: несмотря на комфорт, брак наш дал серьезную трещину.
Письмо двенадцатое, не отправленное, 3 января 1983 года
Первые дни Нового Года – всегда суетные, что бы ты ни делал. Вот и у меня они пролетели как-то пусто и быстро, бровью не успел повести, как настало третье число, и я снова сел писать. Я прекрасно помню, на чем остановился, но на всякий случай заглянул в предыдущее письмо. Это письмо я тоже не отправлю никому; думаю, гэбня в Калинине уже заскучала, но пусть ребята помучаются, не все же мне страдать!
Я не знаю, мне стыдно, хотя что уж тут, надо говорить до конца… Я думаю, что Люба была разочарована во мне как в мужчине. Я не давал ей не только этого, постельного, достаточно для ее темперамента, но и чего-то еще, какого-то ощущения, что есть между супругами. Ей чего-то не хватало, может, нежности… А может, просто коитусов, этого элементарного, физического, даже животного состояния, в котором она нуждалась, видимо, куда больше, чем я. Мы оба были зажатыми советскими мужчиной и женщиной, избегали разговоров на эту тему, но чего-то хотелось еще… Ей-то уж точно; меня в принципе наши редкие постельные дела устраивали. Может быть, она меня не пленяла как женщина, не знаю, но других женщин я и не искал, презирал эти кобелиные утехи, эти блядские компании, в которые иногда попадал и из которых стремился поскорее уйти… И, в какой-то мере, слава богу, что у меня появились моря. Иначе я бы точно ушел. А так я ушел в моря, по восемь месяцев не бывал дома, потом четыре месяца – отпуск, во время которого все проходило по довольно привычной схеме: приезд, подарки, веселье, радость, гости, праздник… Потом – будни, заботы, скандалы, иногда с рукоприкладством, причем Люба все более смелела, старалась вмазать мне, иногда у нее это получалось. После одной стычки с кухонной доской я стал ее бояться, она меня тогда ловко и сильно огрела, была довольна этим и пообещала впредь так же делать, если я буду на нее нападать. Поделом мне! Я стал ее уважать.
Я не знаю, что нас удерживало вместе. Ее, наверное, дети; а меня? Может, совесть? Как я ее брошу, что с ней будет? Она мне век не простит. И дети тоже. Димка, любимый мой сынок, как я ему могу сказать, что ухожу? Нет, это было выше моих сил. И я нашел выход: сбежал в ночи, как тать, от проклятого, ненавистного совка, и от них тоже.
Не знаю, была ли это любовь, или что это тогда, если я при мысли о разводе пугался и не мог решиться на это? Она мне нередко в голову приходила, эта мысль; она меня повергала в уныние и бодрила одновременно: ах, свобода, долгожданная свобода, один, в холостяцкой, пусть съемной квартире, трехкомнатную им, конечно, оставлю, буду помогать, платить алименты, даже сверх того давать, но зато буду жить один. Один! Какое счастье… Да, это все глупые иллюзии, ошибка молодости, за которую еще долго придется платить, но зато можно жить для себя, наконец-то! Может, засяду за свою писанину, так хочется написать пьесу, роман… Хотя бы рассказ! А с этой семейкой разве такое возможно? В морях, кстати, появилось время и желание писать, и я принялся что-то набрасывать. Но далеко все это не пошло. Так и осталось лежать в столе. Однако я не отчаиваюсь, возможно, вернусь к этому, записи я прихватил с собой, когда сбегал.
Да, и еще вот что. Куда легче отказаться от звонков матери, чем жене, которая тебе стала матерью, с которой ты делил все и даже больше. Которая даже в разлуке была самым дорогим и близким тебе существом на земле. Никогда я не переставал думать о ней, о доме, о Димке… Когда мой корабль чуть не потонул, я горячо и страстно молился богу, я стал в тот момент по-настоящему верующим человеком. Я еще не видел младшего сына, господи, сказал я в пустоту, в этот шторм, в эту темноту, в эту черную стихию, которая бушевала вокруг. Теперь понимаю, что был спасен не из-за того, что кто-то там увидел, услышал меня и решил спасти. А просто так. И уж точно не из-за того, что не видел второго сына. А может, это и была ирония всевышнего? Ну, раз так просишь увидеть его, увидь. Но обрадуешься ли? Бойтесь исполнившихся желаний, так говорят, вроде, буддисты или просто мудрые люди… Со вторым сыном так и не смог найти общий язык, наверное, это моя вина, слишком я разбаловался с податливым и откровенно мной восхищавшимся Димкой. Но не хочу больше об этом, не получилось, значит, не получилось, и все тут. Я к нему не чувствую ничего, ровным счетом ничего. А к Любе и Димке – чувствую. И пусть перед Любой это прежде всего чувство вины, все равно это глубокое чувство, да и не только оно, есть еще нежность, воспоминание о том, как нам было когда-то, пусть давно, хорошо. И я к тому же человек долга. Бросить семью для меня – это отвратительно. Жить бобылем, мерзким запущенным холостяком, без опоры… В совке я и помыслить об этом не мог. А в этом обществе, религия которого – индивидуализм, я с легкостью пошел на это. Здесь это даже в какой-то мере приветствуется. Уж точно не осуждается.
Странно, но именно перед вторым сыном, чужим и непонятным, тяжелым и отталкивающим, мне стыднее всего. Стыднее чем перед Димкой и Любой, вместе взятыми, и даже если прибавить всю Любину родню, которая наверняка обо всем уже узнала, все равно он один, этот маленький молчаливый и трогательный бесенок, перевесит. Ну и сила у него! Какая-то таинственная, внутренняя силища в этом тщедушном теле… Он с детства, непонятно с чего, при такой сытой и спокойной жизни, страдал дистрофией, правда, в легкой форме. Как будто в нем был какой-то протест, дескать, не трогайте меня, я сам разберусь, что мне надо и что не надо. Вроде и ел нормально, даже более чем, вон аппетит какой был даже у грудничка, Любину сиську терзал нещадно… И сейчас, уже пятилетний, хорошо говорящий, правда, с дефектами смешными, он вроде неплохо ест… К логопеду его стали водить, а он все словно упрямился, не хотел выговаривать как следует некоторые звуки, а потом, в один буквально день, стал нормально говорить. Логопед с ним, Люба рассказывала, до изнеможения билась – с нее аж пот градом лился. Ну и характер – упрямый, своевольный, не я ли это, только более утрированный? Наверное, это меня в нем бесит больше всего – похожесть и то, что у него жизнь сытая, благополучная. Люба всегда говорила, что я не прощаю тем, у кого было более счастливое детство, чем у меня; даже ей, у которой было так себе детство, но в полной и нормальной семье, я и то завидовал; хотя ей доставалось от деспотичного отца; это он со мной такой хороший был, а своих детей гонял как сидоровых коз, да и жену поколачивал, еще и погуливал к тому же… У меня было по-другому: отец рано ушел из дома, просто пропал однажды, никого не предупредив, не оставив даже записки. Видать, переехал куда-то и начал новую жизнь. Я так и не знаю подробностей; только на похоронах увидел его снова. Он лежал себе в гробу, словно спал, спокойный и гордый одиночка. Я тоже, видать, в него пошел. Вот, смылся не хуже его, внезапно пропал; правда, про меня все ясно, а он… Про него вообще ничего не знаю. Может, из-за этого я такой надломленный человек? Не было контакта с отцом. Из-за этого, быть может, не ладится у меня семейная жизнь, и так далее? Отец исчез, мать – требовательная и деспотичная, к тому же еврейка, я этого долго стеснялся; в школе меня травили, обзывали евреем и похуже, колотили даже не раз; я дрался тоже, давал как мог сдачи, но силы были слишком неравные; за то, что приходил с порванной штаниной или разбитой губой, еще и от матери доставалось; поэтому в моих интересах было не связываться, а удирать; я боялся прогневать мать, которая стала очень раздражительной; я так переживал, даже думал руки на себя наложить…
Зачем я все это вспоминаю? Только расстраиваю себя. Почему я не могу, как мой беглец папаша, жить спокойно, ни о чем не думая? Хотя откуда я знаю, как он жил, может, тоже как я страдал… Я соскучился по письмам, которые писал Любе, и стал их читать, декламировать вслух – вот они, привычки одинокого человека! Перед отправкой я предусмотрительно делал с них ксерокопии и теперь, перечитывая их, хвалю себя за предусмотрительность. Прочитав их все до единого, решил следующее письмо написать ей, а не себе… Или кому я пишу эти письма без адресата?
Письмо тринадцатое, 7 января 1983 года
Люба, пишу тебе новое письмо, с большим перерывом, но пишу все-таки! От тебя я ответа не жду, вообще не знаю, видишь ли ты их, мои письма… Я ездил на Ниагарский водопад и даже в суматошный Нью-Йорк. На водопаде – красотища необыкновенная, но тревожно; в Нью-Йорке куча народу, очень напряженная атмосфера, полно психов и даже бандитов, вот тебе и витрина капитализма! Все очень дорого, только еда немного дешевле, чем в Канаде… Представь, я ездил на своей машине! Тебе бы понравился большой и благородный американский Форд, я его не так давно купил и на права сдал. Я его называю Федей, это ему идет. Много я проехал… Помнишь, как я пытался когда-то сесть за руль, очень неудачно? Это было давно, но я хорошо помню. Мы купили новый «Москвич»; я сдал на права, но в первый же день врезался в столб и испугался. После этого мы сразу продали машину, с небольшим убытком, правда. И вот я в сорок с лишним лет научился ездить, тьфу-тьфу-тьфу. Да, представь, сажусь за руль и еду, хотя никто не думал, что я так смогу когда-нибудь, включая меня самого.
Я иногда думаю, а что если этот проклятый железный занавес порвется, падет и тогда наступит другое время? И ты, Люба, быть может, простишь меня, и я смогу… вернуться. А может, ты сюда с ребятами захочешь приехать? Или даже переехать навсегда… Но я, я этого захочу? Не знаю, но я бы попробовал, хоть, честно говоря, надежды на это у меня мало. Как мало надежды и на то, что мы будем жить дружно, как прежде, без скандалов и упреков. Я скучаю и по тебе в какой-то мере, и особенно по Димке, да, но только не по младшему. И это очень плохо, он мой сын, но, если этот проклятый режим вдруг падет, я дам нам всем шанс, чего бы мне это не стоило. Что-то я размечтался, однако. Думаю, товарищи из органов, читая мое письмо, изрядно повеселятся. Ну и пусть веселятся! Им не привыкать танцевать на чужом горе, на пепелище чужих жизней и разбитых судеб.
Наверное, пора кончать с этим нытьем. И – продолжать жить. Нести бремя потерь и разочарований; работать на радиостанции, о которой так мечтал когда-то. И страдать, конечно. Какой русский не любит страдать?
Но в противовес здравому смыслу и инстинкту выживания, или просто параллельно своей обыденной и вполне устроенной здесь жизни (хотя бы с виду), мне часто кажется, что я погружаюсь в какую-то тьму, безо всякой надежды на свет, как утопающий на дно океана, но без отчаяния. Я даже рад, что ничто не помешает мне на этот раз его достигнуть, этого дна. Играет пуччиниевская Un bel vedremo, а я медленно, но верно иду на дно, как перегруженное судно. Больше мне нечего добавить. Я буду жить один, ходить на радиостанцию, пока не выгонят, буду влачить свое довольно жалкое существование, наконец успокоившийся, нашедший свой маленький рай, свою Вальгаллу посреди канадских просторов. Правда, этот рай на поверку оказался не таким раем, как думалось, но так всегда случается, когда рисуешь что-то слишком идеальное или упоенно о чем-то мечтаешь. Буду влачить свое существование, в какой-то мере бессмысленное, потому что без любви, в какой-то мере осмысленное, потому что сам на это пошел, как человек, выбравший свободу ценой всего остального. Мне никто не поставит не то, что памятника, даже крохотной таблички не будет со словами: «Он пожертвовал всем ради свободы».
Придет время, и я утону в этом океане тихо и незаметно. И, когда окончательно исчезну, никто не вспомнит обо мне. Да, наверное, я любил свободу больше всего. Но не смог отказаться от любви к женщине, которую бросил. Пинкертон тоже бросил свою мадам Баттерфляй, чтобы потом вернуться и увидеть ее жертву, ее благородство и чистоту. Я не вернусь. И ты, Люба, не станешь Баттерфляй, и слава богу. Я надеюсь на это, по крайней мере. Да, мы оба – я и он – бросили женщин, которые были нам преданны несмотря ни на что. Пусть не так много сходства в моей и его историях, но Любушка, ты моя Баттерфляй и ей всегда будешь, моя боль и мое счастье, с которым я разлучился. Я идеализирую, конечно, вместе было тяжело, но и порознь не легче. Хочу сказать: «Прощай, моя дорогая Баттерфляй!» Но, пусть нет почти никакой надежды, вдруг что-то изменится?
Письмо четырнадцатое, не отправленное, 13 января 1983 года
Я снова возвращаюсь к стилю своих «неотправленных писем». По-другому не могу, не хочу травмировать Любу. Вдруг из вредности калининская гэбня даст ей прочесть именно это письмо? И что тогда будет? А у нее больное сердце…
И, однако, странная все-таки эта штука – жизнь. Недавно впервые позвонила… Энни. Та самая Энни из Буффало, или Баффэлоу, как произносят это название в Америке. Мы мило поболтали, и она собирается приехать в гости, она никогда не была в Монреале. Естественно, я оплачиваю ее билеты, сам на этом настоял. Я немного волнуюсь, как все пройдет на этот раз. Это будет не спонтанная, как тогда, в Буффало, а спланированная встреча. Что она принесет? Не знаю, слава богу, заранее, и не хочу знать. Тем и прекрасна жизнь, в довольно редкие свои моменты, что неизвестно, что будет дальше и, главное, как будет дальше. Я отдаюсь в руки случая, и впервые за долгое время счастлив от этого. Чувствую себя моложе лет на пятнадцать, и это тоже дорогого стоит. Взбодренный и взволнованный, иду в парикмахерскую и поправляю то, что еще можно поправить, хотя поправлять и исправлять все меньше приходится. В каком-то смысле это даже к лучшему. Что есть, то и есть, – вот чему учит возраст. Ощущаю себя одновременно помолодевшим и очень-очень мудрым. Как раз такое сочетание и должно понравиться Энни. Хотя перед кем я так стараюсь? Перед ночной бабочкой, проституткой по сути, даже не по сути, а именно что проституткой…
А и что с того, что она такая? Чем она хуже Сонечки Мармеладовой? Да получше любой другой будет! У нее открытая душа, доброе сердце и красивое, отзывчивое тело, которое приводит меня в трепет… И вообще, я не люблю слово «проститутка». Никогда не знал этих женщин и никогда не пользовался их услугами. И, наверное, мне повезло, что попалась такая открытая и простая в хорошем смысле девушка, как Энни. И ее тело, конечно… Я считал, что моя потенция плавно (а то и, поди, стремительно!) затухает и уже ничто ей не поможет, как вдруг… Почему-то с Любой такого не было давно. Да, вот до чего мы докатились! (Мы здесь – это я, конечно же, просто не хочется так категорично себя распинать). Я, стареющий прелюбодей, или прелюбодей в расцвете сил, не важно, при законной жене, с которой официально заключил брак, и который все еще законен, потому что не было возможности его цивилизованно, с соблюдением всех норм, расторгнуть, что бы там ни пищали совковые суды и какие бы решения они ни выносили, – я, женатый на женщине из СССР, изменяю ей с американской проституткой… Кому бы сказать! Но я живой мужчина со своими страстями! Я самому себе противен, а в чем-то наоборот, даже как будто приобретаю вес в собственных глазах. О, натура человеческая! Я все прекрасно осознаю и делаю так, как лучше мне. Эгоист? Еще какой! Я даже не хочу представлять, в каком аду живет моя (бывшая?) семья. Хотя, кто знает, может ребятам – детям – это даже пойдет на пользу, закалит, если не озлобит и не разочарует раньше времени. Но Люба – каково ей? О, на это я с легкостью, циничной и отвратительной, закрываю глаза, я давно отвел ей в моей пьесе самую что ни на есть трагическую роль. Она моя Баттерфляй, и этим все сказано. Я словно упиваюсь этим, дрожу от какого-то непонятного вожделения, когда думаю о ней в этом образе, в образе трагической актрисы, или певицы… И, став героем этой пьесы, я произношу напыщенные, мало имеющие отношение к реальности слова: «Моя дорогая Баттерфляй, настанет день, и мы снова увидимся. Настанет день, и я вернусь». Эти слова ни к чему меня не обязывают, эти слова – просто красивая пыль, романтический дым, что стелется под ногами. Дым рассеется рано или поздно, и что тогда? Что останется? Грубая, серая, жалкая реальность. Нет, уж лучше тогда жить в этой пыли, в этом дыме.
Я жду приезда Энни с нетерпением, готовлюсь к нему методично и неспешно, словно опытный обольститель, словно паук, терпеливо поджидающий свою сладкую жертву… А вдруг это новое чувство станет не просто чем-то мимолетным, а важным этапом в моей жизни, новым уровнем, которого я достиг? Может, это все-таки судьба, а не пустая прихоть? Может, это большое чувство, в начале которого я оказался?
Письмо пятнадцатое, не отправленное, 15 июня 1983 года
Прошло всего полгода, а столько вещей изменилось. Я забросил свои письма без адресата, даже не думал о том, чтобы засесть за них, реальная жизнь стала такой насыщенной и, не скрою, интересной, что я потерял желание описывать ее… Я просто хотел жить ей. И я просто жил как животное, и радовался ей тоже как животное. Коллеги на радио меня не узнавали, соседи расплывались в улыбке, видя меня, прохожие подмигивали на улице. Мир любил меня, потому что я его тоже любил. Я купался в любви. Я жил любовью и был беззаботен, как младенец, или как молодое животное, с которым я так люблю себя сравнивать.
Самая главная новость: Энни стала моей женой. Да, именно так, моей женой. Получается, что я двоеженец? Ну да, по общим, земным законам, так выходит. Но перед этим новым миром, в котором я оказался, я чист. И по этим законам, не сказав никому, что у меня осталась в России жена, я беру в жены Энни. А что я должен был говорить? Что мне не дают связаться с семьей, что я пытался за эти предыдущие месяцы как-то до них достучаться, найти их, но все без толку? Что они словно под землю провалились?
По телефону, который у меня остался в памяти, по когда-то нашему домашнему телефону, отвечали другие люди. Те люди, через которых я несколько раз пытался передать деньги, сказали, что понятия не имеют, куда Люба и двое мальчишек подевались, они их не могут найти. Матери звонить я не стал. Вот и все мои поиски. Но почему-то после того, как я осмелился набрать этот номер, словно гора с плеч свалилась. Мне показалось, что у меня развязаны руки. Что теперь я точно могу не сообщать, что женат… Энни этого и не знает. Никто здесь, кроме меня, не знает. И я не собираюсь никому говорить. Соврав один раз, второй раз врать легче. Я не перестаю удивляться своему хладнокровию, но я словно стал другим человеком, без угрызений совести, без лишних эмоций. Я делаю то, что надо и как робот быстро выключаю ненужные чувства. Я очень сильно изменился с тех пор, как стал жить с Энни. Стал настоящим западным человеком? Может быть и так. Или почувствовал всю ответственность перед молодой женой?
Когда дело дошло до детей, оказалось, что Энни бесплодна. Тогда я рассказал ей про семью, которую оставил в СССР. Я умолчал, что это была настоящая семья, сказал, что это была просто «женщина», а не жена, с которой я «встречался» и от которой у меня было два сына. Если б она узнала правду, она, наверное, подала бы на развод. А может и не подала бы. Энни любит меня, я это знаю. Мало того, она мне очень благодарна. Кто вытащил ее из того болота, в котором она сидела до встречи со мной? Я же увидел в ней женщину, немного заблудшую, заблудившуюся по дороге к истине, простите за выспренность. Я думаю, ее бесплодие – это в какой-то мере отголоски ее прошлого ремесла. Но я ничего ей про это не сказал. Я даже, если честно, был рад, что она не может иметь детей. Я не хочу делить ее ни с кем. Глядя на Энни, я подумал, может, это и есть причина моих ссор с Любой? Я ведь ревновал ее ко всем – к детям, к родственникам и подругам. Сам я тяжело сходился с людьми, у меня всегда было мало друзей, а к ней люди тянулись. Правда, со мной она часто была не такой великодушной, как с ними, позволяла грубости, унижала даже. Кому сказать – не поверили бы.
Я не собирался жениться, видит бог, но так вышло, даже не знаю, что на это сказать. Захотелось. По канадским и даже советским законам я преступник. Но меня это не так уж сильно теперь волнует.
Письмо шестнадцатое, не отправленное, 19 сентября 1990 года
Прошло целых семь лет между пятнадцатым и шестнадцатым письмом. И, наверное, это были самые счастливые годы моей жизни… Я за это время не написал ни одного письма, ни одной строчки, зато было много другой, репортерской работы, которая доставляла мне огромное удовольствие. Успел поработать и в газете, и на ТВ, но все равно вернулся на радио, чему несказанно рад. Радио – это мое, по-настоящему мое. Правда, это уже другая радиостанция, не та замшелая «Эмигрантская волна», как я ее в шутку называю и от которой меня немного передергивает, когда вспоминаю… С мечтами написать роман, или хотя бы несколько рассказов, я распрощался, не знаю, на время или навсегда… Думаю, что роман мне никогда не написать, и не надо. Но кто знает? Вдруг когда-нибудь засяду за него, например, на пенсии… Видимо, эти годы у меня были настолько полны счастья, что и писать не хотелось.
Энни – конечно, моя милая Энни, вот кто главный источник моей радости. Без нее я бы никогда не ушел с «Эмигрантской волны»; остался бы там гнить заживо вместе с Петром Петровичем и прочими типами, у которых плечи так и обсыпаны перхотью… Из-за чудесной Марьи Ивановны, которую я любил как мать, я там все-таки не смог больше оставаться. Кстати, Марья Ивановна, справив 90-летний юбилей, через неделю преставилась, умерла в своей постели. Счастливая, благородная женщина, многое прошедшая и повидавшая, душа нашего радио, которое, несмотря на антипатию, я все равно зову «нашим». Я так и не записал те удивительные истории, которые она так хорошо рассказывала. Чувствую за собой долг, который, буть может, когда-то отдам.
После того как Энни переехала ко мне и мы поженились, у меня начался новый жизненный цикл. Я взлетел в профессиональном смысле, работал на ТВ и в крупных газетах, до сих пор сотрудничаю с некоторыми из них, как и с ведущими канадскими и американскими журналами; меня даже приглашали и до сих пор приглашают на местные ток-шоу как эксперта по советским делам… У меня богатый послужной список, и я даже стал «селебрити», то есть знаменитостью, что очень здесь ценится и вообще выгодно. Они приносят рейтинги, их так просто не увольняют.
Теперь я расскажу о самом главном. В 1985 году грянуло невиданное и совершенно непонятное – perestroika. Горбачев пришел к власти, и задули новые ветры оттуда, откуда, как я думал, они никогда уже не задуют. Gorby, Moscow, vodka, spasibo, nazdorovie и многие другие русские слова стали страшно популярны на Западе, в том числе в Канаде и США. СССР стал модным и очень актуальным местом, он приоткрылся для мира, а потом и вовсе открылся. Для меня, достаточно долго не жившего там, это стало чем-то невероятным. Я некоторое время не мог понять, как это возможно. Но до полной демократизации надо было еще подождать несколько лет. Правда, я воспользовался спросом и решил использовать свои преимущества как бывшего советского человека, подтянул знания на тему и стал «экспертом». Я ставлю это слово в кавычки, разумеется, так как по-настоящему я специалистом себя не чувствовал, но анализировать умел. Тем не менее я погрузился в тему СССР и его возможной модернизации, много писал, выступал, критиковал некоторые шаги Горби, другие хвалил, использовал свой старый багаж, предостерегал и ободрял… Мне, в конце концов, было не все равно, что происходило с моей Родиной. Я ратовал за ее демократизацию, приветствовал ее, хотел искренне помочь, пусть на расстоянии, убрать некоторые стереотипы и так далее. Я боролся как со своим, так и с чужим недоверием насчет СССР, которого многие здесь еще сильно боялись, где-то справедливо, а где-то это была оголтелая пропаганда родом из холодной войны, которая многим, в том числе мне, обрыдла. На вопрос, почему я не еду на Родину и не увижу все своими глазами я отвечал, что как диссидент, увы, не могу себе этого позволить, хотя очень хотел бы туда поехать. Что я все еще, несмотря на большие демократические перемены, считаюсь государственным преступником.
В 1986 году случился Чернобыль. Опять все внимание было приковано к СССР… Я переживал и удивлялся лишь тому, что из-за горбачевских послаблений все про это узнали. Но при Горбачеве и это стало возможным. Да, это была самая настоящая гласность, которая меня поражала больше всего. И, конечно, я скорбел и сочувствовал. Уверен, что мои бывшие к тому времени коллеги с «Эмигрантиской волны», эти лоснящиеся плеши и обсыпанные перхотью плечи, злорадствовали в своей бессильной и беспросветной ненависти. А я выступил с блестящим докладом на эту тему в университете Торонто, в котором призывал к открытости с Советским Союзом, к улучшению отношений, к диалогу и сотрудничеству, к помощи ему, в конце концов. Все уже знали про тамошние экономические проблемы. Мне аплодировали стоя.
В 1987 году Бродскому дали Нобелевку. Я плакал от счастья и повел Энни в самый лучший ресторан города, праздновать, хорошенько там выпил и пел подшофе
«Очи черные». Мне аплодировали немного ошарашеные посетители. Хотел съездить в Нью-Йорк, повидать его, но так и не собрался, мешало плотное расписание. Думаю, у него оно было не менее плотным, а договариваться о личной встрече с нобелевским лауреатом у меня не хватило смелости. Я ограничился статьей-поздравлением, напечатанным в самой крупной местной газете, и собственным небольшим репортажем на ТВ. Тем временем из СССР приходили все более ободряющие новости. В 1989 году мы с Энни единодушно решили туда съездить. Полгода ушло на получение виз и улаживание прочих формальностей, которых оказалось на удивление много. Я подавал заявление на визу как гражданин Канады, в посольстве общался через адвоката, так что никаких проблем с этим не было, хоть я и волновался. На самом деле, довольно много волновался. Энни это сразу заметила и решила, что это из-за диссидентских проблем я так переживаю. «Вэлери, никто тебя не арестует и не посадит за это в тюрьму! Если это произойдет, я сама пойду на прием к Горби и все ему расскажу», – проговорила она взволнованно. Она тоже не на шутку нервничала, но старалась не подавать вида. Если б она знала, что из-за диссидентских проблем я как раз меньше всего переживал…
Мы приехали в начале марта 1990 года. Прибыв в Москву, провели там четыре насыщенных дня. Все бурлило. Месяц назад на Пушкинской площади открылся первый в СССР ресторан «Макдоналдс», в котором по-прежнему были длинные очереди. Проходя мимо, мы с Энни все время удивлялись, но никогда не смеялись. Что тут смеяться, бедные люди хотят урвать хоть немного от западного образа жизни. Что тут смешного, когда вокруг такая нищета! Мы с Энни чувствовали себя неуютно, даже виновато. Но что делать, мы знали, что приехали из другого мира. Я особенно это знал, а для бедной Энни это был большой шок. Она впервые своими глазами увидела, каково живется гражданам некогда могущественной страны, которая никогда не была могущественной, скорее наводящей ужас и страх. Но очень хотела таковой казаться. Колосс на глиняных ногах, который вот-вот рухнет. Этим предчувствием катастрофы было пропитано абсолютно все. При этом было как-то очень живо и даже весело – лихорадочно весело, безумно весело, так, как может быть, когда нечего терять, когда все уже потеряно и ничего не видно ни вблизи, ни вдали. У меня мелькнула отчаянная мысль – а не остаться ли? Взглянув на Энни, я сразу передумал. Она точно не сможет здесь приспособиться. Да и я – смог бы я здесь выжить, не говоря уж о том, чтобы прокормить семью? Наверное, не смог бы, потерял хватку.
Будучи в Москве, я едва удерживался от слез, видя нищих стариков и старух, почти голодавших детей, отощавших, плохо одетых взрослых с бледными лицами и запавшими глазами. Впечатление было тягостное. Но, как я уже говорил, какая-то лихорадочная бодрость, надежда витала в воздухе, пропал затхлый воздух совка, словно атмосферу накачали озоном. Все бурлило, люди были гиперактивны, как будто ты оказался в центре оживленного человеческого муравейника. Что-то по здешнему энергетическому накалу напоминало Нью-Йорк, где я ощущал такие же вихри, но природа этих была совершенно другая. Да, было больно наблюдать нищету, но отрадно вдыхать чистый и свободный воздух и ощущать колоссальный выброс энергии. Легкие чуть не лопались от зашкаливающего количества озона на московских улицах и площадях, запруженных народом, где часто проходили какие-то митинги, на которых люди бурно общались, что-то доказывали друг другу, порой доходило и до стычек, атмосфера была накаленная, но пахло, пахло свободой! Я знал этот воздух, и он меня пьянил, особенно здесь, в СССР, в Москве. Мы оба, особено Энни, были оглушены и ошеломлены, подавлены и восхищены тем, что видели и ощущали. Конечно, на нас, по-другому выглядевших, обращали много внимания. Мы чувствовали себя зверьми в зоопарке в субботний день. С Энни все понятно, она была американкой и выглядела как американка, но и меня тоже все время принимали за иностранца. Я постоянно вглядывался в зеркала и витрины, и там видел себя, но совершенно другого. Я сам этого человека не узнавал. Я был словно во сне, все плыло перед глазами, я пытался проснуться, но никак не мог.
Я часто спрашивал себя во время этой поездки: зачем было нам приезжать сюда, в это безумие, в эту полоумную лихорадку, в эту когда-то родную для меня страну? Но словно что-то меня позвало, даже вызвало, и я подчинился этому зову. Так будет правильнее назвать то состояние, в которое я погрузился в Москве. Я знал, что просто-напросто обязан был приехать, причем вместе с Энни. И вот мы здесь, в СССР, на моей Родине. Надо добавить, что я еще и страшно трясся, ведь я был двоеженец. Меня лихорадило от этой мысли, бросало в жар и в холод. Как совершивший преступление и не могущий без него жить преступник, как будто тайно желая суда над собой, я приехал туда, где жила моя первая жена, туда, где мое прошлое, не дававшее мне покоя, жило все эти годы в мое отсутствие, готовый к любому исходу, даже к самому ужасному исходу, который сможет уничтожить все самое для меня дорогое, но высветит правду, как фонарик высвечивает лицо случайного прохожего в темноте; и это лицо, к твоему удивлению и даже ужасу, оказывается тем, от чего ты хотел убежать и в то же время – встретить вот так случайно… Да и главная улика против меня была рядом со мной: никто при самом первом взгляде на Энни не сомневался, что она моя жена…
В родном Калинине, который тогда еще не успели переименовать в Тверь, меня ждало важное открытие. Я намеренно произношу это пакостное, нейтральное, так не подходящее к этому событию слово, что самого передергивает от собственного цинизма… Просто, видимо, даже сейчас, спустя полгода, я не могу найти подходящего слова для этого. Оказалось, что Любы больше нет. Я говорю так сухо потому, что не хочу показывать всю мою боль по этому поводу, ничего больше не хочу. Это так странно, так невыразимо и непонятно, что я не могу подобрать нужных слов… Они ускользают от меня, словно мираж, словно что-то нереальное и эфемерное, то, чего я никогда не знал. А ведь еще недавно я полностью доверял словам, жил в их стихии как рыба в воде.