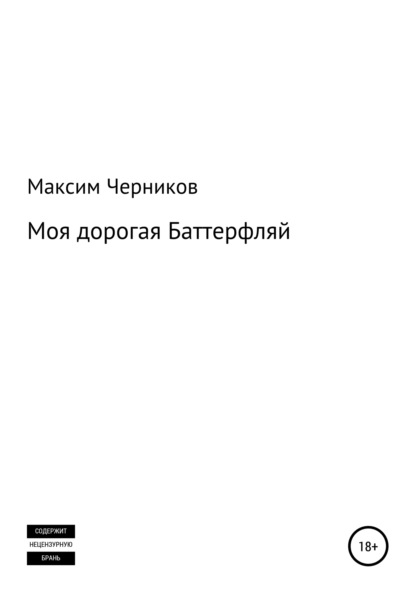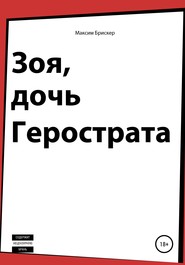По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя дорогая Баттерфляй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но зато остались они – наши дети, Дима и тот, младший, имени которого я не хочу произносить. Димка не хотел и на минуту побыть со мной, не прикоснулся ко мне ни разу. Я знаю, что через сколько-то лет все изменится и он бросится в мои объятия, и заплачет, и мы снова станем друзьями, как раньше. И Энни полюбит его, и он ее тоже. И даже меня он снова полюбит. Но это произойдет не сразу, возможно, не скоро. Дима жил уже семь лет у Любиной старшей сестры, сразу после того, как Любы не стало. Не было никакой возможности прийти к ним, они не пустили меня на порог, но хоть мельком я его увидел, и это была такая боль и радость одновременно… А младший поехал с нами в Канаду, потому что почти силой я взял его из детдома, в который его засунули заботливые родственники и государство. Естественно, вызволил его оттуда за взятку, за доллары. У мальчика такой был характер, что от него все отказались; представляю, через что он прошел в детдоме, такой гордый и чувствительный… Я никого не обвиняю, в детдоме так в детдоме. Я-то сам где был все это время? Миловался с новой молодой женой, все верно, как и сказали мне родные моей первой жены, которая так внезапно ушла. У нее было больное сердце. Я знаю, когда-то придет час моей расплаты за нее. И я заплачу за все, за все-все-все, сполна и с лихвой даже. Но пока – час моей радости с Энни. И я буду им наслаждаться до последнего. Выпью до дна эту чашу, как потом, когда придет время, выпью до дна чашу горечи, страдания и яда. И не буду жаловаться. А сын, младший сын, имени которого я не скажу, будет напоминанием обо всем. И он вдобавок станет моим главным в жизни испытанием и соперником за память о Любе.
Письмо семнадцатое, не отправленное, 10 июля 1991 года
Прошел почти год с момента написания предыдущего не отправленного письма, и вот я пишу новое, опять без адресата. Хотя он и так известен.
Перечитал на всякий случай письмо за прошлый год. Не буду растекаться мыслью по древу и скажу как есть: расплата за счастье с Энни пришла гораздо раньше, чем я думал. Хотя это было очевидно. Я ведь взял с собой этого волчонка, моего младшего сына. Старший даже не захотел со мной разговаривать, как я писал уже; я его видел мельком, он смотрел на меня с ненавистью и говорил ужасные, обидные слова: «Уезжай в свою Америку, видеть тебя не могу! Предатель! Ненавижу тебя!» Поделом мне. Но я знаю, через сколько-то лет он встретит меня, приедет меня повидать во что бы то ни стало, может, к тому времени я стану слабоумным стариком, но это не важно. Главное, я знаю, что это произойдет, и это меня греет. С младшим, которого я взял с собой в Канаду, все сложнее и непредсказуемо. Я не знаю, получу ли когда-нибудь от него что-то вроде благодарности. Я не уверен, что вообще заслуживаю ее. Но все-таки. Мы с ним – соперники, и это самое главное в наших отношениях. Соперники за память о ней, о дорогой Баттерфляй. Я не говорю «о моей дорогой Баттерфляй», потому что теперь я каждый день вижу, что она не только моя, но и его. Я бешено ревную, но знаю, что ему она принадлежит больше, чем мне. Я не могу объяснить, почему это так. У меня есть теперь Энни. Что дальше? Я и сам не знаю. Что-то будет, но что именно…
Меня очень волнуют отношения с моим младшим сыном, в которых я пока не могу достичь никакого прогресса. У него, к моему удивлению, очень хорошо сложилось общение с Энни. Помимо нее у него больше нет друзей, он все свое время проводит один, читает что-то, изучает. Очень любознательный мальчик! Со мной он всегда в напряжении, и я тоже с ним заметно нервничаю. Меня это расстраивает, а его, кажется, развлекает. Порой он надо мной откровенно издевается. Я знаю, зачем он это делает: он мстит мне за Любу. И будет еще долго мстить.
Я почему-то вспоминаю миф о Медее, но какое отношение он имеет к истории Любы, которая – Баттерфляй? Медея, убившая своих детей, при чем тут она здесь? Люба – это Баттерфляй, убившая себя – или не важно, умершая сама, от естественных причин, от больного сердца, но оставившая живыми детей… При чем тут она? Или это мне, моему темному подсознанию, ужасно хочется, хотелось бы ретроспективно, чтобы Люба-Баттерфляй стала Любой-Медеей, и тогда бы мне не пришлось мучиться с моим младшим, нелюбимым сыном? Но как же тогда Димка, любимый сын, пусть и на время отвернувшийся? Миф ведь требует, чтобы она убила всех детей. Но зачем следовать мифу столь буквально? Можно убить лишь одного. А второго оставить… Вот что подсказывает мое больное, воспаленное ненавистью к младшему сыну эго. Какие жуткие, темные, мучительные круги рисует мое подсознание! Я снова стал прикладываться к виски, и это очень расстраивает Энни. Она очень старается, чтобы у меня наладились с ним отношения. Но я не могу их наладить, не могу! Зачем я взял с собой этого неблагодарного гаденыша? На что я надеялся? На то, что он изменит свое отношение ко мне? Наивный! Вот тебе расплата за то, что ты так обошелся с Баттерфляй! Неси свой крест и не жалуйся!
Я хочу отправить его в частную школу-пансионат, boarding school, в другом городе, не очень далеко от Монреаля, там тихо, красиво и спокойно. Я согласен платить, лишь бы не видеть его здесь каждый день. Он вроде бы не против, ему тоже не доставляет радости созерцать мою физиономию. Единственное, чего там будет ему не хватать, так это общение с Энни. Они так сблизились, что я с трудом контролирую свою ревность. До омерзительных сцен пока не дошло, но кто знает, что будет дальше. Так что поскорее услать его с глаз подальше и отвоевать любимую Энни…
Я сказал сегодня Энни, что хочу ребенка от нее. Она со слезами ответила: «Ты же знаешь, что я не могу иметь ребенка, Вэлери!» Так она, как и многие другие здесь, коверкает мое имя, ударенье на первом слоге, на этом слегка вульгарном, выпуклом, гулком «Э». Но может быть что-то можно сделать? Наука ведь не стоит на месте. Энни сказала, что хочет стать настоящей матерью для моего младшего сына. Сказала это с каким-то вызовом, почти с упреком, словно узнала наконец мою тайну… Если он и правда сказал ей, я убью этого гаденыша! Но я не решился говорить начистоту. Отступил и попросил у нее прощения.
Так в моем возбуждённом сознании на какое-то время миф о Мадам Баттерфляй превращается в миф о Медее – тоже имя на букву М, большую и грозную, как русская буква М – символ московского метро, Метрополитен, Подземное царство, Гадес, Аид. Тяжеловесная, раззявленная буква-символ – как «Мужчина», но на самом деле женская природа у этого знака… Правда, на этот раз все не так, как в древнегреческой трагедии, не кроваво, а лишь печально и гротескно. Миф о Медее играется без нее, я вместо Любы-Медеи – тоже смешон, какая из меня Медея? Этот мальчик, которого я не люблю и которого взял из жалости и за эту жалость еще дорого заплачу, будет жить, слава богу. И станет для меня укором. Уже им стал. И пусть так и будет, я не мазохист (Я ли не мазохист? Как знать, как знать!), но от этого не уйти. Рок, рок, рок, рифмуется с направлением в поп-музыке, тяжелый рок, хард-рок то есть, и так далее. Да, вот это и есть мой тяжелый рок, моя песня любви и ненависти, в которой все перемешано, и злое, и доброе, и страсть, и отвращение, и многие другие чувства.
Мне удалось упрятать мальчишку в пансионат. Это как раньше заточали в тюрьму или ссылали в монастырь монархи неугодных сановников, или родители – своих бунтующих детей. Я, бывший диссидент, отсылаю своего собственного ребенка подальше от себя, какой позор и стыд… Но инстинкт самосохранения сильнее стыда. Оттуда он пишет длинные письма Энни и никогда – мне. И слава богу, кстати. Вот еще не хватало мне это читать! И все-таки я ревную, уже не так сильно, но заметно. Энни считает, что нам, мне и ей, надо искупить вину перед мальчиком. Чтобы Медея успокоилась, нам надо принести себя в качестве жертвы, но не в жертву. Это разные понятия, утверждает Энни. Мы не должны сгорать на жертвенном костре, а лишь пожертвовать в чем-то собой, своим комфортом и так далее. Интересные у нее теории! В общем, мне все понятно, мальчику надо помочь во что бы то ни стало, принести символическую жертву Любе и сделать ее снова нежной Баттерфляй, а не мечтающей о мести Медеей.
Знает ли Энни о том, что я был женат на Любе? Впрочем, какая уже сегодня разница! Просто надо искупать свои грехи. Надо сделать мальчика счастливым (того самого, младшего) и вернуть потом Димку. Я поражаюсь наивности и страстности Энни. Настоящая американка, думает, что все под силу изменить! А что, может, и правда под силу? Если относиться к нему с любовью… Она часто повторяет это слово – «любовь», от которого меня бросает в дрожь. Она произносит, конечно, «лав» (love), но я слышу любовь, Любовь, Люба… Любушка, Баттерфляй… О, Энни, не произноси это слово, умоляю тебя! Я люблю тебя, Энни, но Люба… Это какое-то наваждение, особенно после того, как она ушла. Поэтому я, пожалуй, соглашусь с тобой. Да, надо полюбить этого мальчика, который внушает мне такой страх. Именно страх! Полюбить и принять его как своего сына. Мы вернем его из пансионата, он будет жить с нами, да, Энни, ты права. Тем более у него такой трудный возраст – 13 лет, все эти гормональные и прочие дела… А когда справлюсь с сопротивлением младшего, то примусь за старшего, поеду за ним и, если он захочет, привезу сюда. Или просто помирюсь с ним. В общем, буду делать все для того, чтобы стать лучше. Только любовь нам поможет. Любовь, Люба, моя дорогая Баттерфляй.
Впервые за долгие годы ставлю кассету с голосом Каллас. Она была вся в пыли, пришлось взять щетку и почистить ее. И вот опять комната наполняется величественными звуками, все плывет перед глазами, щиплет нещадно, наверное, пыль попала, слезы льются, но я их не вытираю, слушаю всю оперу от начала до конца, благо дома никого кроме меня, Энни уехала в родной Буффало, навестить родителей… Кажется, что я провалился во что-то безвременное, неподвластное мне. Очнувшись, смотрю на магнитофон и понимаю, что опера закончилась и я давно сижу в молчании. За окном сумерки, завтра утром – репортаж для ТВ о событиях в Прибалтике, в среду – выступление в университете, в четверг – большое интервью для журнала… Слава богу, что у меня такой плотный график! Но важнее всего то, что в пятницу из школы-пансионата вернется мой младший сын.