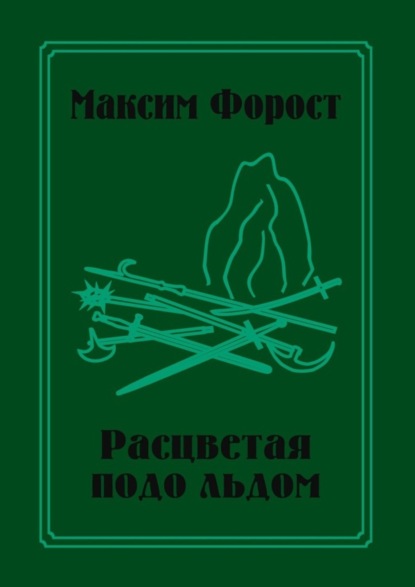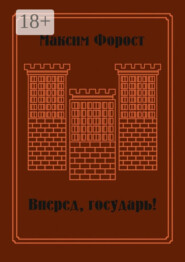По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расцветая подо льдом
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Врешь ты всё… – разуверились бойцы.
Зашелестел на ветру ковыль по степи. Вдалеке маячил курган, луна нетвёрдо бросила белёсое пятно ему на макушку. Сероватые тучи без очертаний нечётко плыли во тьме по небу и час от часу скрадывали звёзды.
– Конечно, вру… – повинился Конёк и повесил голову. – Трудно ему, Вольге-лучнику. Помощь теперь нужна, – Конёк тяжело вздохнул. Ветер зашевелил ему, мальчишке, жёлтые волосы.
У старого Плахты сжалось сердце. Такие же вот, неоперёныши, умирали у него на руках за проклятой Степью. Тяжело умирали, некоторые вот также перед смертью врали, хорохорились…
– Чего он хочет-то, Вольха твой? – выговорил.
– А хочет, чтобы тебя, ратника Плахту, люди ценили, уважали. Старые начальники-то ценили вас, ратников?
– Это при Дубке-то? Хххаа… – задохнулись смешком ратники.
Конёк поднял голову и сквозь задиристый жёлтый чуб посмотрел на плывущие над облаками звёзды. Или это облака под ними плывут? Кто ж теперь разберёт…
– Как, говорите, Дубка-то вашего казнили?…
Вот тут второй раз где-то между облаками и звёздами грохнул пастушеский бич. Конёк подскочил. Ратники вздрогнули. Звук удара бича раскатисто поплыл над землёй, хотя эху не отчего было в степи отражаться.
– Ой, Волченька кнутиком бьёт, – тихонько запричитал Плахта. – Перед той войной такоже было: волки целыми ордами без всякого разбою бегали. Ни коз, ни овец не резали – всё туда бежали, на будущую войну, на поживу. Набольший Волк их туда кличет.
– Да не волк это, – опомнился Конёк. – Вольга вас к себе зовёт.
– Вольха, Вольха… Что он нам.
– Вольга волю даёт.
– Во-олю… Какую же волю, которую?
– Волю, – голос у Конька посуровел. Железишко в нём появилось. – Волю от начальства, от властей и от себя самого.
…В ту ночь, под самое утро, выборный воевода Окунец пробудился от шороха и голосов за пологом палатки. Пришедшие не таились, хотя действовали без лишнего шума. Окунец подхватил меч… но какая-то безнадёга сковала его и внушила отложить бесполезное теперь оружие. Предыдущий-то, говорят, тоже не сопротивлялся…
Окунец откинул полог и вышел в серебристый холод. Под звёздами стояли ратники. Одного Окунец вспомнил. Это рядовой боец Плахта, самый примерный и надёжный в полку. Плахта сузил глаза и сжал губы. Руками он пружинисто натягивал, пробуя на прочность, бечёвку.
– До… …шка-Судь… – Окунец шевельнул губами и сам протянул Плахте руки.
Сзади ему набросили на шею удавку. Откинувшись, Окунец только и успел разглядеть, что лихой жёлтый чуб да усмешку-оскал.
Где-то между облаками и звёздами выли волки. Погонщик гнал их туда, куда только сам ведал.
Сон или явь? Чья-то быль? Уже не легкокрылые кони скачут. Бурые волки мчатся по лесам и степям…
Вот и редкие дубравы закончились. Даже ельник с осинником остались далеко за спиной. Чаще попадалась ольха, ракитник и слащаво опрятные берёзовые рощи. Берёза – дерево не местное, пришлое. Издревле здесь росли только дубравы да ельники, но потом лесной народ привёл из полуденных стран прирученные им странные деревья с белой корой. Наверное, люди когда-нибудь и к ним привыкнут, и даже полюбят…
А пока Грач ехал по березнячку, не то чтобы посвистывая, но всё же подвывая себе под нос бодрую песенку. Где-то здесь должна уже скоро показаться река Молочная. Грач за дорогой почти не следил, а больше положился на Сиверко, рассчитывая, что дорогу к реке конь теперь и сам найдет. Сиверко не напился вдоволь со вчерашнего дня, лишь пожевал траву с росой, поэтому воду отыщет быстрей человека. А там, на реке, Грач и определится, ехать ли ему вдоль берега вниз по течению до переправы либо переправляться на другую сторону немедля.
Хорошо бы спросить потом у кого-нибудь, как за переправой выйти к Жаль-реке, да притом к левому её берегу, чтобы попасть к вилам, в их селения, а не куда-то ещё… Про Вольха и про стрелков ему лучше не говорить до поры до времени.
«Вот, зачем, скажите на милость, Злату гнать меня в такую даль? Может, и нет никакого второго письма? Может, я что-то насочинял? Да полно! Не приснился же мне бурый волк! Да и стрелки меня до самых обрывов провожали. Будто следили. А тут ещё Асень что-то собирался сказать, да передумал. Хотя, с чего бы самому Асеню со мной разговаривать? Ишь, разбежался…»
– Разбежался, Сиверко, тпр-ру! – он натянул повод, сдерживая жеребца, рванувшегося вскачь оттого, что почуял впереди воду.
Конь всегда чует воду раньше человека! Слух у лошади острее даже кошачьего, а нюх тоньше собачьего. Скоро и Грач, наконец, услышал, как журчит под берёзами Молочная река. У воды Грач спешился, но жеребчика сурово оттащил прочь:
– Да ты погоди, напьёшься ещё! Вытерпи, остынь сначала. А то нёсся как угорелый, разгорячился мне тут.
Напоив, наконец, остывшего коня, Грач, глядя на реку, потянулся, будто раздумывая, потом быстро разделся догола и бултыхнулся в воду.
– Ух ты, она же тё-опла-ая! Эй, Сиверко, брось! Потом пожуёшь травку. Иди-ка сюда! Да леший с ним, с седлом-то! Высохнет, не пропадёт.
Сиверко не пошёл. Только укоризненно храпнул, дорожа сбруей.
– Ну и зря, жадина! Хозяйское добро жалеешь, – Грач оттолкнулся от дна, поплыл. Ой, как же здорово… Вода в Молочной реке студёная, да ласковая. Она то обнимала и ласкала его, будто до любви охочая, то остужала, будто гнала от себя.
Вдоволь наборовшись с водой, стал он было выползать на карачках на мелководье, как тут нечто огромное, скользкое нырнуло под него, подсекло, и Грач плюхнулся всем телом на здоровенную рыбину, придавил её к мелкому дну животом и грудью. Рыба затрепыхалась, разбрызгивая воду с песком и илом. Грач ухватил её рукой, казалось бы, удачно – под самые жабры, но рыбина так отчаянно вырывалась всей тушей, что он едва её не выпустил.
Рывком перевалился набок, жестче стиснул пальцы на жабрах, давя своей тяжестью рыбу и зарывая её в донный песок. Вскинул другую руку, ища хоть за что-нибудь уцепиться, чтобы вытащить на берег себя и рыбу. Но та яростно забила хвостом, плеща по его спине и бокам, и стала выскальзывать.
– Сиверко, да помоги же, не стой истуканом!
Жеребчик меланхолично глядел на хозяина, потряхивая уздечкой и гривой. Грач изо всей силы потянулся, только бы достать, дотянуться до одежды, до пояса… ох!… а там, на поясе… ох!… его нож. Кончиками пальцев он подцепил нож… Схватил, ударил! Рыбина трепыхнулась, окрашивая воду красным. Ударил ещё – теперь прямо за жабрами. Застыла, замерла. Обессиленный, он выпихнул рыбу на берег и сам кое-как вылез.
– Ой, что же я едва не натворил-то, дурак, – вдруг запричитал он. – Я же мог сам себя – ножом-то. Я ведь лежал на ней – животом и грудью. Я ведь самому себе ножом под бок бил…
Сиверко тихонько заржал, соглашаясь.
– А ты что? Ещё смеёшься! Я же просил помочь. Теперь, вот, рыбу стану печь, а тебе не дам ни кусочка!
Он скоро развёл огонь, взялся запекать рыбину прямо в чешуе, непотрошёную. Когда она испеклась, дразня ему ноздри, Грач отломил лишь кусок, а остальное спрятал на завтра. Потом он лежал и молча глядел в небо. А вдруг Сиверко заворочался и фыркнул, тихонько заржал. Настороженно вытянул шею и точно ощупал губами воздух.
– Отстань, слышишь меня? – отнекивался осоловевший Грач. – Лошади не едят рыбу.
Жеребец настаивал. Он даже топнул ногой и опять зафыркал. Грач неохотно поднялся.
– Твоя взяла. Пора и ехать.
Он стал натягивать штаны. Потом рубаху. Потом укладывать в сумку с печёной рыбой. А конь весь извёлся, не выдержал, протяжно заржал и забил копытами.
– Иду я, иду, – стал раздражаться Грач. Закрепил у седла сумку, поднялся на Сиверко… и ахнул.
В полуполёте стрелы маячила бурая волчья спина. Бурой тенью волк скользил по-над косогорами, а рыскающий его бег был плавен и, кажется, уверен. Будто мчался он по берегу Молочной реки – всё вниз и вниз, вдоль течения – с какой-то чётко обозначенной целью.
– Так пошёл же, пошёл! – закричал Грач, распаляясь.
Разъярившийся конь с места рванулся вскачь. Грач нахлестывал его руками и подгонял сапогами. Волчья спина приближалась. Уже стали различимы подпалины на бурых его боках.
Волк был в ошейнике, а к ошейнику накрепко привязан долгий и тугой свёрток. Внезапно бурый волк отпрыгнул. Прочь от воды, прочь от берега – туда, где рытвины и ухабы. Волк перемахнёт их легко, не замешкав, а погоня собьётся со скока.
Зашелестел на ветру ковыль по степи. Вдалеке маячил курган, луна нетвёрдо бросила белёсое пятно ему на макушку. Сероватые тучи без очертаний нечётко плыли во тьме по небу и час от часу скрадывали звёзды.
– Конечно, вру… – повинился Конёк и повесил голову. – Трудно ему, Вольге-лучнику. Помощь теперь нужна, – Конёк тяжело вздохнул. Ветер зашевелил ему, мальчишке, жёлтые волосы.
У старого Плахты сжалось сердце. Такие же вот, неоперёныши, умирали у него на руках за проклятой Степью. Тяжело умирали, некоторые вот также перед смертью врали, хорохорились…
– Чего он хочет-то, Вольха твой? – выговорил.
– А хочет, чтобы тебя, ратника Плахту, люди ценили, уважали. Старые начальники-то ценили вас, ратников?
– Это при Дубке-то? Хххаа… – задохнулись смешком ратники.
Конёк поднял голову и сквозь задиристый жёлтый чуб посмотрел на плывущие над облаками звёзды. Или это облака под ними плывут? Кто ж теперь разберёт…
– Как, говорите, Дубка-то вашего казнили?…
Вот тут второй раз где-то между облаками и звёздами грохнул пастушеский бич. Конёк подскочил. Ратники вздрогнули. Звук удара бича раскатисто поплыл над землёй, хотя эху не отчего было в степи отражаться.
– Ой, Волченька кнутиком бьёт, – тихонько запричитал Плахта. – Перед той войной такоже было: волки целыми ордами без всякого разбою бегали. Ни коз, ни овец не резали – всё туда бежали, на будущую войну, на поживу. Набольший Волк их туда кличет.
– Да не волк это, – опомнился Конёк. – Вольга вас к себе зовёт.
– Вольха, Вольха… Что он нам.
– Вольга волю даёт.
– Во-олю… Какую же волю, которую?
– Волю, – голос у Конька посуровел. Железишко в нём появилось. – Волю от начальства, от властей и от себя самого.
…В ту ночь, под самое утро, выборный воевода Окунец пробудился от шороха и голосов за пологом палатки. Пришедшие не таились, хотя действовали без лишнего шума. Окунец подхватил меч… но какая-то безнадёга сковала его и внушила отложить бесполезное теперь оружие. Предыдущий-то, говорят, тоже не сопротивлялся…
Окунец откинул полог и вышел в серебристый холод. Под звёздами стояли ратники. Одного Окунец вспомнил. Это рядовой боец Плахта, самый примерный и надёжный в полку. Плахта сузил глаза и сжал губы. Руками он пружинисто натягивал, пробуя на прочность, бечёвку.
– До… …шка-Судь… – Окунец шевельнул губами и сам протянул Плахте руки.
Сзади ему набросили на шею удавку. Откинувшись, Окунец только и успел разглядеть, что лихой жёлтый чуб да усмешку-оскал.
Где-то между облаками и звёздами выли волки. Погонщик гнал их туда, куда только сам ведал.
Сон или явь? Чья-то быль? Уже не легкокрылые кони скачут. Бурые волки мчатся по лесам и степям…
Вот и редкие дубравы закончились. Даже ельник с осинником остались далеко за спиной. Чаще попадалась ольха, ракитник и слащаво опрятные берёзовые рощи. Берёза – дерево не местное, пришлое. Издревле здесь росли только дубравы да ельники, но потом лесной народ привёл из полуденных стран прирученные им странные деревья с белой корой. Наверное, люди когда-нибудь и к ним привыкнут, и даже полюбят…
А пока Грач ехал по березнячку, не то чтобы посвистывая, но всё же подвывая себе под нос бодрую песенку. Где-то здесь должна уже скоро показаться река Молочная. Грач за дорогой почти не следил, а больше положился на Сиверко, рассчитывая, что дорогу к реке конь теперь и сам найдет. Сиверко не напился вдоволь со вчерашнего дня, лишь пожевал траву с росой, поэтому воду отыщет быстрей человека. А там, на реке, Грач и определится, ехать ли ему вдоль берега вниз по течению до переправы либо переправляться на другую сторону немедля.
Хорошо бы спросить потом у кого-нибудь, как за переправой выйти к Жаль-реке, да притом к левому её берегу, чтобы попасть к вилам, в их селения, а не куда-то ещё… Про Вольха и про стрелков ему лучше не говорить до поры до времени.
«Вот, зачем, скажите на милость, Злату гнать меня в такую даль? Может, и нет никакого второго письма? Может, я что-то насочинял? Да полно! Не приснился же мне бурый волк! Да и стрелки меня до самых обрывов провожали. Будто следили. А тут ещё Асень что-то собирался сказать, да передумал. Хотя, с чего бы самому Асеню со мной разговаривать? Ишь, разбежался…»
– Разбежался, Сиверко, тпр-ру! – он натянул повод, сдерживая жеребца, рванувшегося вскачь оттого, что почуял впереди воду.
Конь всегда чует воду раньше человека! Слух у лошади острее даже кошачьего, а нюх тоньше собачьего. Скоро и Грач, наконец, услышал, как журчит под берёзами Молочная река. У воды Грач спешился, но жеребчика сурово оттащил прочь:
– Да ты погоди, напьёшься ещё! Вытерпи, остынь сначала. А то нёсся как угорелый, разгорячился мне тут.
Напоив, наконец, остывшего коня, Грач, глядя на реку, потянулся, будто раздумывая, потом быстро разделся догола и бултыхнулся в воду.
– Ух ты, она же тё-опла-ая! Эй, Сиверко, брось! Потом пожуёшь травку. Иди-ка сюда! Да леший с ним, с седлом-то! Высохнет, не пропадёт.
Сиверко не пошёл. Только укоризненно храпнул, дорожа сбруей.
– Ну и зря, жадина! Хозяйское добро жалеешь, – Грач оттолкнулся от дна, поплыл. Ой, как же здорово… Вода в Молочной реке студёная, да ласковая. Она то обнимала и ласкала его, будто до любви охочая, то остужала, будто гнала от себя.
Вдоволь наборовшись с водой, стал он было выползать на карачках на мелководье, как тут нечто огромное, скользкое нырнуло под него, подсекло, и Грач плюхнулся всем телом на здоровенную рыбину, придавил её к мелкому дну животом и грудью. Рыба затрепыхалась, разбрызгивая воду с песком и илом. Грач ухватил её рукой, казалось бы, удачно – под самые жабры, но рыбина так отчаянно вырывалась всей тушей, что он едва её не выпустил.
Рывком перевалился набок, жестче стиснул пальцы на жабрах, давя своей тяжестью рыбу и зарывая её в донный песок. Вскинул другую руку, ища хоть за что-нибудь уцепиться, чтобы вытащить на берег себя и рыбу. Но та яростно забила хвостом, плеща по его спине и бокам, и стала выскальзывать.
– Сиверко, да помоги же, не стой истуканом!
Жеребчик меланхолично глядел на хозяина, потряхивая уздечкой и гривой. Грач изо всей силы потянулся, только бы достать, дотянуться до одежды, до пояса… ох!… а там, на поясе… ох!… его нож. Кончиками пальцев он подцепил нож… Схватил, ударил! Рыбина трепыхнулась, окрашивая воду красным. Ударил ещё – теперь прямо за жабрами. Застыла, замерла. Обессиленный, он выпихнул рыбу на берег и сам кое-как вылез.
– Ой, что же я едва не натворил-то, дурак, – вдруг запричитал он. – Я же мог сам себя – ножом-то. Я ведь лежал на ней – животом и грудью. Я ведь самому себе ножом под бок бил…
Сиверко тихонько заржал, соглашаясь.
– А ты что? Ещё смеёшься! Я же просил помочь. Теперь, вот, рыбу стану печь, а тебе не дам ни кусочка!
Он скоро развёл огонь, взялся запекать рыбину прямо в чешуе, непотрошёную. Когда она испеклась, дразня ему ноздри, Грач отломил лишь кусок, а остальное спрятал на завтра. Потом он лежал и молча глядел в небо. А вдруг Сиверко заворочался и фыркнул, тихонько заржал. Настороженно вытянул шею и точно ощупал губами воздух.
– Отстань, слышишь меня? – отнекивался осоловевший Грач. – Лошади не едят рыбу.
Жеребец настаивал. Он даже топнул ногой и опять зафыркал. Грач неохотно поднялся.
– Твоя взяла. Пора и ехать.
Он стал натягивать штаны. Потом рубаху. Потом укладывать в сумку с печёной рыбой. А конь весь извёлся, не выдержал, протяжно заржал и забил копытами.
– Иду я, иду, – стал раздражаться Грач. Закрепил у седла сумку, поднялся на Сиверко… и ахнул.
В полуполёте стрелы маячила бурая волчья спина. Бурой тенью волк скользил по-над косогорами, а рыскающий его бег был плавен и, кажется, уверен. Будто мчался он по берегу Молочной реки – всё вниз и вниз, вдоль течения – с какой-то чётко обозначенной целью.
– Так пошёл же, пошёл! – закричал Грач, распаляясь.
Разъярившийся конь с места рванулся вскачь. Грач нахлестывал его руками и подгонял сапогами. Волчья спина приближалась. Уже стали различимы подпалины на бурых его боках.
Волк был в ошейнике, а к ошейнику накрепко привязан долгий и тугой свёрток. Внезапно бурый волк отпрыгнул. Прочь от воды, прочь от берега – туда, где рытвины и ухабы. Волк перемахнёт их легко, не замешкав, а погоня собьётся со скока.