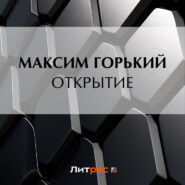По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь Клима Самгина
Автор
Год написания книги
1937
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сомова возмутилась:
– Бог мой, какая ты невежда, какой урод! Ты какая-то ненормальная!
Клим тоже находил в Лидии ненормальное; он даже стал несколько бояться ее слишком пристального, выпытывающего взгляда, хотя она смотрела так не только на него, но и на Макарова. Однако Клим видел, что ее отношение к Макарову становится более дружелюбным, а Макаров говорит с нею уже не так насмешливо и задорно.
Очень удивляла Клима дружба Лидии с Алиной Телепневой, которая, становясь ослепительно красивой, явно и все более глупела, как это находил Клим после слов матери, сказавшей:
– Эта девчурка была бы лучше и умнее, не будь она такой красавицей.
Клим тотчас же признал, что это сказано верно. Красота являлась непрерывным источником непрерывной тревоги для девушки, Алина относилась к себе, точно к сокровищу, данному ей кем-то на краткий срок и под угрозой отнять тотчас же, как только она чем-нибудь испортит чарующее лицо свое. Насморк был для нее серьезной болезнью, она испуганно спрашивала:
– Нос у меня очень красный? Глаза тусклые, да?
Ничтожный прыщик на лице повергал ее в уныние, так же как заусеницы или укус комара. Она боялась потолстеть, похудеть, боялась грома.
– Пускай будут молнии, – говорила она. – Это даже красиво, но я совершенно не выношу, когда надо мной трещит небо.
Она выработала себе осторожную, скользящую походку и держалась так прямо, точно на голове ее стоял сосуд с водою. На катке, боясь упасть, она каталась одна в стороне и тихо или же с наиболее опытными конькобежцами, в ловкости и силе которых была уверена. Единственной чертой, которая нравилась Климу в этой девушке, было ее уменье устраиваться спокойно и удобно, она всегда выбирала себе наиболее выгодное место, особенно ласковый к ней луч солнца. Несколько смешна была ее преувеличенная чистоплотность, почти болезненное отвращение к пыли, сору, уличной грязи; прежде чем сесть, она пытливо осматривала стул, кресло, незаметно обмахивая платочком сидение; подержав в руке какую-либо вещь, она тотчас вытирала пальцы. Ела она так аккуратно и углубленно, что Макаров сказал ей:
– Религиозно кушаете, Алиночка! Даже и не кушаете, подобно нам, смертным, а – причащаетесь.
Не взглянув на него, Алина спокойно ответила:
– Доктор посоветовал мне пережевывать тщательно.
Иногда страхи Алины за красоту свою вызывали у нее припадки раздражения, почти злобы, как у горничной на хозяйку, слишком требовательную. И, вероятно, от этих страхов неотразимо ласковые, синеватые глаза Алины смотрели вопросительно, а длинные ресницы, вздрагивая, придавали взгляду ее выражение умоляющее. Она была скучна, говорила только о нарядах, танцах, о поклонниках, но и об этом она говорила без воодушевления, как о скучноватой обязанности. За нею уже ухаживал седой артиллерист, генерал, вдовец, стройный и красивый, с умными глазами, ухаживал товарищ прокурора Ипполитов, маленький человечек с черными усами на смуглом лице, веселый и ловкий.
– Нет, я не хочу замуж, – низким, грудным голосом говорила она, – я буду актрисой.
Она не плохо, певуче, но как-то чрезмерно сладостно читала стихи Фета, Фофанова, мечтательно пела цыганские романсы, но романсы у нее звучали обездушенно, слова стихов безжизненно, нечетко, смятые ее бархатным голосом. Клим был уверен, что она не понимает значения слов, медленно выпеваемых ею.
– Кукла, которой жалко играть, – сказал о ней Макаров небрежно, как всегда говорил о девицах.
Клим покосился на него, он все острей испытывал уколы зависти, когда слышал, как метко люди определяют друг друга, а Макаров досадно часто говорил меткие словечки.
Как во всех людях, Клим и в Алине хотел бы найти что-либо искусственное, выдуманное. Иногда она спрашивала его:
– Я сегодня бледная, да?
Он понимал, что Алина спрашивает лишь для того, чтоб лишний раз обратить внимание на себя, но это казалось ему естественным, оправданным и даже возбуждало в нем сочувствие девушке. Оно усилилось после слов матери, подсказавших ему, что красоту Алины можно понимать как наказание, которое мешает ей жить, гонит почти каждые пять минут к зеркалу и заставляет девушку смотреть на всех людей как на зеркала. Иногда он смутно догадывался, что между ним и ею есть что-то общее, но, считая эту догадку унижающей его, не пытался подумать о ней серьезно.
Он видел, что Макаров и Лидия резко расходятся в оценке Алины. Лидия относилась к ней заботливо, даже с нежностью, чувством, которого Клим раньше не замечал у Лидии. Макаров не очень зло, но упрямо высмеивал Алину. Лидия ссорилась с ним. Сомова, бегавшая по урокам, мирила их, читая длинные, интересные письма своего друга Инокова, который, оставив службу на телеграфе, уехал с артелью сергачских рыболовов на Каспий.
В общем дома жилось тягостно, скучно, но в то же время и беспокойно. Мать с Варавкой, по вечерам, озабоченно и сердито что-то считали, сухо шумя бумагами. Варавка, хлопая ладонью по столу, жаловался:
– Идиоты, даже украсть не умеют!
Климу больше нравилась та скука, которую он испытывал у Маргариты. Эта скука не тяготила его, а успокаивала, притупляя мысли, делая ненужными всякие выдумки. Он отдыхал у швейки от необходимости держаться, как солдат на параде. Маргарита вызывала в нем своеобразный интерес простотою ее чувств и мыслей. Иногда, должно быть, подозревая, что ему скучно, она пела маленьким, мяукающим голосом неслыханные песни:
Мне не спится, не лежится,
И сон меня не берет,
Я пошел бы к Рите в гости,
Да не знаю, где она живет.
Попросил бы товарища –
Пусть товарищ отведет,
Мой товарищ лучше, краше,
Боюсь, Риту отобьет.
– Какая глупая песня, – сказал Клим, зевнув, а певица поучительно ответила:
– Тем и хорошо, дружок. Все песни – глупые, все – про любовь, тем и хороши.
Она вообще охотно поучала Клима, и это забавляло его. Он видел, что девушка относится к нему матерински заботливо, это тоже было забавно, но и трогало немножко. Клим удивлялся бескорыстию Маргариты, у него незаметно сложилось мнение, что все девицы этого ремесла – жадные. Но когда он приносил сласти и подарки Рите, она, принимая их, упрекала его:
– Чудачок! Ведь за деньги, которые ты тратишь на меня, ты мог бы найти девушку красивее и моложе, чем я!
Она сказала это так просто и убедительно, что Клим не решился заподозрить ее во лжи.
Но, говоря о девушке красивее ее, она хвастала, поглаживая ладонями грудь и бедра:
– Видишь, какая у меня кожа? Не у всякой барышни бывает такая.
На стене, над комодом, была прибита двумя гвоздями маленькая фотография без рамы, переломленная поперек, она изображала молодого человека, гладко причесанного, с густыми бровями, очень усатого, в галстуке, завязанном пышным бантом. Глаза у него были выколоты.
– Это кто? – спросил Клим.
Несколько секунд Маргарита внимательно, прищурясь и как бы вспоминая, смотрела на фотографию, потом сказала:
– Иконописец.
– А зачем у него глаза выколоты?
– Ослеп, дурак, – ответила Рита и, вздохнув, не пожелала больше отвечать на дальнейшие расспросы Клима, а предложила:
– Ну, в постельку?
В нежную минуту он решился наконец спросить ее о Дронове; он понимал, что обязан спросить об этом, хотя и чувствовал, что чем дальше, тем более вопрос этот теряет свою обязательность и значение. В этом скрывалось нечто смущавшее его, нечистоплотное. Когда он спросил, Рита удивленно подняла брови:
– Кто это?
– Не притворяйся, – Клим хотел сказать это слово строго, но не сумел и даже улыбнулся.
Приподнявшись с подушки, Рита села и, надевая рубашку, прикрыв ею лицо, заговорила сочувственно:
– Ах, это Ваня, который живет у вас в мезонине! Ты думаешь – я с ним путалась, с эдаким: ни кожи, ни рожи? Плохо ты выдумал.
Натягивая чулки на белые с голубыми жилками ноги свои, она продолжала торопливо, неясно и почему-то часто вздыхая: