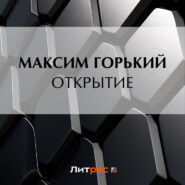По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь Клима Самгина
Автор
Год написания книги
1937
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И спросила:
– Это Фенька сказала тебе?
Клим почувствовал, что вопрос этот толкнул его в грудь. Судорожно барабаня пальцами по медной пряжке ремня своего, он ожидал: что еще скажет она? Но Маргарита, застегивая крючком пуговки ботинок, ничего не говорила.
– Мне Дронов сам сказал, – грубо объявил Клим.
Она встала и, невысоко приподняв юбку, критически посмотрела на свои ноги. И снова села на стул, облегченно вздохнув, повторила:
– Вот как хорошо сошлось. А я тут с неделю думаю: как сказать, что не могу больше с тобой?
Клим чувствовал, что она заставляет его глупеть, почти растерянно он спросил:
– Зачем ты лгала?
Девушка ответила ровным голосом, глядя в окно и как бы думая не то, что говорит:
– Мне твоя мамаша деньги платила не затем, чтобы правду тебе говорить, а чтоб ты с уличными девицами не гулял, не заразился бы.
Испытав впечатление ожога, Клим закричал:
– Врешь! Мать не могла…
– Жмет, – тихонько сказала Рита, высунув ногу из-под подола, и, обругав кого-то «подлецом», продолжала поучительно и равнодушно:
– На мамашу – не сердись, она о тебе заботливая. Во всем городе я знаю всего трех матерей, которые так о сыновьях заботятся.
Клим слышал ее нелепые слова сквозь гул в голове, у него дрожали ноги, и, если бы Рита говорила не так равнодушно, он подумал бы, что она издевается над ним.
«Значит, мать наняла ее, – соображал он. – Платила ей, потому эта дрянь и была бескорыстна».
– Хотя она и гордая и обидела меня, а все-таки скажу: мать она редкая. Теперь, когда она отказала мне, чтоб Ваню не посылать в Рязань, – ты уж ко мне больше не ходи. И я к вам работать не пойду.
Последнюю фразу она произнесла угрожающе, как будто думая, что без ее работы Самгины и Варавки станут несчастнейшими людями.
Климу хотелось отстегнуть ремень и хлестнуть по лицу девушки, все еще красному и потному. Но он чувствовал себя обессиленным этой глупой сценой и тоже покрасневшим от обиды, от стыда, с плеч до ушей. Он ушел, не взглянув на Маргариту, не сказав ей ни слова, а она проводила его укоризненным восклицанием:
– Фу, как нехорошо, а был вежливый…
Он долго ходил по улицам, затем сидел в городском саду, размышляя: что делать? Хотелось избить Дронова или рассказать ему, что Маргариту нанимают как проститутку, хотелось сказать матери что-то очень сильное, что смутило бы ее. Но эти желания скользили поверх упрямой, устойчивой думы о Маргарите. Он привык относиться к ней снисходительно, иронически и впервые думал о девушке со всею серьезностью, на которую был способен. Образ Маргариты непонятно двоился. Вспоминались ее несомненно честные ласки, незатейливые и часто смешные, но искренние слова, те глупые, нежные слова любви, которые принудили одного из героев Мопассана отказаться от своей возлюбленной. Какими же ласками награждала она Дронова, какие слова шептала ему? С тупым недоумением он вспоминал заботы девушки о радостях его тела, потом спрашивал себя: как могла она лгать так незаметно и ловко? А вспомнив ее слова о трех заботливых матерях, подумал, что, может быть, на попечении Маргариты, кроме его, было еще двое таких же, как он. У него мелькнула странная, чужая мысль:
«Проститутка или сестра милосердия?»
Но эта мысль тотчас же исчезла, как только он вспомнил, что Рита, очевидно, любила только четвертого – некрасивого, неприятного Дронова.
Размышления эти, все более возбуждая чувство брезгливости, обиды, становились тягостно невыносимы, но оттолкнуть их Клим не имел силы. Он сидел на чугунной скамье, лицом к темной, пустынной реке, вода ее тускло поблескивала, точно огромный лист кровельного железа, текла она лениво, бесшумно и казалась далекой. Ночь была темная, без луны, на воде желтыми крапинками жира отражались звезды. За спиною своею Клим слышал шаги людей, смех и говор, хитренький тенорок пропел на мотив «La donna e mobile»[2 - Начало арии «Сердце красавицы» из оперы Верди «Риголетто».]:
Слышу я голос твой,
Нежный и ласковый,
Значит – для голоса
Деньги вытаскивай…
Удручающая пошлость победоносно прозвучала в этой песенке. Клим вдруг чего-то испугался, вскочил и быстро пошел домой.
Мать и Варавка уехали на дачу под городом, Алина тоже жила на даче, Лидия и Люба Сомова – в Крыму. Клим остался дома, чтоб наблюдать за ремонтом его и заниматься со Ржигой латынью. Наедине с самим собою не было необходимости играть привычную роль, и Клим очень медленно поправлялся от удара, нанесенного ему. Все думалось о Маргарите, но эти думы, медленно теряя остроту, хотя и становились менее обидными, но все более непонятны. Они освещали девушку как-то иначе. Клим уже не думал, что разум Маргариты нем, память воскрешала ее поучающие слова, и ему показалось, что чаще всего они были окрашены озлоблением против женщин. Так, однажды, соскочив с постели и вытирая губкой потное тело свое, Маргарита сказала одобрительно:
– Это очень хорошо тебе, что ты не горяч. Наша сестра горячих любит распалить да и сжечь до золы. Многие через нас погибают.
В другой раз она ласково убеждала:
– Ты в бабью любовь – не верь. Ты помни, что баба не душой, а телом любит. Бабы – хитрые, ух! Злые. Они даже и друг друга не любят, погляди-ко на улице, как они злобно да завистно глядят одна на другую, это – от жадности все: каждая злится, что, кроме ее, еще другие на земле живут.
Она даже начала было рассказывать ему какой-то роман, но Клим задремал, из всего романа у него осталось в памяти лишь несколько слов:
– А чего надо было ей? Только отбить его у меня. Дескать – видала, как я тебя ловчее?
Теперь, когда ее поучения всплывали пред ним, он удивлялся их обилию, однообразию и готов был думать, что Рита говорила с ним, может быть, по требованию ее совести, для того, чтоб намеками предупредить его о своем обмане.
«Я – хочу оправдать ее?» – спрашивал он себя. Но тотчас же пред ним являлось плоское лицо Дронова, его хвастливые улыбочки, бесстыдные слова его рассказов о Маргарите.
«Если б упасть с нею в реку, она утопила бы меня, как Варя Сомова Бориса», – озлобленно подумал он.
Но, и со злостью думая о Рите, он ощущал, что в нем растет унизительное желание пойти к ней, а это еще более злило его. Он нашел исход злобе своей, направив ее на рабочих.
Наискось, почти напротив дома Самгиных, каменщики разрушали старое, казарменного вида двухэтажное здание, с маленькими, угрюмыми окнами, когда-то окрашенное желтой краской; Варавка приобрел этот дом для купеческого клуба. Работало человек двадцать пыльных людей, но из них особенно выделялись двое: кудрявый, толстогубый парень с круглыми глазами на мохнатом лице, сером от пыли, и маленький старичок в синей рубахе, в длинном переднике. Чугунные руки парня бестолково дробили ломом крепко слежавшийся кирпич старой стены; сила у парня была большая, он играл, хвастался ею, а старичок подзадоривал его, взвизгивая:
– Вали-и, Мотя! Круши, Мотя, – скоро шабаш!
Десятник, рыжебородый крупный мужик, уговаривал:
– А ты не балуй, Николаич! На что дробить кирпич?
Старичок отвечал шуточками:
– Так разве это я? Это же Мотя! Эх, Мотя, сук те в ухо, – сила ты!
И сам старался ударить ломом не между кирпичей, не по извести, связавшей их, а по целому. Десятник снова кричал привычно, но равнодушно, что старый кирпич годен в дело, он крупней, плотней нового, – старичок согласно взвизгивал:
– Верно-о! Отцы, деды наши работали получше нас! Эх, Мотя-а!
Все рабочие ломали стену с увлечением, но старичок, казалось Климу, перешел какую-то границу и, неистовствуя, был противен. А Мотя работал слепо, машиноподобно, и, когда ему удавалось отколоть несколько кирпичей сразу, он оглушительно ухал, рабочие смеялись, свистели, а старичок яростно и жутко визжал:
– Валяй-и!
«Идиоты!» – думал Клим. Ему вспоминались безмолвные слезы бабушки пред развалинами ее дома, вспоминались уличные сцены, драки мастеровых, буйства пьяных мужиков у дверей базарных трактиров на городской площади против гимназии и снова слезы бабушки, сердито-насмешливые словечки Варавки о народе, пьяном, хитром и ленивом. Казалось даже, что после истории с Маргаритой все люди стали хуже: и богомольный, благообразный старик дворник Степан, и молчаливая, толстая Феня, неутомимо пожиравшая все сладкое.
«Народ», – думал он, внутренне усмехаясь, слушая, как память подсказывает ему жаркие речи о любви к народу, о необходимости работать для просвещения его.
Клим шел к Томилину побеседовать о народе, шел с тайной надеждой оправдать свою антипатию. Но Томилин сказал, тряхнув медной головой:
– Это Фенька сказала тебе?
Клим почувствовал, что вопрос этот толкнул его в грудь. Судорожно барабаня пальцами по медной пряжке ремня своего, он ожидал: что еще скажет она? Но Маргарита, застегивая крючком пуговки ботинок, ничего не говорила.
– Мне Дронов сам сказал, – грубо объявил Клим.
Она встала и, невысоко приподняв юбку, критически посмотрела на свои ноги. И снова села на стул, облегченно вздохнув, повторила:
– Вот как хорошо сошлось. А я тут с неделю думаю: как сказать, что не могу больше с тобой?
Клим чувствовал, что она заставляет его глупеть, почти растерянно он спросил:
– Зачем ты лгала?
Девушка ответила ровным голосом, глядя в окно и как бы думая не то, что говорит:
– Мне твоя мамаша деньги платила не затем, чтобы правду тебе говорить, а чтоб ты с уличными девицами не гулял, не заразился бы.
Испытав впечатление ожога, Клим закричал:
– Врешь! Мать не могла…
– Жмет, – тихонько сказала Рита, высунув ногу из-под подола, и, обругав кого-то «подлецом», продолжала поучительно и равнодушно:
– На мамашу – не сердись, она о тебе заботливая. Во всем городе я знаю всего трех матерей, которые так о сыновьях заботятся.
Клим слышал ее нелепые слова сквозь гул в голове, у него дрожали ноги, и, если бы Рита говорила не так равнодушно, он подумал бы, что она издевается над ним.
«Значит, мать наняла ее, – соображал он. – Платила ей, потому эта дрянь и была бескорыстна».
– Хотя она и гордая и обидела меня, а все-таки скажу: мать она редкая. Теперь, когда она отказала мне, чтоб Ваню не посылать в Рязань, – ты уж ко мне больше не ходи. И я к вам работать не пойду.
Последнюю фразу она произнесла угрожающе, как будто думая, что без ее работы Самгины и Варавки станут несчастнейшими людями.
Климу хотелось отстегнуть ремень и хлестнуть по лицу девушки, все еще красному и потному. Но он чувствовал себя обессиленным этой глупой сценой и тоже покрасневшим от обиды, от стыда, с плеч до ушей. Он ушел, не взглянув на Маргариту, не сказав ей ни слова, а она проводила его укоризненным восклицанием:
– Фу, как нехорошо, а был вежливый…
Он долго ходил по улицам, затем сидел в городском саду, размышляя: что делать? Хотелось избить Дронова или рассказать ему, что Маргариту нанимают как проститутку, хотелось сказать матери что-то очень сильное, что смутило бы ее. Но эти желания скользили поверх упрямой, устойчивой думы о Маргарите. Он привык относиться к ней снисходительно, иронически и впервые думал о девушке со всею серьезностью, на которую был способен. Образ Маргариты непонятно двоился. Вспоминались ее несомненно честные ласки, незатейливые и часто смешные, но искренние слова, те глупые, нежные слова любви, которые принудили одного из героев Мопассана отказаться от своей возлюбленной. Какими же ласками награждала она Дронова, какие слова шептала ему? С тупым недоумением он вспоминал заботы девушки о радостях его тела, потом спрашивал себя: как могла она лгать так незаметно и ловко? А вспомнив ее слова о трех заботливых матерях, подумал, что, может быть, на попечении Маргариты, кроме его, было еще двое таких же, как он. У него мелькнула странная, чужая мысль:
«Проститутка или сестра милосердия?»
Но эта мысль тотчас же исчезла, как только он вспомнил, что Рита, очевидно, любила только четвертого – некрасивого, неприятного Дронова.
Размышления эти, все более возбуждая чувство брезгливости, обиды, становились тягостно невыносимы, но оттолкнуть их Клим не имел силы. Он сидел на чугунной скамье, лицом к темной, пустынной реке, вода ее тускло поблескивала, точно огромный лист кровельного железа, текла она лениво, бесшумно и казалась далекой. Ночь была темная, без луны, на воде желтыми крапинками жира отражались звезды. За спиною своею Клим слышал шаги людей, смех и говор, хитренький тенорок пропел на мотив «La donna e mobile»[2 - Начало арии «Сердце красавицы» из оперы Верди «Риголетто».]:
Слышу я голос твой,
Нежный и ласковый,
Значит – для голоса
Деньги вытаскивай…
Удручающая пошлость победоносно прозвучала в этой песенке. Клим вдруг чего-то испугался, вскочил и быстро пошел домой.
Мать и Варавка уехали на дачу под городом, Алина тоже жила на даче, Лидия и Люба Сомова – в Крыму. Клим остался дома, чтоб наблюдать за ремонтом его и заниматься со Ржигой латынью. Наедине с самим собою не было необходимости играть привычную роль, и Клим очень медленно поправлялся от удара, нанесенного ему. Все думалось о Маргарите, но эти думы, медленно теряя остроту, хотя и становились менее обидными, но все более непонятны. Они освещали девушку как-то иначе. Клим уже не думал, что разум Маргариты нем, память воскрешала ее поучающие слова, и ему показалось, что чаще всего они были окрашены озлоблением против женщин. Так, однажды, соскочив с постели и вытирая губкой потное тело свое, Маргарита сказала одобрительно:
– Это очень хорошо тебе, что ты не горяч. Наша сестра горячих любит распалить да и сжечь до золы. Многие через нас погибают.
В другой раз она ласково убеждала:
– Ты в бабью любовь – не верь. Ты помни, что баба не душой, а телом любит. Бабы – хитрые, ух! Злые. Они даже и друг друга не любят, погляди-ко на улице, как они злобно да завистно глядят одна на другую, это – от жадности все: каждая злится, что, кроме ее, еще другие на земле живут.
Она даже начала было рассказывать ему какой-то роман, но Клим задремал, из всего романа у него осталось в памяти лишь несколько слов:
– А чего надо было ей? Только отбить его у меня. Дескать – видала, как я тебя ловчее?
Теперь, когда ее поучения всплывали пред ним, он удивлялся их обилию, однообразию и готов был думать, что Рита говорила с ним, может быть, по требованию ее совести, для того, чтоб намеками предупредить его о своем обмане.
«Я – хочу оправдать ее?» – спрашивал он себя. Но тотчас же пред ним являлось плоское лицо Дронова, его хвастливые улыбочки, бесстыдные слова его рассказов о Маргарите.
«Если б упасть с нею в реку, она утопила бы меня, как Варя Сомова Бориса», – озлобленно подумал он.
Но, и со злостью думая о Рите, он ощущал, что в нем растет унизительное желание пойти к ней, а это еще более злило его. Он нашел исход злобе своей, направив ее на рабочих.
Наискось, почти напротив дома Самгиных, каменщики разрушали старое, казарменного вида двухэтажное здание, с маленькими, угрюмыми окнами, когда-то окрашенное желтой краской; Варавка приобрел этот дом для купеческого клуба. Работало человек двадцать пыльных людей, но из них особенно выделялись двое: кудрявый, толстогубый парень с круглыми глазами на мохнатом лице, сером от пыли, и маленький старичок в синей рубахе, в длинном переднике. Чугунные руки парня бестолково дробили ломом крепко слежавшийся кирпич старой стены; сила у парня была большая, он играл, хвастался ею, а старичок подзадоривал его, взвизгивая:
– Вали-и, Мотя! Круши, Мотя, – скоро шабаш!
Десятник, рыжебородый крупный мужик, уговаривал:
– А ты не балуй, Николаич! На что дробить кирпич?
Старичок отвечал шуточками:
– Так разве это я? Это же Мотя! Эх, Мотя, сук те в ухо, – сила ты!
И сам старался ударить ломом не между кирпичей, не по извести, связавшей их, а по целому. Десятник снова кричал привычно, но равнодушно, что старый кирпич годен в дело, он крупней, плотней нового, – старичок согласно взвизгивал:
– Верно-о! Отцы, деды наши работали получше нас! Эх, Мотя-а!
Все рабочие ломали стену с увлечением, но старичок, казалось Климу, перешел какую-то границу и, неистовствуя, был противен. А Мотя работал слепо, машиноподобно, и, когда ему удавалось отколоть несколько кирпичей сразу, он оглушительно ухал, рабочие смеялись, свистели, а старичок яростно и жутко визжал:
– Валяй-и!
«Идиоты!» – думал Клим. Ему вспоминались безмолвные слезы бабушки пред развалинами ее дома, вспоминались уличные сцены, драки мастеровых, буйства пьяных мужиков у дверей базарных трактиров на городской площади против гимназии и снова слезы бабушки, сердито-насмешливые словечки Варавки о народе, пьяном, хитром и ленивом. Казалось даже, что после истории с Маргаритой все люди стали хуже: и богомольный, благообразный старик дворник Степан, и молчаливая, толстая Феня, неутомимо пожиравшая все сладкое.
«Народ», – думал он, внутренне усмехаясь, слушая, как память подсказывает ему жаркие речи о любви к народу, о необходимости работать для просвещения его.
Клим шел к Томилину побеседовать о народе, шел с тайной надеждой оправдать свою антипатию. Но Томилин сказал, тряхнув медной головой: