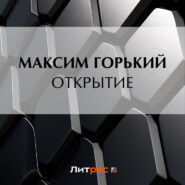По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мордовка
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ты – тоже?
– Что – тоже? Ах да…
Невесело усмехнувшись, литейщик просто сказал:
– Да, брат, и я тоже.
Павел удивлённо смотрел на него, осторожно спрашивая:
– Как же это? Вы ведь хорошо живёте… у тебя жена – товарищ…
– Вот то-то и есть, что товарищ! – сумрачно воскликнул Сердюков. – В этом и задача – она вон кашляет во всю силу, сохнет, товарищ-то…
Беседовали на дворе завода, у стены, покрытой копотью, где-то над ними непрерывно и сердито фыркала пароотводная трубка:
– Фух, фух.
Воздух, пропитанный копотью, был полон стенаниями, визгом и скрежетом, гулом огня, громом железа.
– В три года – две беременности, – печально ворчал Сердюков, свёртывая папиросу, – а это, оказывается, нашему сословию не подобает. Доктор говорит – воздержитесь. Н-ну, начал я избегать, – жалко ж её мне! Комедия слёзная, братец ты мой. Избегал, избегал, да вот и забежал куда-то… куда не надо бы. Пожалуй, будет у меня какой-нибудь скандал. А назад – ходы закрыты… И что значит – назад? Жене в деревню надо ехать, а не детей родить. Дети – это, брат, не для нас, видно. Да и вообще – что тут для нас?
Он посмотрел вокруг на груды старого железа, на чёрную от угля землю и крыши цехов, курившиеся дымом и паром.
– Обыграли нашего брата чисто! И ни одного козыря в сдаче, – плохо, Паша!
Он бросил окурок назад, через плечо, и пошёл в свой цех. Шёл незнакомо Павлу – наклоня голову – и всё оглядывался, точно боясь, что вдруг кто-то бросится на него. А когда он исчез в чёрном жерле литейной, Павел вспомнил его весёлым озорником, неунывающим краснобаем, театралом и певцом, вспомнил и – крепко задумался. Казалось, что с ним говорил сейчас кто-то другой и более близкий, чем прежний Сердюков. Он впервые слышал от товарища простые слова о том, что его мучило, и, стоя у станка, думал:
«Он теперь поймёт меня, сойдусь с ним поближе, и – кончено! Нехорошо я живу…»
Это не удалось: не прошло недели, как Сердюкова подняли в кустах около кирпичного завода – он был кем-то жестоко избит и надолго лёг в больницу.
– Вот жизнь! – говорил Павел, бегая дома по комнате. – Эх, жалко его, так жалко – ты представить не можешь, Даша! Такой он славный парень…
Сел рядом с нею и продолжал, понизив голос:
– Знаешь, недавно говорил он мне про жену…
– Ему бы, мерзавцу, молчать о ней! – угрюмо отозвалась Даша. – Знаю ведь я, за что его избили…
– Подожди, Даша!
– Ты, конечно, всякого подлеца оправдать готов, коли он в товарищах у тебя…
Он строго сказал:
– Дарья! Среди моих товарищей нет подлецов!
– Не ори!
Несмотря на толчки её локтя, он обнял жену и рассказал ей о Сердюкове. Сначала это очень заняло её, но потом, возмущённо оттолкнув мужа, она начала ругаться:
– Ах, дохлые черти! Да неужто Марья-то знала про эти его шашни?
– Ты не вздумай сказать ей! – испуганно воскликнул Павел.
– А – скажу! А ей же богу – скажу! – смачно ухмыляясь, выкрикивала Даша. – До чего додумались-дочитались, пакостники! Нате-ка, жену жалко, родит часто, слышь! Тьфу!
В гневе она всегда выпрямлялась, закидывая голову вверх, дышала она в нос, и ноздри её раздувались, вздрагивая, точно у лошади. Всё это делало её ещё более соблазнительной, но – и отталкивало Павла прочь, будя в нём жгучее желание зла ей. Ему хотелось видеть её больной, жалкой и немой от какого-то страха или – нищей: ходит она по улицам, в грязных лохмотьях, униженно кланяется и просит милостыню у жены Сердюкова – тонкой, ловкой умницы, у тех людей, которые так чужды её сердцу, тяжёлому, тёмному и круглому, как чугунный шар.
Вечером в субботу Павел сидел у Лизы, тихо говоря:
– До того довели людей, что даже хорошее, человечье – кажется им грязно. Завязалась петля вокруг души моей, не знаю – как развяжу! Люблю я эту бабу и дочь, конечно, люблю, а – что она может дать дочери! И без тебя не могу, Лиза. Эх, мордовка, хорошая у тебя душа, и друг ты мне…
Она слушала его, опустив голову, и серьёзно, негромко вставляла свои скупые слова:
– Не знаю, как ты будешь. Не придумаю, чем тебе помочь…
Но – придумала.
Однажды, угнетённый новой ссорой с тестем и женой, Павел устало шагал по тихим улицам города мимо заборов, крепко запертых ворот и тёмных окон, за которыми пряталась от холодного света луны весенняя ночь.
«С одной стороны и с другой стороны! – думал он, то выходя на свет, то скрываясь в тени деревьев и домов. – Нет, надо всё это – к чёрту! Жизнь, как я хочу, или – любовь, как она хочет. Я – за жизнь… Довольно!»
Идти было трудно, точно ноги его вязли в тенях, как в сыпучем песке или в густой грязи. Он перешёл на другую сторону улицы, сплошь окроплённую бледным сиянием луны.
Город неохотно засыпал беспокойным сном весенней ночи, но по улицам ещё бродили тёмные фигуры людей, точно искали чего-то, не надеясь найти. Проехал чёрный верховой, качаясь в седле, – подковы высекли две синих искры из камня.
Толстый полицейский вёл длинноволосого мастерового с ремешком на голове, мастеровой качался, грозил кому-то рукой и жужжал, как огромный шмель:
– Подож-жди, – я докаж-жу…
Прошёл почтовый чиновник под руку с тоненькой барышней и оставил за собою странные слова:
– Приоткрыто, но – чуть-чуть, и никто не может пройти…
Сонно тявкали собаки, высовывая морды из-под ворот; церковный сторож не спеша отбивал часы: ударит раз и ждёт, пока звук не растает в голубом воздухе, как слеза в большой чаше студёной воды.
– Десять, – сосчитал Павел.
Пред ним встала маленькая мордовка в серой юбке и жёлтой кофточке, с кружевами на груди. Три кофточки было у неё, все жёлтые, разных оттенков, и все были – коротки ей: когда она поднимала руки – полы выскакивали из-за пояса, а когда наклонялась – на пояснице было видно рубаху из ручного деревенского полотна. И юбка сидела на ней тоже неловко, криво.
«Волосы у неё хороши, – напомнил он сам себе, чувствуя желание найти в Лизе нечто равное красоте его жены. – Славные волосы, мягкие. И глаза тоже. Очень милые…»
Но кто-то протестующе возражал:
«А коленки – острые. И плечи – тоже».
…Из окна Лизиной комнаты на него взглянула тьма: он прижался к стеклу лицом и начал, как всегда делал это, часто и дробно барабанить пальцами по жестяной трубе форточки, вертун в ней был выломан. Долго не отвечали, наконец чужой, слабый голос спросил в трубу: