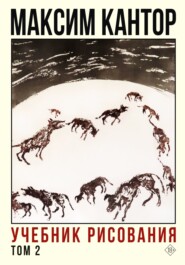По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чертополох и терн. Возрождение Возрождения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Появление академий рисунка и живописи инициирует возникновение рынка искусств. Это критично важный момент для истории и философии искусства.
Появление стандарта делает возможным сравнение, формулирует ожидания заказчика, создает логику продаж и перепродаж произведений искусства. Вне стандарта рынка попросту нет. Вне стереотипного рисования рынок искусства невозможен. Именно стандарт свободолюбия и стереотип протестного жеста сделал возможным рынок так называемого авангарда в конце XX в. Смешнее всего, разумеется, выглядят «профессиональные авангардисты», освоившие правила, как именно надо производить свободолюбие – этот нонсенс давно стал реальностью художественного рынка. Конечно же, вне стандарта (как оно и было в начале XX в.) рынок «авангарда» был нереален, но спустя сто лет стало возможным заказывать статусному «авангардисту» протест определенного уровня и ждать от активиста проявлений свободолюбия, выраженного по соответствующему лекалу. Ровно то же самое происходило в XVI в. с искусством христианского гуманизма.
Несомненно, заказы художественных произведений имели место и в XV в., и ранее; несомненно, живописцы существовали благодаря меценатам, покровительству двора и благодаря заказам, поступавшим из храмов. Но то были персональные, личные отношения: между Львом X и Микеланджело Буонарроти, между Франциском I и Леонардо, между семейством д’Эсте и Козимо Тура, между Гонзаго и Мантеньей и т. п. Существуют сотни случаев, скрытых от нас историей, и тысячи примеров неудачливых (и, возможно, гениальных) авторов, которые не нашли взаимопонимания с богачом или иерархом. Однако эти лакуны не отменяют (лишь подтверждают, на мой взгляд) принцип личных отношений меж зрителем/заказчиком и автором. Что более существенно, это положение дел утверждает личное отношение меж художником и верой: мастер ценен потому, что пишет именно так и трактует образ Христа именно так – не похоже на других, абсолютно оригинально. Храм заказывает картину Чима да Конельяно, поскольку хочет видеть образ Христа в интерпретации Чима да Конельяно, а не просто католического Христа, оппонирующего анабаптистской ереси.
Уникальность работы, персональная ответственность за работу – в принципе исключают принцип рыночного соревнования. В чем же можно соревноваться: в искренности веры? Соревнования нет: Микеланджело не идет на демпинг, чтобы сбыть свои работы быстрее Леонардо. Леонардо не торопится закончить «Джоконду», чтобы опередить Микеланджело у прилавка. Каждый делает свое дело в расчете на своего, именно своего ценителя, который понимает, чем художник занят. Никому в голову не придет дать объявление: «Меняю Сикстинскую капеллу в хорошем состоянии на семь работ Тициана» или: «Куплю типичного Мантенью и двух-трех сиенских живописцев». И невозможно даже пожелать такое, ибо не было в природе «типичных», стандартных живописцев.
Однако когда появляется стандарт академического рисования, то появляется типичный живописец, следующий регламенту рисования, – и вот тогда возникают рыночные отношения, то есть появляется конкуренция между практически равными исполнителями. Но равенство исполнителей среди художников, пишущих евангельские сюжеты, может возникнуть тогда, когда вера стала формальной. Вера, не пережитая лично, но конфессионально усвоенная, – это необходимый компонент стандартизации в живописи. Надо рисовать по данным лекалам – и рисуют сотни одинаковых композиций; но если бы личная вера требовала иного, возникла бы нестандартная композиция Сикстинской капеллы. В том случае, если вера истовая и страстная, – как такая вера может быть дублирована и с чем такую веру можно сопоставить? Сравнение может существовать лишь внутри типичного. Во времена кватроченто не существовало «равных» исполнителей-живописцев, поскольку не было единообразных убеждений: Боттичелли верил в Иисуса по-своему, колеблясь меж Фичино и Савонаролой, между аскезой и чувственной красотой, но суровый и черствый Мантенья верил иначе – и не потому, что принадлежал к иной конфессии. Мантенья просто понимал любовь иначе, чем Боттичелли; а в том, что милосердие и любовь существуют и должны отдаваться безвозмездно, они оба не сомневались. И, однако, были принципиально несопоставимыми мастерами. Как их сравнить по рыночной оценке?
Напротив того, размежевание конфессий, наступившее после Реформации, и стандартизация убеждений внутри одной конфессии привели – причем неизбежно привели – к появлению типичных, похожих друг на друга живописцев. Ровно то же самое можно сказать и об авангарде конца XX в., о так называемом втором авангарде, который уже стал салоном, сделав свободомыслие и жест эпатажа приемлемым для рынка стандартом. Рынок может присвоить себе только типическое, индивидуальное неподвластно рыночным отношениям. Интересно, что установившиеся в XVI в. рыночные отношения были постфактум присвоены и Высокому Возрождению; так возник миф о том, что искусство кватроченто тоже зависело от товарно-денежных отношений.
4
Статус художника не вдруг изменился; до того, как это произошло и чтобы это произошло, должен был измениться образ гуманитария, того самого школяра, что задавал тон при дворах Маргариты Наваррской в Лионе и Лоренцо во Флоренции; ученый должен был перейти из уютного салона в университет, там жизнь обретала иной регламент.
К концу XVI в. университеты отлились в стационарные коллективы с уставами не менее строгими, нежели монастырские. Джордано Бруно, явившийся в Оксфорд, дабы вызвать на диспут академическую публику, выглядел в глазах профессоров смешно; хотя лишь за пятьдесят лет до того приглашение на дискуссию по широкому кругу вопросов воспринималось естественно.
Университеты, созданные как оппозиция формальной схоластике и питавшие Ренессанс скепсисом, в XVI в. стали оппозицией свободному ренессансному мышлению. Ренессансный фантазер в стенах университета уже был не нужен; то, что потребно кружкам Лоренцо Медичи или Филиппа Сидни, в колледже ни к чему. Единожды оспорив пафос схоластов, университетская наука сочла своей миссией уничтожать любое генеральное утверждение – пусть и нерелигиозное. Оксфордский университет – столп номинализма, разваливающий любую генеральную концепцию на составные части, сделался своего рода Болонской художественной академией по отношению к идеям гуманизма. Генеральные утверждения, обобщения, утопические посылки – разбивались о фрагментарные знания, которые аккуратно каталогизировались. Ни Эразм, ни Бруно, ни Ванини в Оксфорде ни защиты, ни понимания найти не могли. Бруно называл собеседников в университете педантами, вышучивал их, а Монтень посвятил таким академикам главу «О педантизме» в «Опытах»:
«Если учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, (…) то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. (…) От своей латыни и своего греческого он стал надменнее и самоуверенней, чем был прежде, покидая родительский кров, – вот и все его приобретения. Ему полагалось бы прийти с душой наполненной, а он приходит с разбухшею; ей надо было бы возвеличиваться, а она у него только раздулась».
В университетах занимаются фактографией. Пунктуальный анализ теорий, что искали поддержки в споре с церковью, применялся в Оксфорде с равномерной бессердечностью: что с того, что фантазер противостоит фанатическому богословию? Свободомыслие не делает ученым. Номинализм, то есть оксфордский классический метод уничтожения мысли общего порядка, воплощен в XX в. в стиле Бертрана Рассела, который именовал себя «страстный скептик». Известное сочинение Рассела «История западной философии» демонстрирует метод: Рассел каталогизирует имевшиеся в истории мысли концепции, иронизируя над излишне пылкими мыслями, не имея собственной. Если бы читатель заинтересовался, что именно философ Бертран Рассел ждет от философии, ответа бы он не нашел. Номиналист суть прямая противоположность гуманисту, и метод университетской науки противоположен пафосу Ренессанса. Оксфорд нетерпим, столь же безжалостен оказался и Виттенбергский университет. Некогда Виттенберг пестовал свободную мысль Лютера (Шекспир сознательно сделал Гамлета выпускником Виттенберга); но сам Лютер в дальнейшем настоял на том, что свободная воля и равенство действуют лишь постольку, поскольку фиксируют равномерное подчинение общим правилам и единой доктрине; в новой конфессии нет никакой иерархии – в этом смысле все равны и свободны; но и никакой свободной воли по отношению к вмененной доктрине тоже нет.
Цельной многосоставной «ренессансной» личности отныне нет – зато идеал цельности присвоило себе государство и его институции: конфессии, университеты, академии, канцелярии, армия. Верующий гордится конфессией, школяр гордится университетом, художник – академией, гражданин – государством, солдат – армией, и все вместе гордятся империей – замкнутой «Солнечной системой».
Джордано Бруно, оспоривший замкнутые конструкции (Солнечную систему) и сосредоточенные на своем интересе корпорации (церкви и университеты), был осужден совершенно закономерно. Но ведь эта мысль принадлежала не ему, а всему Ренессансу. Однажды Сократ на вопрос, родился ли он в Афинах, ответил, что он родился во Вселенной; эту же мысль можно отыскать у Эразма. Гуманистическая философия (Фичино, Пико, Эразма) основана на принадлежности человека в первую очередь Мировому духу, истории, истине – и лишь в этом своем качестве человек может пригодиться локальной профессии и конкретному институту.
Всего лишь полвека назад Эразму, говорившему в Оксфорде практически то же самое, что говорил и Бруно (Эразм оспаривал замкнутые системы), был оказан теплый прием; Эразма даже приглашали остаться преподавать. В 1583 г. «академики», как они сами себя называют, вытолкали Бруно прочь, причем, насколько можно судить по противоречивым источникам, Ноланца осмеяли за ненаучность концепции. И впрямь, доказательства бесконечности миров Бруно представить не мог, то была фантазия, наукообразная утопия. Доказать бесконечность Вселенной было столь же нереально, как Томасу Мору на географическом факультете показать конкретные координаты острова Утопия.
Иное дело, что спустя века правота Бруно очевидна, но очевидна эта правота теперь не потому, что наука живет бесконечностью, – а потому, что идея «бесконечности» признана внутри другой замкнутой системы науки; Бруно сегодня придумал бы иной аргумент, чтобы саморегулирующуюся систему оспорить. Самоубийством было заявить о бесконечности миров перед лицом номиналистов в конце XVI в.
Двести лет спустя, в 1755 г., Кант опубликовал работу «Всеобщая естественная история и теория неба» – речь идет о том, что все видимые глазу (приборам или умозрению) предметы принадлежат единому целому – Галактике. Эта теория (как и теория Бруно) также не соответствует точным знаниям, однако принята сегодня как истина; истина не научного, но морального порядка. Да и Бруно пытался убедить оксфордских академиков лишь в том, что мораль находится вне поля их суждений. Речь шла не о Солнечной системе; Джордано Бруно вовсе не был последователем Коперника и солнцепоклонником; он не считал сферу Солнечной системы оболочкой мира. Как любую замкнутую систему, как любую догму, любой академизм, Бруно оспаривал и конечность Солнечной системы. Академизм и номинализм требовали от Бруно конкретных доказательств бесконечности – таковых Ноланец предоставить не мог и спор проиграл; и в рисовании, и в науке, и в политической риторике целостность ренессансной задачи отстоять свою правоту не сумела.
Но ведь саму мысль о единстве мира отменить невозможно. Раз явившись человечеству, потребность в цельной картине, в которой сопрягаются античность и христианство, остается. Причем это должно быть столь естественное соединение двух начал, что для морального индивида проблемы принять этот союз не возникнет.
Требовалось нечто, что встало бы над христианскими конфессиями, как некогда катакомбное христианство оспорило римское многобожие. Существует ли некое протознание, религия изначальная, которая бы соединяла в себе все веры? Этот вопрос звучал за сто лет до Бруно в устах Марсилио Фичино; в Платоновской академии сопрягали Платона и христианство; на этом учении вырос Микеланджело – мы обязаны его Сикстинской капелле этому знанию. Так рассуждал флорентийский философ Джованни Пико делла Мирандола: он соединял каббалу, христианство и герметизм. Пико уверял, что написанные им 900 тезисов (одни опираются на герметизм, другие на каббалу, третьи на христианство) не противоречат друг другу и все проникнуты верой в Единого Бога. Поиск единой протоистины – по этому пути, дальше прочих, последовательнее других, пошел Джордано Бруно.
Бруно называют «герметистом», имея в виду то, что он признавал верховным божеством Гермеса Трисмегиста. Гермеса Трисмегиста считают более древним мудрецом и пророком, нежели Моисея; Бруно пожелал увидеть в Гермесе носителя духовного опыта, не подвластного конфессиям; иудаизм и христианство не считал окончательными истинами. Бруно отказался от так называемого благочестивого герметизима (то есть такого «увлечения» Трисмегистом, которое отводило Гермесу надлежащее место в общей иерархии). Для Бруно, таким образом, Бог не был отождествлен с образом Христа, хотя не утратил положительных характеристик, коими Христа наделяет христианская религия. Просто, по Бруно, Бог есть бесконечность, которую ни одна конфессия не в силах присвоить. До Бруно это фактически сказал в «Утопии» Томас Мор: «Одни почитают как бога Солнце, другие – Луну, третьи – какое-нибудь из блуждающих светил. Есть такие, которые предполагают, что не просто бог, но даже величайший бог – это какой-то человек, некогда отличившийся своей доблестью или славой. Но гораздо большая часть утопийцев – она же и намного более разумная – полагает, что совсем не те боги, а некое единое божество, вечное, неизмеримое, неизъяснимое, которое выше понимания человеческого рассудка, разлито по всему этому миру силой своей, а не огромностью. Его они называют родителем. Только на его счет они относят начала, рост, увеличение, изменения и концы всех вещей, никому, кроме него, не воздают они божеских почестей».
Бруно в «Бесконечности вселенной и мирах» повторяет эту мысль, прямо говоря, что Бог бесконечен, как сама вселенная.
«Не ученый, а маг» – педанты и церковники называли его так. Впрочем, слово «маг» (так трактовал герметист Патрици) означает «почитатель бога», и папа Климент VII вызвал Патрици в Рим преподавать платоновскую философию, не находя в таковой крамолы. Долгое время гармония мирской власти опиралась на тождество ангельских и метафизических платоновских порядков. Определенный небесный чин ведает государствами и королями, архангелы ведают священнодействиями, ангелы ведают частными делами – схоласт и неоплатоник объясняют эти соответствия.
Но что, если земная юдоль приходит в беспорядок? Это не Бруно спрашивает – вопрос задала религиозная резня. Если внизу беспорядок, стало быть, хаос в небесной иерархии.
Философ обязан найти выход. Пантеизм и герметизм Бруно – усилие, направленное на преодоление небесного беспорядка.
В Европе Реформации и Контрреформации возник человек, совмещавший Джованни Пико делла Мирандолу и Джироламо Савонаролу в единую, никому не удобную личность. Академизм разделял сущности творчества и творца – гуманист Бруно сущности соединял. Обличитель религии и столп веры одновременно, он утверждал христианский гуманизм вопреки конфессиональной вере и профессиональной науке. Впрочем, Бруно действительно не признавал веру в Христа, и словосочетание «христианский гуманизм» не из его словаря. Прилагательное «христианский» стремительно теряло смысл, как в годы сталинизма теряло смысл слово «коммунистический». Однако в диалогах, написанных в традиции Эразма, Бруно дает своему альтер эго, тому, кто высказывает его взгляды, имя Теофил, что означает «любящий Бога». Думая о Бруно сегодня, видишь его в ряду Пико и Фичино – бесспорно христианских гуманистов.
Если кто и повинен в разночтении термина «христианский», то уж никак не Бруно.
Надо было доказать заново существование Бога, достойного того, чтобы гуманист опирался на союз с ним, веря, что идеологическое зло не присуще Богу Живому.
Иначе ни искусство, ни философия невозможны; для христианского искусства является необходимостью различение добра и зла – именно об этом написаны все картины. Но если понятия смещены? Если сама церковь не различает добра и зла, принося человеческие жертвоприношения, чего можно ожидать от искусства, обслуживающего христианскую идеологию? Спустя пятьсот лет Бертран Рассел – номиналист и позитивист – написал небольшую книгу, предъявив претензии рационалиста христианской религии; книга под названием «Почему я не христианин» не стала смертным приговором для ученого. Схожий вопрос задавали Ванини, Бруно и Сервет – поплатились жизнью; теперь вопрос не страшен. За пятьсот лет в христианстве разочаровалось большинство жителей планеты, привлеченных иными, не столь многообещающими проектами (не менее опасными с точки зрения идеологии). Объяснить, «почему я не христианин», нынче легко. Рассел выбрал формулировку «христианство наследует в своей морали восточным деспотиям», имея в виду иерархичность небес и жестокую «веру в ад», казарменное мироустройство, предложенное верующим. Странно, что ученый не упомянул самый радикальный недостаток христианской веры – христианская религия стала наследницей языческого культа: система поощрений и наказаний действовала от имени Иисуса, превращая последнего в идола.
Признавая вышесказанное и понимая противоречия, рожденные духом и идеологией, куда сложней сказать: почему остаюсь я христианином, несмотря на то, что христианская религия стала языческой?
Можно ли оживить дух христианства, жертвенный, милосердный, бесстрашный дух – отказавшись от идеологии веры? Какую форму обретет этот дух, если взятая напрокат античная форма разменяна в академиях и в языческом культе церкви?
О Возрождении – в том, первоначальном замысле, который двигал умами флорентийских гуманистов из окружения Лоренцо – речи уже не было. Из античности собирались позаимствовать республиканскую мысль Платона и призыв Сократа доискиваться до сути вещей, отделяя праздное и порочное от того, что приносит пользу обществу; но на практике взяли лишь мрачный жреческий культ жертвоприношений.
Надо было ставить вопрос иначе: возможно ли возрождение Возрождения? То есть можно ли снова захотеть того же самого?
Того былого Возрождения уже более не будет в истории человечества никогда.
Не будет волшебного соединения гордой греческой пластики, христианского идеала кротости, римской политической мысли. Никогда более иерарх церкви не будет изображен рядом с пастухом, никогда уже не будет синтеза античности с христианством; никогда уже власть не пожелает выглядеть моральной. История человечества, восстановленная в единое целое усилиями Августина и Плотина, Микеланджело и Боттичелли, Фичино и Пико, рассыплется на фрагменты. И уже никогда живопись не поднимется до тех величественных и гармоничных образов, которые писали Микеланджело и Рогир. Образ человека отныне станет неубедителен: просто потому, что невозможно написать убедительный образ Христа. Джордано Бруно, привязанный к столбу, перед тем как палач запалил хворост, успел отвернуться от распятия, которое ему, по церковному обычаю, поднесли к губам, чтобы поцеловал, прежде чем сгореть. Здравый человек не станет целовать крест (вообще говоря, орудие пытки, ставшее символом милосердия), если этого человека сжигают именем того, кто на этом кресте был распят. Что-то тут не в порядке с логикой, и Бруно целовать крест не стал. И рисовать Христа с тех пор стало непросто. Также и люди, созданные по образу и подобию Божьему, должны будут доказать, что их черты заслуживают воплощения. А это не так легко, как было в треченто. Всякому без исключения художнику придется доказывать, что он имеет моральное право утверждать новый образ, надо доказывать, что его образ не фальшив. Как это и было предсказано в Библии: после изгнания из рая людям придется в поте лица своего добывать хлеб и рожать в муках; и всякое усилие создать образ (что легко давалось мастеру Ренессанса) будет мучительным. Гойя, ван Гог и Сезанн отдадут жизнь за право писать убедительные лица, рисовать людей, в моральность которых веришь, – но большинству художников придется рисовать полоски и квадраты, поскольку убедительного образа более не существует.
5
Смена стилей в культуре не происходит по правилам развода караула у Букингемского дворца – «одни стражники пришли, а другие ушли»; процедура запутана и отнимает много времени.
Переход от Ренессанса к барокко занял отрезок времени куда как более длительный, нежели собственно Ренессанс и собственно барокко. Демисезонные периоды в истории куда длиннее времен года. То, что Й. Хейзинга ввел выражение «Осень Средневековья», описывая XV в. Бургундии, а Михайлов употребляет выражение «Осень Ренессанса», описывая век религиозных войн во Франции, вызвано отсутствием конкретного термина; термин нужен. Те годы, которые именуем «интернациональной готикой» или «маньеризмом», представляют стили не менее определенные, нежели Ренессанс и барокко. Более того, демисезонные периоды в большей степени формируют характер культуры и нации, нежели короткие периоды «сезонов». Легче всего назвать время меж Ренессансом и барокко – эклектикой. Тут и кокетливая манерность, и академический формализм, и заискивание перед сильными, и куртуазный салон, и коллаборационизм по отношению к власти, и тщеславие, и трусость – все одновременно. Смешение интонаций и форм – налицо. Аннибале Карраччи кокетлив, он же – большой педант по части формы и аккуратного нанесения прозрачных теней. Бронзино доходит до пошлости, однако исключительно горделивой. Пармиджанино манерный, но трогательный. Противоречивые свойства сплавлены в общий продукт, время, затраченное культурой на производство этого продукта, – длиннее, нежели срок, отпущенный кругу Лоренцо Медичи. Во времена Ренессанса идеальный образ героя также был противоречив: благороден, своенравен, умен, жесток, глубок, озабочен проблемами вечности – и, в целом, величественен. Из демисезонного образа величественность ушла.
Братья Карраччи (заканчивал грандиозную работу один Аннибале) расписывают огромный палаццо Фарнезе; плафон, покрытый жеманной росписью, едва ли не превосходит величиной потолок Сикстинской капеллы, изображено много античных героев – но нет величественности. Во всем – мелкие страсти, хоть и гротескно взвинченные.
Впереди был XVII в., который французы называют «Великий», в котором сложился имперский стиль барокко и родилась совсем иная живопись и литература, уже очень важная и надменная. XVII в. обязан, разумеется, концентрации знаний, тому межеумочному демисезонному времени – от крестьянских и религиозных войн до войны Тридцатилетней, – которое растянулось почти на сто лет.
Великой живописи за это время создано не было вовсе, религиозные войны и костры инквизиции отменили великую гармоническую живопись; академии перевели изобразительное искусство христианского гуманизма в разряд идеологии и салона. Миссия живописи на этом была завершена – после XVI в. великих художников в Италии уже не будет; а прежде великих художников были десятки, если не сотни.
И вдруг время великой живописи закончилось.
Впрочем, найдутся знатоки искусства, и таких будет немало, которые воспротивятся такой оценке. Эти люди искренне чтут тонкое искусство Крести и Пармиджанино, в изысканности Россо Фьорентино или Якопо Понтормо они видят не меньше смысла, чем в жестких линиях Мантеньи, и как же доказать, чем сладость форм Бронзино принципиально хуже (вторичнее?) мягких форм Боттичелли. И в том, и в другом случае изображен нежный женский силуэт, тягучая линия скользит вдоль форм – чем же сладость Бронзино хуже боттичеллиевской? Что, если это просто неизбежное течение одного и того же стиля, усложнение и обогащение форм. Больше золота и украшений – да, но ведь и мастера Высокого Возрождения не чурались украшений. Четкой границы нет – и, возможно, маньеризм не есть противоположность Ренессансу. Подобная точка зрения существует, и причем эта точка зрения весьма убедительна. Помимо прочего, мастера того стиля, который мы условно именуем «маньеризм», создали такое обилие картин, статуй, зданий, ювелирных украшений, предметов роскоши, что их количество буквально подавляет ренессансную продукцию. Как же сказать, что художников не стало? Художников стало значительно больше! Отныне не только воля князя (Лоренцо Великолепного или Гонзаго) поддерживает их существование, но обширные королевские дворы – Франциска I, Карла V. Вельможи империи Габсбургов (а империя обширна, охватывает почти всю Европу) делают столько заказов, дают столько рабочих мест, выражаясь современным языком, что ренессансным князьям и не снилось. Если от ван Эйка или Боттичелли, от Мантеньи или Леонардо остались считаные произведения, то поток произведений маньеризма не поддается исчислению. Плавно перетекая в барокко, этот стиль властно завоевал Европу – в известном смысле слился с понятием европейского духа.
Сегодня требуется сделать усилие, чтобы обособить ренессансный стиль мышления от маньеризма, и для того, чтобы показать, чем отличается Якопо Бассано от Джорджоне, придется немало потрудиться. И получится ли доказать? Тинторетто и Тициан, фигуры, которые располагаются между этими двумя мастерами (между Бассано и Джорджоне), своими работами словно размывают границы двух эпох; очевидно, что Ренессанс перетек в иное состояние, состояние это требует осмысления – но как, когда, как быстро это перетекание произошло? Франциск I мечтал перенести Ренессанс в Фонтенбло, в результате возник иной стиль, не похожий на флорентийский Ренессанс – но почему, в какой момент произошла трансформация?
Невозможно огульно отрицать интеллектуальную игру Бронзино и Сальвиати; и, в конце концов, Бронзино работал у того же семейства Медичи, что и мастера Высокого Возрождения, – почему же не считать, что дух Ренессанса плавно движется, совершая восхождение к более утонченной форме? Чем же «Венера, Купидон и сатир» Бронзино (Рим) хуже «Венеры и Марса» Боттичелли? Чуть больше эротизма, чуть больше изысканного кокетства, но это ведь гомеопатические дозы чувственной интонации; стало быть, такая интонация востребована временем.
И это именно так. Вот эта изысканная чувственная интонация, фривольная игра ума, забава, которая как бы остается в пределах интеллектуальной, но переходит в разряд осязаемых удовольствий, востребована новой эпохой. У чувственной интеллектуальной забавы есть заказчик, есть тот, кому требуется именно таким образом осознавать причастие к искусству – через легкую игру ума, через эротику, остающуюся умственной, но будоражащей также и плоть. Этот заказчик – разумеется, не церковь, этот ценитель – уже не гуманист-книгочей, и этот меценат – уже не правитель маленькой республики, покровитель кружка гуманистов. Этот новый заказчик – двор большой империи. Огромный имперский организм (не город-республика, не торговая Ганза, не аббатство) дышит парками и аллеями, омывает себя фонтанами, украшает свои площади колоннадами и статуями, прорастает дворцами, и все это – нескончаемый праздник власти. Те нимфы, что появились в полотнах Ренессанса, теперь нужны не в единственном числе – но батальонами; тритоны нужны в эпических количествах; но главное, что требуется, – это легкость, искупающая грандиозную тяжесть масштаба. Не трактат о нравственной ответственности перед Богом необходим – и как же такой трактат, обращенный от одного к одному, использовать на просторах парков и колоннад? – но элегантное сочинение, сохраняющее живость мысли, но не обременяющее моралью.
Возникает стиль мышления и та эстетика, которая куда жизнеспособнее эстетики Ренессанса – оттого протяженность данной эстетики значительно дольше.
Собственно говоря, то, что мы именуем «маньеризмом», есть стиль перехода от республиканского мышления к имперскому. И это отнюдь не маньеризм является переходом, демисезонным периодом между большими стилями Возрождением и барокко, но напротив, Возрождение есть короткая вспышка, мгновение, мелькнувшее меж долгими периодами имперского стиля. Маньеризм властен и тягуч, в сущности, барокко и рококо продолжают его эстетику, это варианты большого имперского стиля.
Якоб Буркхардт ограничивал маньеризм рамками Италии и временем 1530–1580 гг.; Макс Дворжак революционно пересмотрел вопрос и назвал маньеризм интернациональным явлением, вне исторических границ. По Дворжаку, любое художественное явление, подчиняющее свои формы изящному капризу, использующее гротеск и экспрессию, можно отнести к маньеризму. Хаузер расширил понимание маньеризма до того, что распространил явление и на XX в., вообще придал понятию экзистенциальные черты. По Хаузеру, маньеризм – это субъективизм, выражающий себя через каприз в противовес нормативной эстетике.
Но если маньеризм – это субъективизм, то субъективизм имперского сознания, которое не желает знать и не признает никакой «нормативной» эстетики; да и что по отношению к имперскому величию может осмелиться претендовать на «норму»? Субъективизм имперской игры ума отныне сам становится нормой, как нормой становится каприз моды или элегантность пустого жеста. Маньеризм (если стиль понимать широко и вне временных и исторических границ) присущ всякой эпохе при переходе от республиканской утопии к реальности царства и империи. В момент этого перехода то простое и строгое, что соответствовало понятию прекрасного в республике, прекрасным и красивым быть перестает; отныне прекрасно сложное, витиеватое, слегка манерное – но зачем употреблять слово «манерное», если можно сказать «этикет»? Есть этикет отношений, иерархия морали, сложность государственной нравственности – и простой формой это не выразить.
Стиль эллинизм, отсчитывающий свое существование от империи Александра, – это античный маньеризм, изысканный и избыточно красивый. Республиканский авангард, возникший в начале XX в. в Европе, стремительно мимикрировал в авангардный маньеризм, когда республики стали империями. Эта трансформация авангарда случилась до того, как появился имперский ампир – сталинский, гитлеровский, муссолиниевский. Авангардный маньеризм возник уже в поздние 20-е гг. – вместе с изысканными костюмами прозодежды и театральными постановками в супрематических костюмах, вместе с изменением европейского кубизма – от радикальных форм к салонным.
Появление стандарта делает возможным сравнение, формулирует ожидания заказчика, создает логику продаж и перепродаж произведений искусства. Вне стандарта рынка попросту нет. Вне стереотипного рисования рынок искусства невозможен. Именно стандарт свободолюбия и стереотип протестного жеста сделал возможным рынок так называемого авангарда в конце XX в. Смешнее всего, разумеется, выглядят «профессиональные авангардисты», освоившие правила, как именно надо производить свободолюбие – этот нонсенс давно стал реальностью художественного рынка. Конечно же, вне стандарта (как оно и было в начале XX в.) рынок «авангарда» был нереален, но спустя сто лет стало возможным заказывать статусному «авангардисту» протест определенного уровня и ждать от активиста проявлений свободолюбия, выраженного по соответствующему лекалу. Ровно то же самое происходило в XVI в. с искусством христианского гуманизма.
Несомненно, заказы художественных произведений имели место и в XV в., и ранее; несомненно, живописцы существовали благодаря меценатам, покровительству двора и благодаря заказам, поступавшим из храмов. Но то были персональные, личные отношения: между Львом X и Микеланджело Буонарроти, между Франциском I и Леонардо, между семейством д’Эсте и Козимо Тура, между Гонзаго и Мантеньей и т. п. Существуют сотни случаев, скрытых от нас историей, и тысячи примеров неудачливых (и, возможно, гениальных) авторов, которые не нашли взаимопонимания с богачом или иерархом. Однако эти лакуны не отменяют (лишь подтверждают, на мой взгляд) принцип личных отношений меж зрителем/заказчиком и автором. Что более существенно, это положение дел утверждает личное отношение меж художником и верой: мастер ценен потому, что пишет именно так и трактует образ Христа именно так – не похоже на других, абсолютно оригинально. Храм заказывает картину Чима да Конельяно, поскольку хочет видеть образ Христа в интерпретации Чима да Конельяно, а не просто католического Христа, оппонирующего анабаптистской ереси.
Уникальность работы, персональная ответственность за работу – в принципе исключают принцип рыночного соревнования. В чем же можно соревноваться: в искренности веры? Соревнования нет: Микеланджело не идет на демпинг, чтобы сбыть свои работы быстрее Леонардо. Леонардо не торопится закончить «Джоконду», чтобы опередить Микеланджело у прилавка. Каждый делает свое дело в расчете на своего, именно своего ценителя, который понимает, чем художник занят. Никому в голову не придет дать объявление: «Меняю Сикстинскую капеллу в хорошем состоянии на семь работ Тициана» или: «Куплю типичного Мантенью и двух-трех сиенских живописцев». И невозможно даже пожелать такое, ибо не было в природе «типичных», стандартных живописцев.
Однако когда появляется стандарт академического рисования, то появляется типичный живописец, следующий регламенту рисования, – и вот тогда возникают рыночные отношения, то есть появляется конкуренция между практически равными исполнителями. Но равенство исполнителей среди художников, пишущих евангельские сюжеты, может возникнуть тогда, когда вера стала формальной. Вера, не пережитая лично, но конфессионально усвоенная, – это необходимый компонент стандартизации в живописи. Надо рисовать по данным лекалам – и рисуют сотни одинаковых композиций; но если бы личная вера требовала иного, возникла бы нестандартная композиция Сикстинской капеллы. В том случае, если вера истовая и страстная, – как такая вера может быть дублирована и с чем такую веру можно сопоставить? Сравнение может существовать лишь внутри типичного. Во времена кватроченто не существовало «равных» исполнителей-живописцев, поскольку не было единообразных убеждений: Боттичелли верил в Иисуса по-своему, колеблясь меж Фичино и Савонаролой, между аскезой и чувственной красотой, но суровый и черствый Мантенья верил иначе – и не потому, что принадлежал к иной конфессии. Мантенья просто понимал любовь иначе, чем Боттичелли; а в том, что милосердие и любовь существуют и должны отдаваться безвозмездно, они оба не сомневались. И, однако, были принципиально несопоставимыми мастерами. Как их сравнить по рыночной оценке?
Напротив того, размежевание конфессий, наступившее после Реформации, и стандартизация убеждений внутри одной конфессии привели – причем неизбежно привели – к появлению типичных, похожих друг на друга живописцев. Ровно то же самое можно сказать и об авангарде конца XX в., о так называемом втором авангарде, который уже стал салоном, сделав свободомыслие и жест эпатажа приемлемым для рынка стандартом. Рынок может присвоить себе только типическое, индивидуальное неподвластно рыночным отношениям. Интересно, что установившиеся в XVI в. рыночные отношения были постфактум присвоены и Высокому Возрождению; так возник миф о том, что искусство кватроченто тоже зависело от товарно-денежных отношений.
4
Статус художника не вдруг изменился; до того, как это произошло и чтобы это произошло, должен был измениться образ гуманитария, того самого школяра, что задавал тон при дворах Маргариты Наваррской в Лионе и Лоренцо во Флоренции; ученый должен был перейти из уютного салона в университет, там жизнь обретала иной регламент.
К концу XVI в. университеты отлились в стационарные коллективы с уставами не менее строгими, нежели монастырские. Джордано Бруно, явившийся в Оксфорд, дабы вызвать на диспут академическую публику, выглядел в глазах профессоров смешно; хотя лишь за пятьдесят лет до того приглашение на дискуссию по широкому кругу вопросов воспринималось естественно.
Университеты, созданные как оппозиция формальной схоластике и питавшие Ренессанс скепсисом, в XVI в. стали оппозицией свободному ренессансному мышлению. Ренессансный фантазер в стенах университета уже был не нужен; то, что потребно кружкам Лоренцо Медичи или Филиппа Сидни, в колледже ни к чему. Единожды оспорив пафос схоластов, университетская наука сочла своей миссией уничтожать любое генеральное утверждение – пусть и нерелигиозное. Оксфордский университет – столп номинализма, разваливающий любую генеральную концепцию на составные части, сделался своего рода Болонской художественной академией по отношению к идеям гуманизма. Генеральные утверждения, обобщения, утопические посылки – разбивались о фрагментарные знания, которые аккуратно каталогизировались. Ни Эразм, ни Бруно, ни Ванини в Оксфорде ни защиты, ни понимания найти не могли. Бруно называл собеседников в университете педантами, вышучивал их, а Монтень посвятил таким академикам главу «О педантизме» в «Опытах»:
«Если учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, (…) то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. (…) От своей латыни и своего греческого он стал надменнее и самоуверенней, чем был прежде, покидая родительский кров, – вот и все его приобретения. Ему полагалось бы прийти с душой наполненной, а он приходит с разбухшею; ей надо было бы возвеличиваться, а она у него только раздулась».
В университетах занимаются фактографией. Пунктуальный анализ теорий, что искали поддержки в споре с церковью, применялся в Оксфорде с равномерной бессердечностью: что с того, что фантазер противостоит фанатическому богословию? Свободомыслие не делает ученым. Номинализм, то есть оксфордский классический метод уничтожения мысли общего порядка, воплощен в XX в. в стиле Бертрана Рассела, который именовал себя «страстный скептик». Известное сочинение Рассела «История западной философии» демонстрирует метод: Рассел каталогизирует имевшиеся в истории мысли концепции, иронизируя над излишне пылкими мыслями, не имея собственной. Если бы читатель заинтересовался, что именно философ Бертран Рассел ждет от философии, ответа бы он не нашел. Номиналист суть прямая противоположность гуманисту, и метод университетской науки противоположен пафосу Ренессанса. Оксфорд нетерпим, столь же безжалостен оказался и Виттенбергский университет. Некогда Виттенберг пестовал свободную мысль Лютера (Шекспир сознательно сделал Гамлета выпускником Виттенберга); но сам Лютер в дальнейшем настоял на том, что свободная воля и равенство действуют лишь постольку, поскольку фиксируют равномерное подчинение общим правилам и единой доктрине; в новой конфессии нет никакой иерархии – в этом смысле все равны и свободны; но и никакой свободной воли по отношению к вмененной доктрине тоже нет.
Цельной многосоставной «ренессансной» личности отныне нет – зато идеал цельности присвоило себе государство и его институции: конфессии, университеты, академии, канцелярии, армия. Верующий гордится конфессией, школяр гордится университетом, художник – академией, гражданин – государством, солдат – армией, и все вместе гордятся империей – замкнутой «Солнечной системой».
Джордано Бруно, оспоривший замкнутые конструкции (Солнечную систему) и сосредоточенные на своем интересе корпорации (церкви и университеты), был осужден совершенно закономерно. Но ведь эта мысль принадлежала не ему, а всему Ренессансу. Однажды Сократ на вопрос, родился ли он в Афинах, ответил, что он родился во Вселенной; эту же мысль можно отыскать у Эразма. Гуманистическая философия (Фичино, Пико, Эразма) основана на принадлежности человека в первую очередь Мировому духу, истории, истине – и лишь в этом своем качестве человек может пригодиться локальной профессии и конкретному институту.
Всего лишь полвека назад Эразму, говорившему в Оксфорде практически то же самое, что говорил и Бруно (Эразм оспаривал замкнутые системы), был оказан теплый прием; Эразма даже приглашали остаться преподавать. В 1583 г. «академики», как они сами себя называют, вытолкали Бруно прочь, причем, насколько можно судить по противоречивым источникам, Ноланца осмеяли за ненаучность концепции. И впрямь, доказательства бесконечности миров Бруно представить не мог, то была фантазия, наукообразная утопия. Доказать бесконечность Вселенной было столь же нереально, как Томасу Мору на географическом факультете показать конкретные координаты острова Утопия.
Иное дело, что спустя века правота Бруно очевидна, но очевидна эта правота теперь не потому, что наука живет бесконечностью, – а потому, что идея «бесконечности» признана внутри другой замкнутой системы науки; Бруно сегодня придумал бы иной аргумент, чтобы саморегулирующуюся систему оспорить. Самоубийством было заявить о бесконечности миров перед лицом номиналистов в конце XVI в.
Двести лет спустя, в 1755 г., Кант опубликовал работу «Всеобщая естественная история и теория неба» – речь идет о том, что все видимые глазу (приборам или умозрению) предметы принадлежат единому целому – Галактике. Эта теория (как и теория Бруно) также не соответствует точным знаниям, однако принята сегодня как истина; истина не научного, но морального порядка. Да и Бруно пытался убедить оксфордских академиков лишь в том, что мораль находится вне поля их суждений. Речь шла не о Солнечной системе; Джордано Бруно вовсе не был последователем Коперника и солнцепоклонником; он не считал сферу Солнечной системы оболочкой мира. Как любую замкнутую систему, как любую догму, любой академизм, Бруно оспаривал и конечность Солнечной системы. Академизм и номинализм требовали от Бруно конкретных доказательств бесконечности – таковых Ноланец предоставить не мог и спор проиграл; и в рисовании, и в науке, и в политической риторике целостность ренессансной задачи отстоять свою правоту не сумела.
Но ведь саму мысль о единстве мира отменить невозможно. Раз явившись человечеству, потребность в цельной картине, в которой сопрягаются античность и христианство, остается. Причем это должно быть столь естественное соединение двух начал, что для морального индивида проблемы принять этот союз не возникнет.
Требовалось нечто, что встало бы над христианскими конфессиями, как некогда катакомбное христианство оспорило римское многобожие. Существует ли некое протознание, религия изначальная, которая бы соединяла в себе все веры? Этот вопрос звучал за сто лет до Бруно в устах Марсилио Фичино; в Платоновской академии сопрягали Платона и христианство; на этом учении вырос Микеланджело – мы обязаны его Сикстинской капелле этому знанию. Так рассуждал флорентийский философ Джованни Пико делла Мирандола: он соединял каббалу, христианство и герметизм. Пико уверял, что написанные им 900 тезисов (одни опираются на герметизм, другие на каббалу, третьи на христианство) не противоречат друг другу и все проникнуты верой в Единого Бога. Поиск единой протоистины – по этому пути, дальше прочих, последовательнее других, пошел Джордано Бруно.
Бруно называют «герметистом», имея в виду то, что он признавал верховным божеством Гермеса Трисмегиста. Гермеса Трисмегиста считают более древним мудрецом и пророком, нежели Моисея; Бруно пожелал увидеть в Гермесе носителя духовного опыта, не подвластного конфессиям; иудаизм и христианство не считал окончательными истинами. Бруно отказался от так называемого благочестивого герметизима (то есть такого «увлечения» Трисмегистом, которое отводило Гермесу надлежащее место в общей иерархии). Для Бруно, таким образом, Бог не был отождествлен с образом Христа, хотя не утратил положительных характеристик, коими Христа наделяет христианская религия. Просто, по Бруно, Бог есть бесконечность, которую ни одна конфессия не в силах присвоить. До Бруно это фактически сказал в «Утопии» Томас Мор: «Одни почитают как бога Солнце, другие – Луну, третьи – какое-нибудь из блуждающих светил. Есть такие, которые предполагают, что не просто бог, но даже величайший бог – это какой-то человек, некогда отличившийся своей доблестью или славой. Но гораздо большая часть утопийцев – она же и намного более разумная – полагает, что совсем не те боги, а некое единое божество, вечное, неизмеримое, неизъяснимое, которое выше понимания человеческого рассудка, разлито по всему этому миру силой своей, а не огромностью. Его они называют родителем. Только на его счет они относят начала, рост, увеличение, изменения и концы всех вещей, никому, кроме него, не воздают они божеских почестей».
Бруно в «Бесконечности вселенной и мирах» повторяет эту мысль, прямо говоря, что Бог бесконечен, как сама вселенная.
«Не ученый, а маг» – педанты и церковники называли его так. Впрочем, слово «маг» (так трактовал герметист Патрици) означает «почитатель бога», и папа Климент VII вызвал Патрици в Рим преподавать платоновскую философию, не находя в таковой крамолы. Долгое время гармония мирской власти опиралась на тождество ангельских и метафизических платоновских порядков. Определенный небесный чин ведает государствами и королями, архангелы ведают священнодействиями, ангелы ведают частными делами – схоласт и неоплатоник объясняют эти соответствия.
Но что, если земная юдоль приходит в беспорядок? Это не Бруно спрашивает – вопрос задала религиозная резня. Если внизу беспорядок, стало быть, хаос в небесной иерархии.
Философ обязан найти выход. Пантеизм и герметизм Бруно – усилие, направленное на преодоление небесного беспорядка.
В Европе Реформации и Контрреформации возник человек, совмещавший Джованни Пико делла Мирандолу и Джироламо Савонаролу в единую, никому не удобную личность. Академизм разделял сущности творчества и творца – гуманист Бруно сущности соединял. Обличитель религии и столп веры одновременно, он утверждал христианский гуманизм вопреки конфессиональной вере и профессиональной науке. Впрочем, Бруно действительно не признавал веру в Христа, и словосочетание «христианский гуманизм» не из его словаря. Прилагательное «христианский» стремительно теряло смысл, как в годы сталинизма теряло смысл слово «коммунистический». Однако в диалогах, написанных в традиции Эразма, Бруно дает своему альтер эго, тому, кто высказывает его взгляды, имя Теофил, что означает «любящий Бога». Думая о Бруно сегодня, видишь его в ряду Пико и Фичино – бесспорно христианских гуманистов.
Если кто и повинен в разночтении термина «христианский», то уж никак не Бруно.
Надо было доказать заново существование Бога, достойного того, чтобы гуманист опирался на союз с ним, веря, что идеологическое зло не присуще Богу Живому.
Иначе ни искусство, ни философия невозможны; для христианского искусства является необходимостью различение добра и зла – именно об этом написаны все картины. Но если понятия смещены? Если сама церковь не различает добра и зла, принося человеческие жертвоприношения, чего можно ожидать от искусства, обслуживающего христианскую идеологию? Спустя пятьсот лет Бертран Рассел – номиналист и позитивист – написал небольшую книгу, предъявив претензии рационалиста христианской религии; книга под названием «Почему я не христианин» не стала смертным приговором для ученого. Схожий вопрос задавали Ванини, Бруно и Сервет – поплатились жизнью; теперь вопрос не страшен. За пятьсот лет в христианстве разочаровалось большинство жителей планеты, привлеченных иными, не столь многообещающими проектами (не менее опасными с точки зрения идеологии). Объяснить, «почему я не христианин», нынче легко. Рассел выбрал формулировку «христианство наследует в своей морали восточным деспотиям», имея в виду иерархичность небес и жестокую «веру в ад», казарменное мироустройство, предложенное верующим. Странно, что ученый не упомянул самый радикальный недостаток христианской веры – христианская религия стала наследницей языческого культа: система поощрений и наказаний действовала от имени Иисуса, превращая последнего в идола.
Признавая вышесказанное и понимая противоречия, рожденные духом и идеологией, куда сложней сказать: почему остаюсь я христианином, несмотря на то, что христианская религия стала языческой?
Можно ли оживить дух христианства, жертвенный, милосердный, бесстрашный дух – отказавшись от идеологии веры? Какую форму обретет этот дух, если взятая напрокат античная форма разменяна в академиях и в языческом культе церкви?
О Возрождении – в том, первоначальном замысле, который двигал умами флорентийских гуманистов из окружения Лоренцо – речи уже не было. Из античности собирались позаимствовать республиканскую мысль Платона и призыв Сократа доискиваться до сути вещей, отделяя праздное и порочное от того, что приносит пользу обществу; но на практике взяли лишь мрачный жреческий культ жертвоприношений.
Надо было ставить вопрос иначе: возможно ли возрождение Возрождения? То есть можно ли снова захотеть того же самого?
Того былого Возрождения уже более не будет в истории человечества никогда.
Не будет волшебного соединения гордой греческой пластики, христианского идеала кротости, римской политической мысли. Никогда более иерарх церкви не будет изображен рядом с пастухом, никогда уже не будет синтеза античности с христианством; никогда уже власть не пожелает выглядеть моральной. История человечества, восстановленная в единое целое усилиями Августина и Плотина, Микеланджело и Боттичелли, Фичино и Пико, рассыплется на фрагменты. И уже никогда живопись не поднимется до тех величественных и гармоничных образов, которые писали Микеланджело и Рогир. Образ человека отныне станет неубедителен: просто потому, что невозможно написать убедительный образ Христа. Джордано Бруно, привязанный к столбу, перед тем как палач запалил хворост, успел отвернуться от распятия, которое ему, по церковному обычаю, поднесли к губам, чтобы поцеловал, прежде чем сгореть. Здравый человек не станет целовать крест (вообще говоря, орудие пытки, ставшее символом милосердия), если этого человека сжигают именем того, кто на этом кресте был распят. Что-то тут не в порядке с логикой, и Бруно целовать крест не стал. И рисовать Христа с тех пор стало непросто. Также и люди, созданные по образу и подобию Божьему, должны будут доказать, что их черты заслуживают воплощения. А это не так легко, как было в треченто. Всякому без исключения художнику придется доказывать, что он имеет моральное право утверждать новый образ, надо доказывать, что его образ не фальшив. Как это и было предсказано в Библии: после изгнания из рая людям придется в поте лица своего добывать хлеб и рожать в муках; и всякое усилие создать образ (что легко давалось мастеру Ренессанса) будет мучительным. Гойя, ван Гог и Сезанн отдадут жизнь за право писать убедительные лица, рисовать людей, в моральность которых веришь, – но большинству художников придется рисовать полоски и квадраты, поскольку убедительного образа более не существует.
5
Смена стилей в культуре не происходит по правилам развода караула у Букингемского дворца – «одни стражники пришли, а другие ушли»; процедура запутана и отнимает много времени.
Переход от Ренессанса к барокко занял отрезок времени куда как более длительный, нежели собственно Ренессанс и собственно барокко. Демисезонные периоды в истории куда длиннее времен года. То, что Й. Хейзинга ввел выражение «Осень Средневековья», описывая XV в. Бургундии, а Михайлов употребляет выражение «Осень Ренессанса», описывая век религиозных войн во Франции, вызвано отсутствием конкретного термина; термин нужен. Те годы, которые именуем «интернациональной готикой» или «маньеризмом», представляют стили не менее определенные, нежели Ренессанс и барокко. Более того, демисезонные периоды в большей степени формируют характер культуры и нации, нежели короткие периоды «сезонов». Легче всего назвать время меж Ренессансом и барокко – эклектикой. Тут и кокетливая манерность, и академический формализм, и заискивание перед сильными, и куртуазный салон, и коллаборационизм по отношению к власти, и тщеславие, и трусость – все одновременно. Смешение интонаций и форм – налицо. Аннибале Карраччи кокетлив, он же – большой педант по части формы и аккуратного нанесения прозрачных теней. Бронзино доходит до пошлости, однако исключительно горделивой. Пармиджанино манерный, но трогательный. Противоречивые свойства сплавлены в общий продукт, время, затраченное культурой на производство этого продукта, – длиннее, нежели срок, отпущенный кругу Лоренцо Медичи. Во времена Ренессанса идеальный образ героя также был противоречив: благороден, своенравен, умен, жесток, глубок, озабочен проблемами вечности – и, в целом, величественен. Из демисезонного образа величественность ушла.
Братья Карраччи (заканчивал грандиозную работу один Аннибале) расписывают огромный палаццо Фарнезе; плафон, покрытый жеманной росписью, едва ли не превосходит величиной потолок Сикстинской капеллы, изображено много античных героев – но нет величественности. Во всем – мелкие страсти, хоть и гротескно взвинченные.
Впереди был XVII в., который французы называют «Великий», в котором сложился имперский стиль барокко и родилась совсем иная живопись и литература, уже очень важная и надменная. XVII в. обязан, разумеется, концентрации знаний, тому межеумочному демисезонному времени – от крестьянских и религиозных войн до войны Тридцатилетней, – которое растянулось почти на сто лет.
Великой живописи за это время создано не было вовсе, религиозные войны и костры инквизиции отменили великую гармоническую живопись; академии перевели изобразительное искусство христианского гуманизма в разряд идеологии и салона. Миссия живописи на этом была завершена – после XVI в. великих художников в Италии уже не будет; а прежде великих художников были десятки, если не сотни.
И вдруг время великой живописи закончилось.
Впрочем, найдутся знатоки искусства, и таких будет немало, которые воспротивятся такой оценке. Эти люди искренне чтут тонкое искусство Крести и Пармиджанино, в изысканности Россо Фьорентино или Якопо Понтормо они видят не меньше смысла, чем в жестких линиях Мантеньи, и как же доказать, чем сладость форм Бронзино принципиально хуже (вторичнее?) мягких форм Боттичелли. И в том, и в другом случае изображен нежный женский силуэт, тягучая линия скользит вдоль форм – чем же сладость Бронзино хуже боттичеллиевской? Что, если это просто неизбежное течение одного и того же стиля, усложнение и обогащение форм. Больше золота и украшений – да, но ведь и мастера Высокого Возрождения не чурались украшений. Четкой границы нет – и, возможно, маньеризм не есть противоположность Ренессансу. Подобная точка зрения существует, и причем эта точка зрения весьма убедительна. Помимо прочего, мастера того стиля, который мы условно именуем «маньеризм», создали такое обилие картин, статуй, зданий, ювелирных украшений, предметов роскоши, что их количество буквально подавляет ренессансную продукцию. Как же сказать, что художников не стало? Художников стало значительно больше! Отныне не только воля князя (Лоренцо Великолепного или Гонзаго) поддерживает их существование, но обширные королевские дворы – Франциска I, Карла V. Вельможи империи Габсбургов (а империя обширна, охватывает почти всю Европу) делают столько заказов, дают столько рабочих мест, выражаясь современным языком, что ренессансным князьям и не снилось. Если от ван Эйка или Боттичелли, от Мантеньи или Леонардо остались считаные произведения, то поток произведений маньеризма не поддается исчислению. Плавно перетекая в барокко, этот стиль властно завоевал Европу – в известном смысле слился с понятием европейского духа.
Сегодня требуется сделать усилие, чтобы обособить ренессансный стиль мышления от маньеризма, и для того, чтобы показать, чем отличается Якопо Бассано от Джорджоне, придется немало потрудиться. И получится ли доказать? Тинторетто и Тициан, фигуры, которые располагаются между этими двумя мастерами (между Бассано и Джорджоне), своими работами словно размывают границы двух эпох; очевидно, что Ренессанс перетек в иное состояние, состояние это требует осмысления – но как, когда, как быстро это перетекание произошло? Франциск I мечтал перенести Ренессанс в Фонтенбло, в результате возник иной стиль, не похожий на флорентийский Ренессанс – но почему, в какой момент произошла трансформация?
Невозможно огульно отрицать интеллектуальную игру Бронзино и Сальвиати; и, в конце концов, Бронзино работал у того же семейства Медичи, что и мастера Высокого Возрождения, – почему же не считать, что дух Ренессанса плавно движется, совершая восхождение к более утонченной форме? Чем же «Венера, Купидон и сатир» Бронзино (Рим) хуже «Венеры и Марса» Боттичелли? Чуть больше эротизма, чуть больше изысканного кокетства, но это ведь гомеопатические дозы чувственной интонации; стало быть, такая интонация востребована временем.
И это именно так. Вот эта изысканная чувственная интонация, фривольная игра ума, забава, которая как бы остается в пределах интеллектуальной, но переходит в разряд осязаемых удовольствий, востребована новой эпохой. У чувственной интеллектуальной забавы есть заказчик, есть тот, кому требуется именно таким образом осознавать причастие к искусству – через легкую игру ума, через эротику, остающуюся умственной, но будоражащей также и плоть. Этот заказчик – разумеется, не церковь, этот ценитель – уже не гуманист-книгочей, и этот меценат – уже не правитель маленькой республики, покровитель кружка гуманистов. Этот новый заказчик – двор большой империи. Огромный имперский организм (не город-республика, не торговая Ганза, не аббатство) дышит парками и аллеями, омывает себя фонтанами, украшает свои площади колоннадами и статуями, прорастает дворцами, и все это – нескончаемый праздник власти. Те нимфы, что появились в полотнах Ренессанса, теперь нужны не в единственном числе – но батальонами; тритоны нужны в эпических количествах; но главное, что требуется, – это легкость, искупающая грандиозную тяжесть масштаба. Не трактат о нравственной ответственности перед Богом необходим – и как же такой трактат, обращенный от одного к одному, использовать на просторах парков и колоннад? – но элегантное сочинение, сохраняющее живость мысли, но не обременяющее моралью.
Возникает стиль мышления и та эстетика, которая куда жизнеспособнее эстетики Ренессанса – оттого протяженность данной эстетики значительно дольше.
Собственно говоря, то, что мы именуем «маньеризмом», есть стиль перехода от республиканского мышления к имперскому. И это отнюдь не маньеризм является переходом, демисезонным периодом между большими стилями Возрождением и барокко, но напротив, Возрождение есть короткая вспышка, мгновение, мелькнувшее меж долгими периодами имперского стиля. Маньеризм властен и тягуч, в сущности, барокко и рококо продолжают его эстетику, это варианты большого имперского стиля.
Якоб Буркхардт ограничивал маньеризм рамками Италии и временем 1530–1580 гг.; Макс Дворжак революционно пересмотрел вопрос и назвал маньеризм интернациональным явлением, вне исторических границ. По Дворжаку, любое художественное явление, подчиняющее свои формы изящному капризу, использующее гротеск и экспрессию, можно отнести к маньеризму. Хаузер расширил понимание маньеризма до того, что распространил явление и на XX в., вообще придал понятию экзистенциальные черты. По Хаузеру, маньеризм – это субъективизм, выражающий себя через каприз в противовес нормативной эстетике.
Но если маньеризм – это субъективизм, то субъективизм имперского сознания, которое не желает знать и не признает никакой «нормативной» эстетики; да и что по отношению к имперскому величию может осмелиться претендовать на «норму»? Субъективизм имперской игры ума отныне сам становится нормой, как нормой становится каприз моды или элегантность пустого жеста. Маньеризм (если стиль понимать широко и вне временных и исторических границ) присущ всякой эпохе при переходе от республиканской утопии к реальности царства и империи. В момент этого перехода то простое и строгое, что соответствовало понятию прекрасного в республике, прекрасным и красивым быть перестает; отныне прекрасно сложное, витиеватое, слегка манерное – но зачем употреблять слово «манерное», если можно сказать «этикет»? Есть этикет отношений, иерархия морали, сложность государственной нравственности – и простой формой это не выразить.
Стиль эллинизм, отсчитывающий свое существование от империи Александра, – это античный маньеризм, изысканный и избыточно красивый. Республиканский авангард, возникший в начале XX в. в Европе, стремительно мимикрировал в авангардный маньеризм, когда республики стали империями. Эта трансформация авангарда случилась до того, как появился имперский ампир – сталинский, гитлеровский, муссолиниевский. Авангардный маньеризм возник уже в поздние 20-е гг. – вместе с изысканными костюмами прозодежды и театральными постановками в супрематических костюмах, вместе с изменением европейского кубизма – от радикальных форм к салонным.