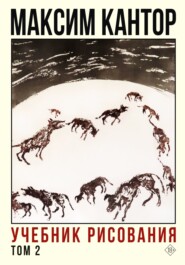По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чертополох и терн. Возрождение Возрождения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так рассуждали и художники Ренессанса, создавшие перспективу. Но вот потребовался большой стиль империй (барокко), нужно приготовить мир к Тридцатилетней войне и дворцовым декорациям – и в те величественные времена интерес к человеку ослаб и выветрился. Для огромных планов и гигантских аппетитов такая мелочь, как человек и его перспективы, не столь и важна. Караваджо сделал первый шаг на этом, столь востребованном, пути. Он создал величественный стиль, убедительный и универсальный.
Роскошный, как всякая великая идеология, и пошлый, как всякая бессердечность.
Глава 20. Питер-Пауль Рубенс
1
Для рассуждения необходимо наличие описываемого объекта и субъекта рассуждения; но со времени Галилея существует критерий объективности суждения, основанный на фактической стороне дела. В силу того, что фактография есть величина переменная, объективность суждения порой страдает, и тогда сам субъект становится объектом критического мышления; более того, предметом анализа становится наше сознание, определяющее нечто как объект суждения. В философском рассуждении субъект и объект постоянно меняются местами, это условие мышления, во всяком случае, диалектического мышления.
Живопись как одна из ипостасей философии занимается рефлексией: художник анализирует не только объект, но свое суждение касательно объекта; именно суждение и становится предметом искусства, а вовсе не изображенный предмет.
Современная историография не имеет устойчивого мнения касательно причин Первой мировой войны или характера Октябрьской революции – притом что имеется много документов. Война готовилась всем ходом истории, революция стала следствием накопившихся противоречий, но определить виноватого в войне или двигательную силу революции затруднительно. Литература и живопись, повествующие о тех временах, редко являются доказательством исторической истины, но говорят о субъектах, выносящих суждение. В еще меньшей степени возможно судить далекую Тридцатилетнюю войну. Война изменила облик Европы радикально; после Вестфальского мира 1648 г. возникли национальные государства, и с тех пор (даже будучи оспорены Наполеоном, революциями и войнами) принципы Вестфальского договора лежат в основе европейского сознания. Этот договор возник как результат общеевропейской войны, смешавшей государственные, классовые, религиозные и национальные резоны – в одно; потребовалось заново разграничить и определить основные статуты. Очевидно, что противоречия, которые сделали войну всех со всеми неизбежной, стали предметом размышления художников. И если сегодня трудно найти правых и виноватых, то можно анализировать сознание тех мастеров, кто анализировал войну, – встав в ту анфиладу комнат сознания, которую нарисовал Веласкес в «Менинах».
Рубенс никогда не изображал Тридцатилетнюю войну, притом что обожал рисовать доспехи, мышцы и кровь. Он любил изображать насилие: не просто борьбу, но жестокость – вырванный язык у святого Ливина, ослепление Самсона (Нико ван Хут в разделе «Насилие» в монографии «Рубенс и его наследство» рассматривает вопрос подробно). Работал фламандец стремительно, к его услугам – подмастерья, он нарисовал несколько битв («греков с амазонками», например), но про современную ему войну ни единого холста.
Рубенс копировал «Битву при Ангиари» Леонардо да Винчи (рисунок сангиной в Лувре), герои его холстов – могучие мужчины, приспособленные к ратному делу. Но Тридцатилетнюю войну не нарисовал. Рембрандт тоже не рисовал эту войну – но он был принципиальный домосед. Рубенс же был дипломатом, выполнял секретные поручения испанской короны и одновременно служил англичанам и французам; являлся двойным и даже тройным агентом, получал деньги со всех сторон. Считал дипломатию связанной с живописью дисциплиной, подобно тому как Леонардо – инженерные работы, а Микеланджело – архитектуру. Испанский полководец Амброзио Спинола утверждал, что, помимо живописи, у Рубенса есть и другие, куда более важные, заслуги. Фраза в устах генерала-триумфатора много значит. Кто может рассказать о той войне лучше Рубенса?
Жак Калло гравировал осаду Ла-Рошели Людовиком XIII, Веласкес написал сдачу Бреды, Сурбаран посвятил картину обороне Кадиса, но где холсты Рубенса? Армия Валленштейна заставила трепетать пол-Европы, резня Магдебурга заставила забыть о Варфоломеевской ночи, Ришелье заставил попятиться самого Оливареса; и Рубенс в гуще событий. В одном из писем художник написал, что в преддверье большой войны беспокоится лишь «о сохранности своих колец и своей персоны».
И, едва успев удивиться тому, что Рубенс не писал Тридцатилетнюю войну, понимаешь: Питер-Пауль Рубенс писал Тридцатилетнюю войну непрерывно, он изобразил европейскую мясорубку в подробностях.
Сделал это так продуманно, как никто иной.
Рубенс написал около тридцати огромных картин, изображающих охоты.
Рубенсовские сцены охоты – без преувеличения – это батальные полотна, причем такого размера, такого пафоса, что вряд ли какая-либо из панорам XX в. сравнится с этим высказыванием. Батальные сцены, написанные в традиции ренессансных описаний сражений (например, Веронезе, «Битва при Лепанто»), Рубенс населил экзотическими зверями. Никто и никогда не писал сцен охоты на шестиметровых холстах, никто не изображал неистовую битву с крокодилом и гиппопотамом, с медведем и кабаном, от которой захватывает дух – кажется, что изображена финальная битва человечества, Армагеддон.
«Калидонская охота» – 1612 г., затем «Охота на кабана» и «Охота на льва» 1615 г., затем «Охота на тигра», «Охота на волков и лисиц», «Охота на крокодила и гиппопотама»; когда в военные действия вмешивается и Россия (1632–1634, воевода Шеин под Смоленском), появляется картина «Охота на медведя» (1639), и так далее, и так далее.
Формально полотна создавались для охотничьих павильонов, и, разумеется, азартные инстинкты охоты сопутствуют войне, почему бы правителям не разогревать кровь охотой. Но данные картины относятся к войне непосредственно: подобно тому, как в популярных иллюстрированных политических картах всякую страну изображают в виде животного, так и Рубенс составил политическую зоологию. На картах всякую страну отождествляют с определенным животным, вписывая силуэт зверя в границы: Британия – лев, Россия – медведь и т. п. Рубенс делает то же самое. Богемию и Чехию олицетворяют волки и лисицы, Священную империю представляет лев, Германия – кабан, а крокодил и гиппопотам – африканские страны. Разумеется, сцены охоты – абсолютная фантазия: Рубенс никогда не принимал участия даже в охоте на лис, не говоря об экзотических путешествиях за крокодилами и львами. Делакруа, следуя фантазиям своего кумира (процесс ежедневного копирования рубенсовских холстов Делакруа называл «утренней молитвой»), отправился в Марокко, чтобы рисовать хищников с натуры, но Рубенс опыта охотника не имеет. Для Рубенса охоты – метафоры военных действий, экзотические постановки в пышных декорациях.
Делакруа выделял из прочих «Охоту на гиппопотама» («самым неистовым» называет он этот холст в своих дневниках), и его собственные картины со львами и тиграми – повод изобразить неуправляемые стихии. Для Делакруа и его учителя Рубенса субстанция живописи была именно стихией, столь властной, что значение вихря, который крутит предмет, заставляет забыть о предмете. Не лев и не охотник важны – но субстанция насилия. Охота, кораблекрушение и даже Распятие – это повод смешать краски, как страсти, поддаться опьянению бурей. Любование кровью, возможно, не вполне приличное, когда речь идет о смертоубийстве себе подобных, кажется оправданным в сценах охоты. Едва ли к кому-нибудь из участников боя со львами (трудно удержаться от того, чтобы не употребить вместо «боя» слово «резня» и не вспомнить «Резню на острове Хиос») испытываешь сострадание. Редкий посетитель музея в состоянии поставить себя на место охотника на крокодилов; сцена будоражит кровь, но нас не касается – как просмотр новостей о войне в Сирии. Легко заметить, что звери Рубенса (и Делакруа, соответственно) почти геральдические; львы замирают в позах, какие возможны на рыцарских щитах. Интересно и то, что в многофигурных «Охотах» с несовместимыми по ареалу обитания животными (например, «Охота на тигров, львов и леопардов» Рубенса) хищники, которые никогда не смогли бы сражаться вместе против людей, составляют своего рода фланги сражения, равномерно распределяя внимание зрителя. Перед нами всегда сложная конструкция распределения сил, своего рода проекция общества, в котором несовместимые начала (несовместимости представлены львами, тиграми, леопардами или крокодилами, бегемотами, жирафами) играют роль пилястров, поддерживающих колеблющуюся массу. По остроумному замечанию Титуса Буркхардта, дерущиеся львы (ученый-мистик описывал рельеф собора) символизируют равновесие стихий в природе; соблазнительно применить эту логику к «Охотам» Рубенса. Мастер создавал конструкции из переплетенных тел – это своего рода общественное строительство, использующее столкновения масс для создания равновесия. Строительство, использующее противоположности ради баланса общего здания, – это и есть война. Война, которая, по видимости, разметала Европу, одновременно выстраивала христианскую цивилизацию заново, и Рубенс участвовал в строительстве. Равномерная центробежная тяга (художник равномерно распределяет силы противников) удерживает политическую доктрину от развала: смятение – внешнее; внутренние связи работают. Зритель наблюдает за охотой на разнообразных зверей хладнокровно, как наблюдает за резней племен в Европе: в кровавой резне прозревает грядущие выгоды.
«Охоты» Рубенса есть прямое продолжение бестиария Босха. Бегемот выдуман Рубенсом так же, как фантастическое чудище Босхом; «Охота на крокодила» – это столь же фантастический сюжет, как сад Босха, по которому бродят рептилии с крыльями бабочек и хвостами скорпионов. Звери Рубенса и чудища Босха родственны химерам и горгульям средневековых соборов. И Босх, и Рубенс – наследники готической скульптуры; оба – продолжатели дела аббата Сюжера, представители эстетики, что была осуждена Бернаром Клервоским. Как правило, из наследия святого Бернара выбирают одну и ту же цитату из «Апологии к Гвиллельму, аббату монастыря Святого Теодорика», осуждающую соборную скульптуру; уместно привести ее и здесь.
«Но для чего же в монастырях, перед взорами читающих братьев, эта смехотворная диковинность, эти странно-безобразные образы, эти образы безобразного? К чему тут грязные обезьяны? К чему дикие львы? К чему чудовищные кентавры? К чему полулюди? К чему пятнистые тигры? К чему воины в поединке разящие? К чему охотники трубящие? (…) Столь велика, в конце концов, столь удивительна повсюду пестрота самых различных образов, что люди предпочтут читать по мрамору, чем по книге, и целый день разглядывать их, поражаясь, а не размышлять о Законе Божьем, поучаясь». И впрямь, разглядывание «Охот» Рубенса расскажет едва ли не больше о природе Тридцатилетней войны, чем чтение «Тридцатилетней войны» Шиллера. Так, глядя на мистические «сады наслаждений» Босха, мы считываем в чудищах социальные характеристики. Рубенс, который фактически пребывал во всех лагерях сразу и представлял одновременно и Испанию, и Англию, и Францию, не высказал ни единого утверждения, которое могло бы задеть хоть одну из воюющих сторон; неизвестно, кому мастер симпатизирует: охотнику, бегемоту или крокодилу. Тридцатилетняя война – прообраз Первой мировой: каждый отстаивал свой интерес; выбрать правого невозможно. Рубенс увидел в войне сцену охоты именно в силу того, что затевалась мировая бойня от праздности, подобно охоте.
Зоологическая метафора политических сил Европы возникла вследствие восприятия истории как театра; это общее настроение тех лет. Речевой оборот «театр военных действий» не противоречит выражению «весь мир театр, и люди в нем актеры». Фламандский живописец, считая себя наследником Микеланджело, данное соображение почерпнул не у Шекспира: Рубенс искренне считал, что Микеланджело поставил гигантский дивертисмент, иллюстрируя страсти Италии. Титанов Микеланджело, как правило, соотносят с грандиозными амбициями Ренессанса, но планы монархов, современных Рубенсу, несравнимы с планами Лоренцо Великолепного – много значительней и грандиозней. Фламандский мастер видел свою миссию не в том, чтобы продолжить работу Микеланджело, но в том, чтобы укрупнить масштаб деятельности флорентийца: проектировал не просто купол собора, расписывал не просто потолок капеллы – он строил и проектировал облик мира. Это ни в малой степени не преувеличение. Титаническая деятельность Рубенса одновременно охватывает все плацдармы: Англию, Францию, Испанию, Нидерланды. Картины мастера иллюстрируют его политику или политика возникает из картин, сказать невозможно: это единый продукт общеевропейского значения. Движения грандиозных армий, колоссальные флотилии, масштабный передел карты – Микеланджело подобного не испытал. В некий момент (условно обозначим время 1622–1630 гг.) в образах Рубенса думал весь воюющий мир; его картины висели во дворцах всех правительств и монархов; если у Тридцатилетней войны был свой собственный язык, то это язык Рубенса.
Вихрь Рубенса в отличие от неистовства Сутина или ван Гога – субстанция, ограниченная расчетом. Сутин мечет краску на холст, как безумный; Рубенс хладнокровен. Хладнокровие художника передается зрителю. Не только эпизоды охоты не пугают, но и сцены любви, написанные Рубенсом, – пышные формы и откровенные позы – не возбуждают так, как фривольные холсты Буше. Рассудочную бурю чувств на холстах фламандца Бодлер описал как «безлюбое сплетение тел». Битва без ненависти, совокупление без страсти, волнение без неистовства – стоит добавить к этому перечню «историю без горя» и «войну без противника». Сложилось так, что и Делакруа вслед за Рубенсом стал откликаться на драмы своего века изображением охот. Революцию 1830 г. парижский художник еще описывал буквально («Свобода, ведущая народ», 1830), но, когда дошло до серьезных событий в 1848 г., Делакруа уехал в свой дом в Шанрозе и писал цветочные натюрморты.
Как ни странно, при взгляде на мятущиеся тела и напряженные мышцы фламандского живописца слово «трагедия» (обычно понятие «героизм» в искусстве связано с переживанием трагического) на ум не приходит. Панофский высокомерно отозвался о картинах Рубенса: «это всего лишь живопись и не более». Микеланджело – очевидным образом трагический художник, хотя крови в его произведениях не изображено. А вот у Рубенса нарисованы потоки крови, при этом трагедии нет. Возможно, это связано с тем, что театр военных действий Тридцатилетней войны героя не знает. В истребительной войне без героя особенность передела Европы. Легко выделить героя в религиозной войне, фанатичного верующего – им может быть и адмирал Колиньи, и Агриппа д’Обинье, да и герцог де Гиз, неукротимый вождь католической лиги, по-своему принципиален; героями являются предводители религиозных сект, наподобие Томаса Мюнцера; героями становятся вожаки крестьянских бунтов (немало таких знает Фландрия); несомненными героями являются гуманисты, причем не только книжники, но также те, кто, наподобие Тильмана Рименшнейдера, Йорга Ратгеба или Ульриха фон Гуттена, примкнули к тому или иному движению, осознав их справедливость. Прямо или опосредованно, как в картине «Проповедь Иоанна Крестителя» Брейгеля, такие люди становятся героями картин: они отстаивают убеждения. Но какие убеждения отстаивает генерал Паппенгейм или герцог Оливарес? Резня Тридцатилетней войны показала десятки властных полководцев, но не представила героя. Война ради капиталов, рынков и границ, война, которую вели безнравственные политики, и ни один из них не мог сказать, что сражается за справедливость или Отечество, не породила героического искусства. Художников, готовых писать батальные полотна, было в избытке. Галерея замка принца Конде в Шантийи расписана фресками, знаменующими его победы, а Зал королев в Эскориале украшен сценами испанских триумфов – картины льстивы и лживы. Леонардо рисовал Битву при Ангиари по праву гражданина республики, искренне полагавшего, что в бою с миланскими Висконти Флоренция отстояла свободу. Но какого героя Тридцатилетней войны мог написать Рубенс – помимо бегемота и крокодила? Европейская резня предстала гигантским театром, в котором принять какую-либо сторону нельзя, но можно наблюдать из ложи за развитием сюжета. Потребуется двести лет, чтобы образ Наполеона на Аркольском мосту, генерала, защищающего революцию, или образ инсургента, стоящего под расстрелом оккупантов, или образ женщины на баррикаде восстания против тирании не выглядел фальшиво.
Противоречие, заложенное в искусстве Рубенса (поскольку он – символическая фигура, это противоречие всего имперского искусства), состоит в том, что живопись, по всем параметрам «героическая», героя не знает. Холсты затеяны ради масштабной задачи изменения карты мира, призваны создавать героев; однако изображенные мужчины – атлеты, спортсмены, бражники, любовники – не герои. То, чем они заняты, не связано с их убеждением, а потому напряжение мышц остается в разряде спортивных рекордов.
Искусство XX в. обозначило поколение, пережившее Первую мировую бесцельную войну, как потерянное; определение относится к межвоенному промежутку 1920–1936 гг. Авторы тех лет описывали бывших солдат, пребывавших в эйфории: уцелевшие в бойне, они спешат жить в самом плотском, осязаемом смысле, но при этом пребывают в растерянности – а что дальше? «Потерянное поколение», если следовать характеристикам Ремарка и Олдингтона, состоит из людей, наслаждающихся бренной жизнью, поскольку осознали ее быстротечность, существование бурное и бессмысленное. Именно таких людей и описывал Рубенс; колоссальное напряжение мышц не приводит к свершениям; Рубенс описывает потерянное поколение XVII в., поколение бывших титанов Ренессанса, включенных в театр военных действий Нового времени. Потерянное поколение в таком понимании шире, нежели описание социального феномена XX в.; это, скорее, описание того, что происходит при крушении Ренессанса, когда идеализм оборачивается диктатурой расчета и войны.
Не просто измельчание характеров – речь о другом. Персонажи на первый взгляд не поменялись: по-прежнему на картинах действуют Персей и Андромеда, святой Себастьян и святой Георгий – все, как и прежде. Ссылки на Евангелие, на Апокалипсис и греческий миф присутствуют, как и в XV в. Но это – отражение Ренессанса, это зеркало идеальных концепций. Пространство зеркал эпохи барокко (та самая анфилада отражений, которую изобразил Веласкес) в первую очередь отражает искусство кватроченто, но видимость никак не соответствует реальности. Никакой социальной утопии, задуманной на основании изучения древних и нового прочтения Писания, уже не планируется; все давно в руках прагматичных чиновников; речь идет о рынках сбыта и количестве штыков, не о построении идеального государства. Интонации и тембр голоса сохранились от риторики былых времен, но толпы атлетов на холстах не живут собственной жизнью – это статисты большой постановки. Потерянное поколение XVII в., воспетое Рубенсом, столь же обаятельно, как персонажи Ремарка, и так же обреченно. Герой Рубенса – фламандец, который некогда бунтовал против герцогов бургундских, а потом против Габсбургов; сейчас он просто спортсмен.
Олдингтон назвал свой роман «Смерть героя», имея в виду то, что образ человека, воспитанного Просвещением, убит реальностью XX в.; но в XVII в. именно так убили образ человека Ренессанса, расправились с представлениями о гармонии физической красоты и социальной справедливости. И тогда – совершенно как в XX в., и точно так же, как сейчас, – художники опешили: как же так, ведь говорили, что человек есть мера всех вещей? Нет, ошиблись.
2
Чтобы подчеркнуть буквальную связь «Охот» с темой войны, достаточно рассмотреть картину «Смерть консула Деция» (1617, Прадо). Рубенс в точности воспроизвел композицию собственных охот, но вместо экзотических зверей изобразил эпизод римской истории, описанный Ливием: консул бросается в гущу боя, жертвуя собой. Рубенс не имел в виду конкретные боевые действия современной ему Европы, но прикоснулся к гражданственной тематике: жертва во имя победы. Любопытно, что эта картина, столь же информативная, как и «Охота на гиппопотама», вдохновила спустя некоторое время Гойю на создание полотна «Восстание 2 мая 1808 г. в Мадриде», в котором Гойя нарисовал мадридское восстание: испанские инсургенты бросаются с ножами на французских мамлюков. Мертвые тела на первом плане картины Рубенса едва ли не скопированы Делакруа в «Резне на острове Хиос», но сам холст Рубенса – лишь очередная охота. Существует также серия небольших картин, посвященных Троянской войне: «Гнев Ахиллеса», «Нестор возвращает Брисеиду к Ахиллесу от Агамемнона» и т. п., – при желании можно трактовать их как иносказание, увидеть здесь повесть о полководце Валленштейне, тот, подобно Пелиду, то устранялся от военных действий, то становился главным действующим лицом, то был предан – это, разумеется, фантазия. Рубенс связан с войной, но иначе. В технике живописи Рубенса, в его мастерстве высочайшего класса есть сходство с профессионализмом военного. Иногда кажется, что Рубенсу нет нужды изображать военные действия потому, что он сам – огромная армия. Словно в движении гигантской армии – с обозом, штабом, кавалерией, барабанщиками и маркитантками – в его искусстве присутствует все; есть незначительное место даже для христианского милосердия, но в целом это стихия, не имеющая иных определений, кроме как вызванных собственным бытием.
Характерная техника Рубенса: от лихого рисунка к виртуозному этюду, затем к первой картине небольшого формата, от нее к гигантскому полотну – отработанная многократно, ускоренная и размноженная учениками, эта техника напоминает тактику большого сражения: разведка, затем быстрый рейд на передовые врага, затем авангардный бой, и затем вступает в дело артиллерия. Рубенс воюет на несколько фронтов: параллельно занят с десятком картин, часто мастер лишь завершает начатое подмастерьем; в эскизе он всегда действует только сам, но на большом полотне его рука чувствуется редко. Впрочем, и полководец не участвует в атаке кавалерии, наблюдает в подзорную трубу. Рассказывают, что к данной технике художник пришел вследствие обилия заказов. Тактика Рубенса столь же отлична от методов работы художников Ренессанса, как тактика больших армий Тридцатилетней войны отличается от войн XV в., состоящих в основном из поединков.
Огневая мощь многократно усилилась, патроны носили в сумках за спиной, повысилась скорость стрельбы. Нововведения Густава-Адольфа ограничили (затем убрали вовсе) пикинеров, сделали мушкетеров мобильнее. Армия стала регулярной, увеличилась масса войска, причем не только за счет наемников, но за счет призывов на много лет. Армия стала жить как независимый от государства организм, обеспечивая себя путем регулярного насилия над побежденными. Когда в 1632 г. германский император поручил полководцу Валленштейну набрать 20 тысяч человек, полководец возразил, что 20 тысяч солдат погибнут с голоду, а с 50 тысячами можно выступить в поход: можно налагать контрибуции, осуществлять организованный грабеж. К этому надо добавить, что Валленштейн набирал рекрутов за собственные деньги, князь был богат и возвращал потраченное войной. Регулярные войска изменили принципы строя; муштра готовила солдат в промежутках между сражениями; с наемниками такой практики не было. Битвы доказали, что регулярные порядки одерживают верх над иррегулярными. Энгельс называл Густава-Адольфа великим военным реформатором – он имел в виду механизацию ратного дела, одерживающего верх над феодальным кустарным трудом. Чтобы система работала, дисциплину надо усилить; вводят (впервые) шпицрутены – солдаты бьют солдат; каждый выполняет строго одну функцию; коннице запрещено стрелять на скаку; Густав-Адольф настаивает, чтобы кавалерия действовала только палашами. Стреляют мушкетеры, постоянно перестраиваясь, чтобы сохранять регулярность огня. Это механизация армии, основанная на конвейерном разделении труда. Одновременно проводится тотальная унификация армии во всем. Стандартизируются мундиры. Переход армии от феодального порядка и понятия феодальной дворянской чести к новой армейской дисциплине и чести мундира описал Дюма в эпопее о мушкетерах. Д’Артаньян говорит с новым министром финансов Кольбером именно об этом. «А! Вы изволили спороть серебряные галуны с мундиров швейцарцев, – сказал гасконец. – Похвальная экономия!»
Механизация военной машины, как и механизация искусства, естественное следствие глобального европейского строительства. Гений производительности, Рубенс вынужден отказаться (возможно, ему это в принципе не свойственно) от того, что составляло основу искусства Ренессанса – от выношенного замысла: его творчество спонтанно и механистично. Кажется, что работает гигантский конвейер по производству изящного, сопоставимый по мощи с военной машиной, производящей смерть. Эскизы идут ровным потоком, всегда темпераментные и однообразные. Гигантские полотна, подобно полям сражений, завалены мертвыми телами – жертвы анонимны и не оплаканы; армии некогда сострадать павшим – она катится вперед. Оружие – кисть, наемники – подмастерья, и в стихию живописи Рубенс верит, как солдат верит в стихию боя. Живопись устроит картину сама, и стихия истории сама должна повернуть войну в нужное русло. Рубенс организовал мануфактуру живописи: в антверпенской мастерской работают талантливые подмастерья (одним из них был ван Дейк), чьи обязанности конвейерных рабочих подробно описаны. Рубенс переходил от картины к картине, как генерал к новому плацдарму; в его отсутствие (мастер путешествует по миру постоянно) работа не останавливается: заказы набраны на годы вперед. Метод поточный, унифицирует многие приемы письма, создан живописный эквивалент тиражной графики. Подобно тому, как офортный лист прокатывают под прессом несколько раз, в зависимости от стадий травления доски, так и живописный холст проходит несколько стадий стандартной обработки. От виртуозного рисунка сангиной, который всегда выполнял сам мастер, Рубенс (опять-таки сам) переходил к терракотовым розоватым, почти монохромным эскизам. Небольшие холсты грунтовали для него терракотовым оттенком, и мастер стремительной кистью наносил пробелы и сепией обозначал тени. Затем подмастерья переводили небольшой эскиз в огромный формат и, нагнетая цвета, поднимая цветовое напряжение равномерно по всей огромной плоскости, приходили к полифонии. На этом этапе мастер обычно должен был подхватить работу и закончить своей виртуозной рукой – он так и делал, во всяком случае, в некоторых, особенно важных фрагментах холста. Создается впечатление, будто от первого наброска до финальных мазков на большом полотне автора несет живописный поток; это эффект отлаженной работы мануфактуры. Метод превосходен, но имеются естественные при поточном методе огрехи – однообразная палитра, повторяющиеся из холста в холст цвета и даже сочетания цветов. Поскольку живопись стала своего рода эквивалентом печатной графики, то, как и в печатной графике, цвет тиражируется. Это для массовой печати нормально, для живописного холста непривычно; в дальнейшем (в случае Энди Уорхолла и т. п.) это станет нормой. Шаг от маленького эскиза к гигантскому холсту (эскиз «Встреча Авраама и Мелхиседека», 65?68 см, а картина, последовавшая за эскизом, 4,5?5,7 м) поражает; но так происходит и в политике – реплика монарха или листок пропагандиста приводит в движение батальоны. Современникам казалось, что рукой Рубенса водит Бог – для автора сугубо плотских композиций это странное предположение. Был ли Питер-Пауль Рубенс гуманистом или хотя бы христианином, сказать непросто. Поточным производством изящного Рубенс уничтожает представление о картине, как о высказанном убеждении; искусство стараниями Рубенса теряет сакральное значение, но приобретает ценность производства – во всех значениях данного понятия.
Живопись прежде была уникальной, многодельной дисциплиной, лишь храмы и короли могли заказать картину. К гравюре протестантская культура повернулась, дабы впустить простое изображение в каждый дом, – но мануфактура Рубенса превратила живопись маслом в такой же поток, как печатная графика. Рубенс перемещается по странам, расширяя рынок, и в некий момент достигает неожиданного по отношению к Ренессансу эффекта – живопись переходит из штучного товара в массовую продукцию; причем Рубенс не скрывает того, что подчас делает картины не сам. Дюрер, разумеется, тоже не сам режет гравюры: существуют специальные мастера-резчики, это отдельная специальность – но резчики воспроизводят линии рисунка. Рубенс создает принципиально иное производство: ему надо обеспечить своей продукцией огромное количество клиентов. Подмастерья антверпенской мастерской имеют возможность (или обязанность) писать целые фрагменты картины «от себя», подчиняясь стилю, утвержденному мастером. Эффект «массовой продукции» в чем-то напоминает эффект эпидемии – Рубенса желают иметь все.
Тем временем в дополнение к резне Европу поражает то, что всегда сопутствует тотальной войне: эпидемии. Банды наемников, дезертиры и беженцы разносят инфекции. На каждого погибшего от оружия приходилось трое умерших от болезней. Наступает голод. Возможно, следует обратить внимание на то, что персонажи картин Рубенса худее не становятся. Рубенс живет в стабильном достатке; сытость мастера передается действующим лицам картин – это упитанные люди. В деятельности мануфактуры Рубенса поражает то, что искусство, воспевающее обильную жизнь, делается широко востребованным в разоренной, пораженной болезнями Европе. Возможно, сказывается желание компенсировать бедствия изображением достатка. Так и в Голландии того времени семьи бюргеров не всякое воскресенье имели тот обед, изображение которого заказывали художнику в знаменитых натюрмортах малых голландцев. Но фламандское, рубенсовское изобилие наглядно демонстрирует разницу между бытом республики и имперским достатком.
В годы жизни Рубенса Фландрия принадлежит испанскому дому Габсбургов, испанской короне. В отличие от Нидерландов, получивших независимость, фламандские земли независимость не обрели – и, выбирая между более промышленно развитой протестантской Голландией и католической Испанией, выбрали Испанию. Рубенс родился в колонизированной стране – Испанских Нидерландах.
Формально учился у незначительного художника – но в учителях числит великих художников Ренессанса, прежде всего, разумеется, Микеланджело, Леонардо и Тициана. Рубенс брал у Микеланджело титанические тела и писал их жаркой тициановской палитрой: объединял стать Флоренции и страсть Венеции – сказалась дипломатическая страсть к компромиссам. Помимо итальянцев, в пейзажах чувствуется влияние Брейгеля-старшего, странно, если бы такового не было.
Важно, что влияние предшественников ограничивается лишь технической стороной. То, что вдохновляет предшественников, Рубенсу чуждо. Микеланджело и Тициан – убежденные республиканцы. Флорентийская республика и статус свободного гражданина настолько значимы для Микеланджело, что он покидает Флоренцию, едва вернулась тирания Медичи; все творчество Микеланджело – это утопия свободной республики; Венецианская республика, самая долговечная и богатая из всех известных республик, славится независимостью, именно это формирует надменный характер Тициана; художник любит роскошь, как многие венецианцы, но воспринимает ее как знак республиканской независимости. Соотечественник Рубенса, Питер Брейгель-старший, отстаивает принцип крестьянской коммуны и сопротивления. Впрочем, уже сын Брейгеля Мужицкого, Ян Брейгель-Бархатный, сотрудничает с Рубенсом в ипостаси колониального художника, приняв логику старшего товарища.
Рубенс примером доказал: колониальный художник может возвыситься в метрополии. Ни твердость Брейгеля, ни гордость Тициана, ни – тем более – независимость Микеланджело его не блазнят. Рубенс обладает исключительно гибким позвоночником. Фламандец пишет портреты правящей Габсбургской династии наряду с Веласкесом, но если для Веласкеса испанские короли естественные сюзерены, то для Рубенса это оккупанты. Возможно, если бы не произошла Нидерландская революция, восстание гезов, и если бы Северные Нидерланды не освободились, так вопрос ставить было бы нельзя. Но восстание Вильгельма Оранского произошло, следствием его стала Восьмидесятилетняя война Испании с Голландией; Голландия свободна ценой большой крови – а Фландрия приняла статус зависимый. Фландрия, страна, прославленная неукротимым нравом населения, родина тех самых мужиков, про которых хронисты писали, что «один фламандский мужик с годендагом стоит трех французских рыцарей», именно эта вольнолюбивая страна, глядя на голландскую войну, смирилась с выгодами жизни в мирной колонии. Некогда, еще во время Великого герцогства Бургундского, мятежный Гент не давал покоя Филиппу Доброму; но против Габсбургов Гент не восстает: преимущество быть колонией во время всеобщей резни осознано всеми. При жизни Рубенса Фландрией формально правили Филипп II до 1598 г., затем его дочь Изабелла Клара Евгения вместе с супругом Альбрехтом VII и, наконец, Филипп IV, король Испании и Португалии, вплоть до самой смерти художника. Рубенс оставил портреты всех своих повелителей. Долгое время художник жил в Мадриде при дворе Габсбургов. Конный портрет Филиппа II (1628, Прадо) – образец сервильной живописи. Правление Филиппа II – время торжества инквизиции, король лично присутствовал на аутодафе; Рубенс изобразил благообразного вельможу с перламутровым лицом. Рубенс писал портреты Изабеллы Клары Евгении, дочери Филиппа II, регулярно на протяжении тридцати пяти лет, первый портрет датирован 1590 г., последний 1625 г., в том числе пишет ее парный портрет вместе с супругом Альбрехтом VII в 1623 г. Изабелла Клара Евгения, штатгальтер Испанских Нидерландов, делает художника своим политическим советником в 1623 г. и посылает его с дипломатической миссией в Гаагу умиротворять северные провинции. Миссия закончилась ничем, но демонстрирует готовность Рубенса к услугам такого рода. Портреты Филиппа IV Рубенс пишет постоянно, причем в 1645 г. создает конный портрет монарха, ничем не отличимый от портрета его дедушки Филиппа II, впрочем, количество ангелов в небесах удвоилось. Разумеется, художник создает портрет и кардинал-инфанта Фердинанда, брата Филиппа IV, который становится штатгальтером Испанских Нидерландов после Изабеллы Клары Евгении. Пишет мастер и эрцгерцога Фердинанда Австрийского, отдавая дань также австрийской ветви Габсбургов; в конце концов, австрийские Габсбурги существенные для фламандца персоны – валлонская Фландрия принадлежит австрийской ветви. Здесь важно отметить то, что все перечисленные портретируемые – фактические властители родины Рубенса. Равно художник посещал и Францию, которой не столь давно принадлежали фламандские земли, отошедшие к ней от герцогства Бургундского и по мадридскому договору переданные в управление австрийскому дому Габсбургов. Рубенс пишет бывших сюзеренов Фландрии, тем паче что Франция продолжает заявлять права на Артуа и повернуться может по-всякому, – мастер создает два портрета Анны Австрийской (например, «Портрет Анны Австрийской», 1621–1625).
Равно Рубенс служил и английскому двору – куда, к Карлу Стюарту, переехал его ученик Антонис ван Дейк; но и сам Рубенс выполняет конный портрет герцога Бэкингема. Выполнить данный портрет тем легче, что Рубенс заранее знает, как он напишет холст. Конный портрет Филиппа II, конный портрет Филиппа IV, конный портрет герцога Бэкингема и конный портрет кардинала-инфанта Фердинанда ничем не отличаются друг от друга; отыскать десять отличий в этих картинах возможно, но не просто. Картины выполнены по одному лекалу, с той же композицией, с тем же разворотом всадника, в небесах зависли те же ангелы, да и колорит картин одинаковый. Рубенс выполняет абсолютно идентичные произведения с равнодушным профессиональным цинизмом. Цинизм усугубляется тем, что Рубенс пишет политических противников: Англия воюет с Испанией – но это не мешает портрету Филиппа IV походить на портрет герцога Бэкингема в каждой детали. Рубенс возведен во дворянство как английской короной, так и испанской, происходят эти радостные события с разницей в один год; получить отличие от обеих воюющих сторон (скажем, одновременно от Черчилля и Гитлера) – поистине верх дипломатического искусства.
Жизнь Рубенса и его отношения с правителями стали примером искренне беспринципного служения короне и до сих пор служат индульгенцией всякому художнику, поставившему кисть на службу рынку и власти. Артистизм оправдывает все; художник Средневековья вряд ли мог публично сознаться в том, что верует в Магомета, и при этом писать христианский алтарь – однако мастер Нового времени считает и религиозные, и гражданские убеждения вторичными по отношению к профессиональному мастерству. Обслуживать правителей страны, колонизировавшей твою собственную страну, – такое нечасто, но встречается среди художников. Скажем, Дерен и Вламинк посещали Германию в то время, когда Франция была оккупирована Третьим рейхом. Рубенс, хотя и воспроизводит пластику Микеланджело и палитру Тициана, обладает отличным от них характером; Тициан и Микеланджело республиканцы, Рубенс – искренний коллаборационист.
В шокирующей беспринципности есть обаяние: Рубенса легко упрекнуть в цинизме, зато невозможно упрекнуть в лицемерии. Он объявляет, что служит сразу всем, это искреннее соглашательство. Невозможно упрекнуть человека в том, что он и не думает скрывать. Рубенс не проповедник, но, кажется, это искупается тем, что он не ханжа. Если бы можно было выдумать художника, во всем полярного Караваджо, это был бы Питер-Пауль Рубенс. Он – анти-Караваджо: не пропагандист, но циник. Во времена Рубенса противостояние гвельфов и гибеллинов уже неактуально, Тридцатилетняя война все смешала; но если рассуждать в тех, уже устаревших, терминах, надо бы обозначить Караваджо как идеолога гвельфов, а Рубенса назвать пропагандистом Священной Римской империи. Но и это было бы неверным заключением, поскольку Рубенс служит любой власти.
Власть своего рода стихия, вероятно, Рубенс переживает то же возбуждение, сталкивая львов с тиграми, какое испытывает, рисуя одновременно Бэкингема и Габсбурга. Вспенить страсти и уравновесить композицию – характерный прием Рубенса; художник любит сталкивать стихии и материалы; обожает сравнивать розовую мягкую плоть и жесткие серые доспехи; сопоставляет мужское загорелое мускулистое тело с рыхлым бледным женским. Столкнув природные начала, мастер находит везде разумный баланс. Так происходит не от того, что художник следует Аристотелевой теории разумной середины; просто в театре рубенсовских масок ничто не имеет окончательной цены, все величины переменные. Он заставляет любую композицию вскипеть, а когда пена опадет, зритель видит, что ничего особенного не случилось.
Релятивизм как условие артистизма – этот лозунг перечеркнул усилия Ренессанса, как реальность Тридцатилетней войны перечеркнула утопии Мора и Рабле. В отличие от ренессансных мастеров, мучившихся в сомнениях, Рубенс не ведает сомнений вовсе; он виртуоз и играет на любую тему. В его картинах есть и нимфы, и сатиры, и тритоны – и одновременно святые, мученики и Богоматерь; Рубенс подменил идею синтеза античности и христианства идеей тотального релятивизма; это не синтез, но грандиозное вселенское соглашательство. Помимо прочего, в качестве универсального пропагандиста он вынужден работать сразу на многих и ни от одного заказа не в силах отказаться. К нему обращается Изабелла Клара Евгения с заказом написать Триумф Евхаристии – сложная работа; иному мастеру Ренессанса потребовалось бы несколько лет – он берется за этот труд; одновременно Мария Медичи выдвигает требование написать двадцать четыре полотна, славящих ее жизнь и время регентства. Двадцать четыре гигантских картины. Рубенс берется и за это. Те объемы работы, что у Микеланджело занимали годы, мастерская Рубенса выполняет, словно играя. Небывалой работоспособностью Рубенс стирает границы между католической, преимущественно живописной, и протестантской, преимущественно графической, культурами. Рубенс доказал, что в пропаганде живопись не уступит графике. Передвижениями по Европе Рубенс стирает границы меж странами – и это во время войны. Говорят, Рубенс доказал, что искусство выше политики. Выше политики искусство или же оно служит политике – в случае Рубенса это не особенно важно: Рубенс изъял из искусства моральную составляющую – слово «служение» утратило всякий смысл. В картине может быть какой угодно сюжет, «Триумф правды» (Рубенс писал и такое) или «Оплакивание Христа», слезы, морщины, жесты будут изображены; искреннего переживания в этих картинах нет и быть не может. Однако есть нечто иное, и это новое качество живописи – обильной, темпераментной, изображающей привычные сюжеты, но с новым триумфальным звучанием – необходимо определить.
В сущности, Рубенс – отец китча. Это слово не следует считать оскорблением; это лишь один из путей развития живописи, утратившей моральный стимул. Если живопись, которая по своей субстанциональной сущности является рефлексией, начинает угождать вкусам власти, она естественным образом превращается в китч; так философ, сделавшись идеологом, теряет гибкость мышления, зато обретает напор. Рубенс не первый, вступивший на этот путь; перевести высокий сюжет в декоративный, угождать вкусам аморального правителя, приспосабливать евангельский или мифологический сюжет под нужды власти – этим занимался и Джулио Романо, и Лоренцо Коста. Но Джулио Романо обслуживал дворы итальянских развратных князей и тешил богатых проказников; его маньеризм не опровергает высоких образцов, не тщится встать вровень с Сикстинской капеллой. Апофеоз рубенсовского китча – это даже не двадцать четыре картины, славящие Марию Медичи, и не «Триумф евхаристии», но агитационное произведение «Обмен принцессами», созданное в 1622–1625 гг. Живопись и прежде выполняла представительские функции, групповые портреты королевских семей призваны увековечить власть данного рода. Джентиле Беллини командировали от Венеции писать потрет султана Махмуда II; хотели польстить. Рубенс поднял агитационную функцию живописи на небывалую высоту. Заказанная Марией Медичи, эта картина (размер 394?295 см), помимо прочих достоинств, является необходимым пособием к изучению Тридцатилетней войны. Картина изображает двух принцесс, предназначенных в жены будущим монархам, испанскому и французскому, – молодая Анна Австрийская, дочь Филиппа III, и Елизавета, дочь Марии Медичи, держатся за руки, символически передавая друг другу свои страны, воплощенные в мифологических юношей. Рослые юноши с развитыми икрами и в доспехах не являются буквальными портретами Людовика XIII и Филиппа IV, но как бы полномочно их представляют. Картина сулит прочный союз стран, «зане любовь должна подобно пальме меж ними цвесть», как пишет Клавдий в письме, пересказанном Гамлетом. Богиня Плодородия осыпает полнотелых девушек золотым дождем, а сонм пухлых амуров в розовых небесах сулит брачные радости.
Поскольку известно, что союз этот мира не принес и Испания, воевавшая в тот момент на два фронта (голландский и английский), вскоре присоединила к ним и третий, французский, можно сказать, что дипломатический ход себя не оправдал. Однако вкупе с «Аллегорией Войны и Мира», врученной в дар Карлу I в 1630 г., и оценивая результаты в целом (на этот раз успех миссии был полным), надо согласиться, что художник думал масштабно.
Мир, олицетворенный фигурой полнотелой обнаженной женщины, кормит бога богатства Плутоса. Пестрое изобилие фруктов символизирует дары Мира. На заднем плане среди туч и всполохов грозы Минерва гонит прочь Марса и фурий. Карл Стюарт (как и прочие почитатели таланта фламандца) был впечатлен той легкостью, с какой Рубенс оперирует всем арсеналом античной и ренессансной культуры. Рубенс в буквальном смысле воплощает все достижения человечества. Разумеется, никакой из художников Ренессанса до таких высот пропагандистской работы не поднимался.
Китч Рубенса – космического размера, это не оплошность, но большой стиль; вероятно, самый большой стиль из созданных европейской цивилизацией. Не христианская иконопись и не мифологическое искусство Рима. Самый властный стиль – это китч, создавший синтетический продукт из разных идеологий для обслуживания вкусов правящей элиты. Этот стиль не отменяет Ренессанс – он незаметно заменяет собой Ренессанс. Сделанный в размер Ренессанса, с пафосом моральной проповеди, с упорством принципиальной позиции, этот продукт подменяет собой искреннее искусство, и в некий момент становится трудно доказать, что отличие существует. В том и особенность китча или идеологии, что они принимают обличие искреннего творчества и философии, оперируют теми же предикатами. Рубенс как Протей – вездесущ и неуловим. Вероятно, наиболее адекватным определением творчества Рубенса будет словосочетание «дух социальной истории». Не «Мировой дух» в гегелевском понимании истории, но то ощущение социальных перемен, которое мы называем «сила вещей».
Сила вещей – то есть право войны, логика капитала, неумолимость времени, погоды и болезни – подчас представляется нам силой истории; можно подумать, что это одно и то же; но это не так. В отличие от силы воли сила вещей лишена направляющей идеи, это не духовная энергия, но пассивная масса. Сила вещей не есть история, это продукт социальной пассивности, наделяющей природу и социальную беду функцией автономного разума. Разумеется, автономного разума в болезни, войне, времени, моде и даже в капитале не существует; такое представление возникает в нашем сознании как продукт безволия большинства. Особенно властна «сила вещей» во время стихийных бедствий и войн, когда способность к выбору (критерий свободы) у общества снижается. Общая масса пассивных убеждений; общая сумма вкусов большинства; общая зависимость от страха – это и есть «сила вещей». Так называемый хороший вкус, или «мода», или «принятая точка зрения», то есть пассивная власть большинства в определении того, что есть благо и красота – это и есть «сила вещей».
Особенность истории в том, что в определенный момент духовные достижения оформляются в предметное тело культуры и определяют социальную жизнь без того, чтобы люди отдавали себе отчет в том, что они используют в повседневности. В тот момент, когда достижение духа уже присвоено цивилизацией, словарь культурных понятий становится пассивной силой вещей, формируя мнение большинства и моду. Искусство Ренессанса, уникальное проявление индивидуальностей, не принадлежит большинству в момент своего возникновения и даже противостоит силе вещей; но тогда, когда Болонская академия употребляет набор ценностей Ренессанса как норматив, культура Ренессанса уже обретает как бы объективную власть над человеком, культурная матрица Ренессанса играет роль погоды или капитала. Философия требует диалога, а не внушения; но сила вещей заставляет принять Ренессанс как норматив. В этот момент, разумеется, эстетика Ренессанса изменяет сама себе.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: