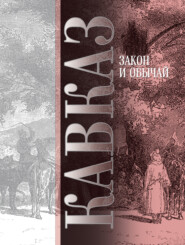По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Закон и обычай на Кавказе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Интерес рода выше интереса отдельных его членов, и благосостояние покойников в загробной жизни, думают они, стоит того, чтобы ему принесены были в жертву и сердечная привязанность, и чувство жалости.
Культ предков, по воззрениям горцев, возможен лишь до тех пор, пока на земле продолжается их род. С прекращением последнего предки остаются без пищи и питья и становятся злыми гениями той местности, которой они некогда были патронами. Отсюда источник доселе держащегося у армян представления, что оставленная по причине полного вымирания рода усадьба есть обиталище нечистых духов[47 - См.: Елиазаров С. А. Исследование по истории учреждений в Закавказье. Т. I. С. 146.].
Этим воззрением, не менее распространенным и среди горцев, объясняется, между прочим, тот факт, что из правила о нераздельном владении не только отдельными родами, но и целым племенем занятой ими земельной площади с самого начала сделано было исключение для усадебной земли. По названной причине земля эта искони составляет у горцев предмет подворного владения. Никто не согласился бы получить в силу передела оставленную семьей усадьбу, из опасения тех бедствий, какие могут наслать на него самого и на его родственников обитающие в ней «домовые».
Если прибавить к сказанному, что у большинства горских племен существует обычай хоронить покойников на принадлежащей двору земле, что хевсуры и тушины, осетины и сванеты имеют свои фамильные усыпальницы, что желание иметь вблизи себя могилы предков нередко выступает у картвельских и иранских народностей Кавказа с такой силой, что, переселяясь на новые места жительства, они переносят с собой и гробницы отцов, то нельзя будет не признать, что в числе причин, содействующих выделению дворовой собственности из племенной и родовой, далеко не последнее место занимает и культ предков. Неотчуждаемость дворовой, или нераздельно-семейной, собственности, вытекающая в большинстве случаев из практической невозможности достигнуть на этот счет полного единогласия всех участников, в некоторых аулах Дагестана принимает характер формального запрещения. Род не терпит поселения в своей среде семей, религиозные и светские интересы которых отличны от его собственных.
Но если культ предков является, таким образом, одним из условий, содействующих удержанию земель в руках их теперешних владельцев, то он же случайно может сделаться источником их отчуждения. Ставя религиозные интересы выше всех других, обычай горцев смотрит на совершение поминок по усопшим как на неотложную обязанность потомства; но эти поминки принимают такие размеры и повторяются так часто, что становятся для отдельных дворов источником их разорения: осетины, сванеты, пшавы затрачивают на их совершение сотни и тысячи рублей, так как на устраиваемые по этому поводу угощения сходятся не только родственники и односельчане, но нередко весь народ; так, например, у сванетов чем больше число лиц, участвующих в поминальном пире, тем больше чести приходится на долю устроившего его двора. Неудивительно после этого, если для устройства поминок двор решается иногда пожертвовать частью принадлежащей ему земли; но прежде чем произвести отчуждение ее в чужие руки, обычай рекомендует предложить ее родственным родам. При покупке ее ими земля не выходит из рода и культ родовых божеств не терпит, таким образом, неизбежного в противном случае сокращения. Право родовой презумпции, то есть предпочтительная покупка родственниками, таким образом, стоит в несравненно более тесной связи с родовым культом, чем та, какую обыкновенно допускают. При отказе родственников дворовая земля может перейти в силу продажи и к чужеродцам, но и в этом случае культ предков дает себя знать в обычае, доселе не вышедшем из употребления во многих местностях Осетии и Грузин. Первым делом покупщика – совершить на приобретенной им земле поминку в честь предков продавца. Он делает это в надежде расположить их в свою пользу и из опасения, что в противном случае они, видя в нем чужеродца и ближайшего виновника того, что совершавшийся в их честь культ отныне будет прекращен, не преминет выместить на нем свою злобу и сделается для него и для его семьи источником всякого рода бедствий.
Культ общих предков является для рода тем связующим началом, какое большинство исследователей родовых отношений тщетно искали в факте происхождения от одного общего родоначальника. Если принять во внимание, что большинство родов развилось из упомянутых у нас выше экзогамических групп, которым было известно одно только родство по матери; если иметь в виду, что путем добровольного присоединения к сильному своей численностью роду других более слабых родов, точно так же, как путем неоднократно повторяющихся случаев усыновления членов чужих родов, чистота крови в пределах рода становится фактически невозможной, то немудрено будет прийти к заключению, что нет основания говорить о кавказском роде, как о продукте естественного размножения семьи.
Теория рода, как результата постепенного разветвления первичной семейной ячейки, состоящей из мужа и жены, теория, на несостоятельность которой указано было мной в моем «Первобытном праве», отнюдь не может быть защищаема на основании кавказского материала. Правда, и на Кавказе, в особенности среди дворянских семей, не раз попадаются генеалогические древа. Пример такого древа представляет, в частности, то древо кабардинских княжеских семей, какое Потоцкий приложил к тексту своего интересного путешествия по горам кавказским; но эти генеалогии редко когда идут далее восьми – десяти поколений назад. Наиболее несомненная из них генеалогия шамхалов Тарковских с большей или меньшей достоверностью восходит лишь до XVI столетия; то же может быть сказано о генеалогии кайтагских уцмиев, кази-кумухских и мехтулинских ханов и султанов елисуйских[48 - Одни только аварские ханы, не имеющие особой генеалогии, в то же время должны быть признаны весьма древними.].Что же касается той генеалогии, на которой настаивают кабардинские княжеские фамилии, то если считать даже бесспорными выставляемые ими притязания, все же приходится отказаться от мысли о ее глубокой древности: между временем более или менее мифического родоначальника кабардинских князей Инала и временем Петра Великого насчитывают всего навсего шесть поколений[49 - Родословное древо шамхалов Тарковских отпечатано в 1-м томе Сборника сведений о кавказских горцах; родословная кабардинских князей помещена у П. Палласа на 428 с. его Voyages de M. P. S. Pallas, en diffеrentes provinces de l’empire de Russie, et dans l’Asie septentrionale. Дюбуа де Монцере в грузинских летописях находит указание на то, что родоначальник кабардинских князей Инал жил в начале XVI века.].
О баснословности и недавнем происхождении осетинских генеалогий я не стану распространяться после того, что сказано мной на этот счет в «Современном обычае и древнем законе». Генеалогии горских таубиев и дигорских Бадилят начинаются всего-навсего с XVI века.
К числу древнейших фамилий на Кавказе, если верить легендам, надо отнести и те, которые дали свое имя некоторым аулам Веденского наибства; так, например, заселяющая аул Эрсено считает уже восемнадцать поколений; та же, которая занимает аул Элистанжи – одиннадцать. В Даргинском наибстве также можно указать на аулы, как Белгатой, основание которого занимающим его родом отнесено за шестнадцать поколений до нашего времени. Если признать даже историческое значение за этими легендами, чего, разумеется, они нимало не заслуживают, то все же получится относительная только древность в тысячу лет, не более.
Сванетские сказания о Дадешкелианах относят возникновение их рода к сравнительно недавней эпохи отделения Мингрелии от Грузии.
Передаваемые Худадовым легенды о происхождении хевсурских родов не возводят их происхождение далее, как к XVII столетию (времена жестокого эристава Зурава). Ингуши и чеченцы, не имея князей, обходятся по этой причине без генеалогий.
Таким образом, мы вправе сказать, что кавказские генеалогии ничего не говорят нам о первоначальном происхождении родов и, следовательно, совершенно могут быть оставлены в стороне при решении этого вопроса.
Гораздо большее значение для его решения имеют ходячие в среде горцев сказания о великанах, или нартах. Сказания эти рисуют нам ряд выдающихся личностей, к которым со всех сторон стекаются и родственники, и чужеродцы, с тем, чтобы под их предводительством совершать удачные набеги на соседей. Любопытную черту этих сказаний составляет то обстоятельство, что в них обыкновенно упоминается не об отцах, а о матерях и сестрах воспеваемых героев, так, например, в чеченских сказаниях, когда заходит речь о шестидесяти орхустейцах[50 - См.: Из чеченских сказаний // Сборник сведений о кавказских горцах. 1871. Т. V. С. 38.], прямо говорится о том, что они произошли от шестидесяти различных матерей. О любимейших героях осетинских и кабардинских сказаний – о Сосрыко, Хамыце и Урызмаге – ни разу не упоминается, как о деле такого-то лица. Имя же их общей матери, Сатаны, приводится на каждом шагу. О значении, какое нартские сказания придают отношениям брата и сестры, можно судить по тому, что в своих препирательствах те же Хамыц, Сосрыко и Урызмаг не раз прибегают к посредничеству сестры[51 - См.: Осетинские народные сказания // там же. С. 15.].
Под предводительством Насран-жаке сражалось немало богатырей: Эй, Имыс, Сосыш, Жинду-жаке, Аракшау, Озершег, Ашов, сын Ашамаз, Хымышев, сын Батыраз, Сибильши, Альбеков, сын Потеран. Сказание ни разу не говорит нам о том, чтобы названные лица состояли между собой в родстве, наоборот, мы часто встречаем упоминания о том, что в богатырских наездах равно участвуют родственники и неродственники. Насран-жаке привозят откормленных баранов и доносят о том, что плохо охраняется и на что с удобством может быть сделан набег. Насран-жаке собирает нартов из соседних и дальних аулов, не исключая и тех, которые расположены на Кубани, и во главе отряда отправляется в такие далекие разъезды, как, например, в пространные степи по Идылю, то есть Волге[52 - См.: Из кабардинских сказаний о нартах // там же. С. 53, 64, 65.].
Очень характерно также отношение названных героев к встречающимся им во время их разъездов (балц) женщинам. Временное сожитие с ними представляется делом обычным: предложение чужой жене войти в любовную связь с гостем повторяется неоднократно. Но жен своих нарты, за исключением одного, впрочем, Урызмага, постоянно берут из чужих обществ, причем отказ в невесте признается обидой для «всего нартского аула», жители которого, как бы заявляя свои права на будущую жену их собрата, жалуются, что «девица за них замуж не хочет»[53 - Сын Сафа не считает обидой передать жене Урызмага предложение быть его любовницей (см. там же. С. 50 и 51), а жена другого витязя, Уастверджи, открыто заявляет тому же Урызмагу, что она сойдется с ним, если только муж ее приедет к ней ночью (с. 59). Еще более характерно то, что сам Урызмаг считает возможным снова сойтись со своей вероломной женой, узнавши о характере сделанного ей любовником подарка.].
Вот в этой-то обстановке, представляющей все черты переходной эпохи от матриархата к патриархату, и развивается деятельность этих первых «собирателей если не земли, то людей». Со всех сторон стекаются к ним без разбора родственники и чужеродцы, не только с целью совершать под их начальством случайные набеги на соседей, но и для того чтобы образовать из себя постоянные союзы взаимной обороны, союзы, охотно переходящие от самозащиты к нападению. Осетинские сказания, записанные Миллером, не раз упоминают о нартских дружинах и решениях, принимаемых ими соборне – на народных сходках, или «нихасах». Их наезды (балц) нередко происходят под предводительством какого-нибудь выдающегося вождя, на которого указывает не только возраст, но и сложившаяся о нем молва. В кабардинских сказаниях начальником нартских дружин обыкновенно является Насран-жаке – «золотобородый». В осетинских – то Софон, то Урызмаг или его сын Батраз.
Общее представление, какое выносишь о деятельности этих народных героев в деле объединения разрозненных элементов общества, довольно близко к тому, какое получаешь при изучении порядка возникновения родов Раджпутов или кланов Шотландии. Вокруг смелого витязя собирается пестрая по своему составу меньшая дружина. С ней он производит свои набеги: уводит у соседей стада овец и табуны лошадей, похищает издалека и вблизи девушек чужих материнских родов; с ней же он пирует в те редкие промежутки времени, которые собранная им дружина проводит в мире и спокойствии. Ожидание ежечасного возмездия не позволяет ему распустить своих товарищей, почему его дружина и переходит постепенно в постоянное сообщество, всегда готовое сняться с места и идти войной на общего врага. Чем больше растет слава о его подвигах и доблести, тем большее число лиц спешит стать под его начальство. Собравшаяся вокруг него толпа не представляет собой ничего однородного; ее связывают воедино только общность опасностей и врагов, общее доверие и нередко привязанность к руководителю или вождю. Но наступает время, когда этот вождь сходит со сцены, потому ли, что падет с честью на поле брани или становится жертвой со всех сторон стерегущих его злых гениев, которым рано или поздно удается положить предел его земному существованию. Память о его подвигах вскоре делает из него предмет общего почитания. Он становится центром особого культа, в котором главную роль играют устраиваемые в его честь поминки, сопровождаемые неоднократным ходатайством о его невидимом заступничестве в переживаемых его прежними сподвижниками затруднениях. Значение, какое в их глазах имел умерший, – причина тому, что должность вождя обыкновенно переходит к тому, на кого пал выбор покойника, а им всего чаще является его ближайший родственник. Так как вражда, созданная прежними войнами и набегами, не прекращается вместе с ним, так как она всего чаще переходит по наследству от предков к потомкам, то в интересах совместной обороны бывшие сподвижники умершего героя сохраняют между собой прежнее единение и продолжают совместно свою борьбу за существование. Во втором или третьем поколении еще держится память о ближайших причинах, поведших к образованию группы, но в дальнейших уже начинает слагаться легенда о соединяющем ее членов кровном родстве. Проходит еще несколько времени, и возникают целые сказания, не менее баснословные, как и те, согласно которым сванеты, осетины и картвельцы считаются потомками трех братьев – Суона, Оса и Картыла[54 - См.: Миллер В. Ф. Предание о поселении дигорцев в Камунзе // Осетинские этюды. Ч. I. С. 138.]. Полумифический Хожиц объявляется вышедшим из Грузии и родоначальником стыр-дигорских родов, как Бадило – выходцем из Маджар и основателем рода дигорских Бадилят, а полувитязь и полусвятой Хетаг – первым из рода Хетагуровых! Этим путем незаметно совершается процесс обращения материнских экзогамических групп в столь же экзогамические агнатические роды. Унаследованное от времен материнства запрещение браков между братствами удержано агнатическими родами, потому что в противном случае внутренний мир родовых сообществ сделался бы невозможным ввиду взаимного похищения друг у друга девушек-невест.
В эпоху полного сложения агнатических союзов культ предков, мифическое представление об общем родоначальнике и требование соблюдать в браках начало экзогамии являются для родов таким же прочным общественным цементом, как и нераздельность земельного владения родов, участие в общих сходах с равным для всех правом голоса и подчинение общему предводительству – обыкновенно старшего члена той династии, к которой народное представление относит основателя самого сообщества или славнейшего из его умерших членов.
Из сказанного следует, что и в процессе возникновения кавказских родовых групп культ предков призван был играть далеко не последнюю роль. В нем, а не в совершенно произвольном представлении о единстве происхождения и крови следует видеть то скрепляющее начало, благодаря которому случайно сошедшаяся группа лиц перешла в постоянный союз круговой поруки, известный нам под названием родового союза[55 - Ср. Ковалевский М. М. Первобытное право. Ч. I. С. 85.].
Мы далеко не исчерпали всех тех сторон родового быта, на которые культ предков и связанный с ним культ домашнего очага сумели наложить свою печать; но и сказанного нами достаточно для того, чтобы прийти к убеждению, что без предварительного знакомства с характером того почитания, каким общества, живущие условиями родового быта, окружают своих мертвых, невозможно ясное понимание духа родовых порядков. Говоря это, я тем самым утверждаю, что во всех древнейших памятниках немецкого, славянского или кельтского права, памятниках, возникших уже в христианскую эру, трудно найти ключ к пониманию того нередко сложного умственного процесса, который привел к установлению порядков, стоящих в полном противоречии с современными нам понятиями о правде и справедливости. Кто ограничится изучением родового строя на основании только что названных источников, необходимо придет к мысли не искать за изучаемыми им нормами вызвавших их к жизни принципов, так как он убедится, что принципы эти лежат в заслоненных перед ним христианством языческих верованиях. Только обращаясь к аналогиям, только восполняя недостающие ему сведения о религиозном миросозерцании родовых сообществ данными этнографии, в состоянии он достигнуть той всесторонности и отчетливости в понимании родовых порядков, без которых все его построения не могут иметь иного значения, кроме более или менее остроумных догадок.
Вот с этой-то точки зрения изучение родовых порядков кавказских горцев и призвано оказать неоценимую услугу зачинающейся только науке общественной эмбриологии, так как дает ей возможность проникнуть в мельчайшие подробности того миросозерцания, из которого вытекло и в котором нашло свое оправдание родовое устройство.
К числу наиболее спорных вопросов родового устройства надо отнести, наряду с только что рассмотренным, и вопрос о характере, какой в эпоху его господства носит отношение человека к земле. Бок о бок с писателями, утверждающими, что родовое устройство есть особенность кочевых племен и что ему чуждо поэтому всякое понятие о праве частной или общинной собственности на землю, попадаются и такие, которые думают, что родовой быт может быть продолжен и в эпоху перехода постоянной оседлости; отдельные семьи, обособившись от общего ствола, расчищают каждая больший или меньший участок земли из-под леса, кустарника и болота и, в силу приложения своего индивидуального труда к его обработке, приобретают на него права частной собственности. В новейшее время профессор Краковского университета Даргун сделал попытку оживления этой довольно уже устаревшей теории и постарался обосновать ее данными сравнительной этнографии[56 - Статья Даргуна помещена в Zeitschrift fiir die Vergleicheude Rechts Wissenschaft, изд. Колером.]. В России того же воззрения придерживаются профессора Б. Н. Чичерин и Сергеевич[57 - Опыты по истории русского права Б. Н. Чичерина и его полемика со мной в критическом обозрении за 1878 год. О В. И. Сергеевиче см. его статью в журн. Министерства народного просвещения, перепечатана в его книге «Лекция и исследования по истории русского права».].
Кавказская этнография не оправдывает ни одного из только что упомянутых учений. Она указывает нам и на возможность сохранения родовых порядков при переходе от кочевого быта к оседлому, и на произвольность утверждения, что установление постоянных отношений к земле необходимо ведет к возникновению частной собственности. Она учит, что при родовом устройстве одинаково возможны и такие порядки, при которых нет другой земельной собственности, кроме племенной, и такие, при которых земля составляет достояние отдельных родов или их соединений, братств. Сосредоточение ее в руках родовых групп нимало не препятствует выделению известных участков земли усадебной и пахотной в обособленное владение не частных семей, а дворовых общин, пользующихся ею на началах семейного коммунизма.
Доказывая все это, кавказская этнография не становится вразрез с данными сравнительной этнографии. Если бы не смешение понятий, если бы не произвольная замена термина «семейная», или «дворовая община», словом «семья», то на основании собранного Даргуном материала невозможно было бы сделать иного вывода, кроме того, что в родовую эпоху общежития земля не есть собственность частного лица, все равно женатого или холостого, а объект обладания целых групп; группы эти состоят из лиц, имеющих общий очаг, объединенных культом предков и представлением о единстве их происхождения, другими словами – таких же дворовых общин, как те, с существованием которых знакомят нас данные Кавказа. Те же данные как нельзя лучше доказывают верность положения мауреровской теории, что характер собственности зависит от топографии занятой племенем местности, что на плоскости племенная и общеродовая собственность находит более благоприятные условия для своего существования, чем в горных теснинах, и что там, где нет простора, дворовая, если не частная, собственность является общим правилом. Это положение, верность которого уже доказана по отношению к Германии и Швейцарии, вполне применима и к Кавказу. Простого сопоставления порядков землевладения плоскостных кабардинцев или осетин с теми, которых придерживаются сванеты и хевсуры, не говоря уже о горских народностях Дагестана, достаточно будет, как мы увидим, для того чтобы убедиться в той тесной связи, какая существует между топографией и землевладением. Все дошедшие до нас свидетельства о народах Северного Кавказа в период времени, предшествующий нашествию тюркских племен, сходятся в изображении их нам народами полуоседлыми, полукочевыми. Писатели XIII века Рубриквис и Контарини сходными чертами рисуют нам быт племен, живущих к северу от Кавказского хребта и к югу и востоку от Дона, или Танаиса. Народности эти, которых они называют аланами и команами и из которых первые, как указано Всеволодом Миллером, являются предками современных осетин, постепенно оттеснены были на юг тюркскими пришельцами. Большинство их попало в горы и под влиянием природных условий устроило здесь свой быт на началах, несколько отличных от тех, на каких он был построен в предшествующие столетия. Замкнутость занятых ими долин, трудность сообщения между ними, благодаря непроходимости горных ущелий в зимние месяцы, заставили недавних кочевников заняться земледелием, сделаться народом оседлым и построить свои земельные отношения на началах дворовой общины. Но память о бродячем характере их первоначальной жизни сохранило народное предание. В Чегеме и на Баксане мне и товарищу моих путешествий Миллеру пришлось записать сказания, в которых быт пришлых тюркских племен резко противополагается оседлым привычкам туземного населения[58 - См. в «Вестнике Европы» за 1884 год статью, озаглавленную «Горское общество Кабарды».]. Когда на смену тюркских племен на плоскогорье Северного Кавказа явились кабардинцы, физические условия местности сделали возможным продолжение их прежних кочевий. Не далее как в конце XVIII века Потоцкий и Паллас отмечают у кабардинцев характерную особенность народов, недавно вышедших из условий кочевого быта: склонность переносить свои аулы на расстоянии немногих лет с одного места на другое. Черкесы вообще и кабардинцы в частности, говорит последний из названных писателей, живут в селах, которые они покидают на расстоянии немногих лет, потому ли, что их гонит оттуда нечистота, или же потому, что не считают себя более достаточно защищенными против врагов.
Каждый раз, когда следует такое переселение, жители увозят с собой вместе с домашней мебелью и лучшие бревна, все остальное предается сожжению[59 - См.: Pallas P. Voyages de M. P. S. Pallas, en diffеrentes provinces de l’empire de Russie, et dans l’Asie septentrionale. V. I. P. 431.]. Кабардинский поселок, говорит в свою очередь Потоцкий, не остается на занятой им местности более четырех или пяти лет. За это время князья, стоящие во главе поселков, обыкновенно успевают перессориться со своими соседями, что вызывает в них естественное желание выселиться и избежать тем самым дальнейшей вражды. Вновь заведенные ими связи и отношения нередко также влекут их к перемене места жительства. Так как земля принадлежит в неразделенную собственность всей нации, то к такому переселению не преставляется препятствий. Об этом кочевом образе жизни, прибавляет от себя Потоцкий, историки не могли составить себе точного представления за недостатком живых примеров; но уже древним народам было известно различие между племенами, устраивавшими свои жилища на повозках, и теми, которые жили в палатках[60 - См.: Potocki J. Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase par le Comte Jean Potockii. P. 176.]. Характерный пример первых представляют нам побывавшие, как мы увидим ниже, и на Кавказе татары времен Чингисхана и Батыя. Дома, в которых они живут, говорит Рубриквис, путешественник XIII века, построены на колесах, соединенных между собой перекладинами, размер которых нередко двадцать, тридцать футов. Эти подвижные жилища передвигаются с места на место с помощью впряженных в них двенадцати и более пар быков[61 - См.: Rebruquis G. Le Voyage de Guillaume de Rubruquis. Ch. II // Bergeron P. V. I. Voyages en Asie.]. Этот вид жилищ известен был и на Кавказе, и не далее как в середине XVII века. Тавернье говорит нам о ногайцах, как о народе, проводящем свою жизнь на повозках с воздвигнутыми над ними шатрами из войлока. Палатки служат жилищем для стариков, детей и состоящей при них прислуги. У того же писателя мы находим подробности о порядке поселения и быте черкесов. Из его описаний видно, что черкесы уже имели в это время постоянные поселения, которые обыкновенно принимали форму круга со свободной площадью внутри, помещением для скота и колодцем. По его словам, черкесы мало занимаются земледелием, не сеют ни ржи, ни овса, а только ячмень для лошадей и просо для собственного употребления. Подробность, которая заслуживает быть отмеченной, это та, что, по словам Тавернье, черкесы не обрабатывают несколько лет подряд одного и того же поля, а переносят ежегодно свои плантации с места на место[62 - См.: Tavernier J.-B. Les six voyage de Jean Baptiste Tavernier. Liv. III. Ch. XIII (V. I. P. 313).]. Эта подробность, напоминающая собой знаменитое свидетельство Тацита о древних германцах: «Аrvа per annos mutant et superest ager»[63 - Земли меняются через известное число лет и поднимаются опять (лат.). – Ред.], указывает нам не только на слабую густоту населения, но на сравнительно недавний переход от кочевого быта к оседлому. Итак, во второй половине XVII века адыгейские племена, сохраняя следы некогда свойственного им кочевого быта, в то же время являются народом оседлым.
К еще более отдаленной эпохе следует отодвинуть кочевые привычки осетин и их предков алан, занимавших плоскогорье Кавказа задолго до прихода тюркских народностей и кабардинцев. Чтобы встретиться с указанием насчет бродячего состояния осетин-алан, надо подняться до IV века по P. X., времени, к которому относится свидетельство Аммиана Марцелина. «У них, – говорит этот писатель, – нет постоянных жилищ; они не занимаются земледелием, питаются мясом и больше молоком, живут в своих повозках, которые покрывают кусками древесной коры и таскают за собой по неизмеримым степям. Когда они доходят до мест, поросших травой, то располагают свои повозки в круг и питаются как звери. Как только корм весь в известном месте уничтожится, они отправляют дальше на повозках свое, так сказать, государство. На этих повозках мужчины сходятся с женщинами; там рождаются и воспитываются дети; это их постоянные жилища, и, где бы они ни кочевали, всегда они повозку считают своей родиной. Они гонят перед собой стада крупного и мелкого скота и таким образом пасут его; но преимущественно они заботятся о лошадях»[64 - См. Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Т. IV С. 50 и 51.]. Что касается до картвельских племен, то их кочевой быт должен быть отнесен еще к более глубокой древности, так как уже Страбону известно разделение их на четыре класса, из которых один был составлен из землевладельцев. Продвигаясь далее на восток, мы у ингушей еще в начале текущего столетия, как видно из сообщений Клапрота, встречаем тот же обычай частого оставления аулов и переселения с места на место, о котором нам пришлось говорить в применении к черкесам и осетинам. У чеченцев эти переселения сравнительно недавнего происхождения. По народным преданиям, чеченцы искони жили в горах, а занимаемая ими ныне плоскость к северу от Кавказского хребта была покрыта стадами и табунами бродячих ногайцев, калмыков и татар. В горах быт чеченцев далеко не носил характера кочевого. Каждый двор возделывал с большим трудом небольшие клочки способной к обработке почвы, очищая их предварительно от камней. С середины XVIII века часть чеченцев стала эмигрировать на плоскость. Беспрерывные столкновения с русскими, занимавшими ее в это время, привили им вскоре привычку к частым переселениям. При Шамиле, сообщает Лаудаев, нередко бывали случаи, когда одно и то же семейство двадцать раз подряд изменяло свое местожительство, оставляя единственными следами своего пребывания легкие и далеко не прочные постройки.
С переходом еще далее на восток и юго-восток мы вступаем в область, в которой частые переселения с места на место не известны уже давно. Путешественники XVII столетия, Олеарий и Тавернье, в одно слово говорят нам о постоянных поселениях в Кази-Кумухских, Аварских, Тарковских и Уцмийских владениях. Преимущественное занятие их жителей составляет скотоводство; но оно не устраняет собой и земледелия в размерах, достаточных для удовлетворения потребностей местного рынка. Обширные села сменяются мало отличными от сельских городскими поселениями, обыкновенно укрепленными, и этот факт сам по себе указывает на невозможность частой смены жилищ[65 - См.: Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских горцах. 1872. Т. VI. С. 50.].
Итак, мы вправе будем сказать, что кочевой быт кавказских горцев должен быть отнесен к более или менее отдаленному прошлому; а так как родовое устройство и связанные с ним порядки нераздельного земельного владения продолжают держаться и до сих пор, то необходимо будет признать, что переход к оседлости не сопровождался у них полным упадком родовой организации и аграрного коммунизма.
В чем же, спрашивается, сказывается в наши дни этот аграрный коммунизм? У адыгейских племен в том, что земля считается собственностью или всего племени, или братства с входящими в состав его родами. По показанию Белля, во всем согласному с заявлениями, делаемыми бароном Сталем, ни один черкес не вправе указать на тот или другой участок как на свою собственность; но это не мешает ему в то же время ревниво охранять занятую племенем, или братством, территорию от попыток соседей перенести на нее свои поселения или утилизировать отдельные участки как пастбища для своих стад. Каждый черкесский двор вправе занять столько земли, сколько ему нужно для посева проса или ячменя и выпаса своих стад, но распорядиться этим участком в форме продажи или дарения он не может. Сказанное относится по-преимуществу к тем черкесским племенам, которые живут по побережью Черного моря; отнюдь не к кабардинцам, племенная собственность которых, доселе уцелевшая по отношению к некоторым лесам и пастбищам, не устраняет деления остальной территории на несколько округов по числу княжеских родов, или пшэ. Мы укажем впоследствии, на каких началах устроено землевладение в пределах этих округов. В настоящее время для нас достаточно знать, что не вся занятая кабардинцами площадь составляет нераздельное владение всей нации. Следы аграрного коммунизма доселе живут в ряде обычаев, из которых мы отметим следующие, как наиболее характерные: право каждого свободного кабардинца, без различия сословий, предъявлять к соседям не то ходатайство, не то требование о безвозмездной уступке ему той или другой понравившейся ему лошади или скотины. Право это, по словам Потоцкого, в старые годы применяемо было всеми адыгейскими народностями и к носимому ими платью. Стоило только похвалить при встрече ту или другую часть чужой одежды, и лицо, польщенное такой похвалой, считало долгом обменяться костюмом с хвалителем.
Не далее как шесть, семь лет назад мне пришлось слышать от лица, заведывавшего хозяйством князя Атажухина, одного из кабардинских пшэ, жалобу на невозможность развести хорошую породу скота ввиду существования только что упомянутого обычая. Едва по Кабарде разносился слух о том, что у князя завелись стада хорошей породы, то со всех сторон начинали стекаться к нему гости, которые в преувеличенных выражениях начинали прославлять качества той или другой пары быков или коров, приглашая его тем самым наделить их ею.
Не менее характерен другой обычай адыгейских племен – обычай добровольного обложения себя каждым в пользу потерпевшего соседа. При пожарах и наводнениях черкесы охотно спешат на помощь друг другу. Разрушенное пламенем или водой здание в несколько дней воздвигается вновь совокупным трудом соседей. Считается также долгом помогать неимущему при покупке им жены или при уплате падающего на него выкупа за преступление.
У осетин, как подробнее указано мной в другом месте[66 - См.: Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Т. I. Гл. Имущественные отношения осетин.], племенная собственность не оставила никаких следов. Господствующим типом землевладения является в Осетии дворовая, или что то же – общинно-семейная, собственность.
Пахоти и луга находятся обыкновенно в нераздельном владении живущих под одной кровлей семей; пастбища и леса, наоборот, принадлежат всем дворам, входящим в состав одного и того же аула, подчас даже нескольких аулов. Аулы эти в прежнее время обыкновенно занимаемы были разветвлениями одного какого-нибудь рода; в настоящее же время они служат местом жительства нескольких родов. Никакие частные заимки на протяжении принадлежащей аулу пустоши не считаются дозволенными иначе, как с предварительного согласия всего аула. Судебная практика осетин представляет случаи, в которых воздвигнутые в противность этому правилу постройки подвергаемы были разрушению со стороны аульных жителей, исполнявших постановление общего схода.
Что касается картвельских народностей, то, занесенные судьбой в узкие горные долины, не представляющие простора для развития обширных территориальных общин, они рано выработали у себя тип если не частной, то дворовой собственности. О ней упоминается уже в путешествии Шардена.
Вся Мингрелия, сообщает этот путешественник, не знает ни сел, ни городов, если не говорить о двух деревнях, расположенных на берегу моря. Усадьбы жителей разбросаны на протяжении всей страны; трудно сделать тысячу шагов, не встретив трех или четырех близко лежащих друг от друга дворов. В этих дворах мингрельцы живут только в мирное время; при набегах же соседей они ищут убежища в особых крепостцах, или городищах, доступ к которым заслонен плетнями и наваленным по дороге лесом[67 - См.: Shardin J. Journal de Voyage du chevalier Chardin en Perse-par la Colchide. Р. 77.].
Система дворовых поселений, нередко принимающих форму хуторов и пересекаемых лишь редкими селениями, доселе встречается у сванет, хевсур, пшавов и тушин.
Редкость годной к обработке земли и необходимость большей относительно затраты капитала и труда на ее возделывание – причины того, что способная к утилизации площадь находится у них всецело в подворном владении и нераздельную собственность одного или нескольких родов составляют только пастбища и леса.
Семейная община, или двор, является также обычным собственником пахотных и сенокосных участков – одинаково среди ингушей, чеченцев и разнообразнейших народностей, населяющих собой Дагестан. Способная к обработке площадь, с трудом освобожденная от покрывающих ее камней, часто окружается у чеченцев каменными оградами[68 - См.: Klaproth J. Voyage au Caucase et en Gеorgie. Т. I. С. 404.]. Покидая по причине безземелия свои расположенные в горах усадьбы, отделившаяся от рода ветвь не оставляет их в неограниченную собственность прочих членов «тайпы», то есть рода, но позволяет пользование под условием платежа ей особого взноса, именуемого «бер»[69 - См.: Лаудаев У. Чеченское племя // Там же. С. 15.].
Только неспособная к земледельческой утилизации площадь да дикорастущий лес остаются у чеченцев, как общее правило, в нераздельном владении.
У горцев Дагестана, как и у лезгин Закатальского округа, совместное владение пастбищами и лесами встречается бок о бок с подворной собственностью в применении к пахоти и лугам. Никто не вправе делать заимки в общинной пустоши и лесе, не получив на то предварительного согласия всей общины. Весьма характерны в этом отношении следующие приговоры закатальского народного суда, записанные мной в бытность мою в округе. Житель селения Белоканы Махмед Али Курбан-оглы жалуется на захват соседом его «ахо», или земли, полученной от расчистки леса. По справкам оказывается, что спорный участок подвергся корчеванию без разрешения «векилей» общества (то есть сельских начальников в нем). Постановлено: отобрать землю у истца и передать ее обществу[70 - Дело, разбиравшееся в закатальском народном суде 2 марта 1878 года.]. Другой случай: жалоба подается на самих векилей, которые обвиняются в присоединении к общественной земле заимки (ахо), сделанной истцом. Так как судебное следствие выяснило, что жалобщик произвольно открыл свое ахо, то постановлено удержать его расчистку за обществом[71 - Дело от 12 марта 1878 года.].
Все сказанное нами доселе оправдывает, кажется, тот общий вывод, что родовые порядки не предполагают необходимого господства одной какой-либо формы землевладения, что нельзя поэтому говорить о родовых порядках, как исключающих по существу всякий другой вид собственности, кроме той, участниками которой являются члены одного и того же рода. Характер местности, служащей для поселения родовых групп, во многом обусловливает их отношение к земле. Там, где, как на кабардинской плоскости, природа не установила особых границ для территориального распространения отдельных родов, возможно удержание как племенной, или народной, так и братской собственности. Наоборот, там, где роды по причине тесноты долин принуждены занять своими ветвями нередко замкнутые друг от друга местности, распространенным типом собственности является не родовая, а дворовая; но чего мы нигде не встречаем – так это подавляющего господства частной собственности, сосредоточенной в руках отдельных пар, или индивидуальных семей. Другой вывод, на который наводит изучение фактов кавказского землевладения – это отсутствие между общинно-родовым и общинно-сельским землевладением той строгой грани отличия, какая проводится обыкновенно исследователями германских, кельтских или славянских древностей. Очевидно, что, если видеть в роде группу лиц, имеющих общего родоначальника и отличающихся единством происхождения, а в сельской общине – связанных отношениями соседства и совладения членов разных родов, то различие между обоими сведется к тому, какое существует между кровным и территориальным союзом, между разветвившейся семьей и землевладельческой артелью. Но если, придерживаясь данных кавказской этнографии, видеть в родах экзогамические союзы с общим их членам родовым культом и коллективным владением занятой ими площади, а в сельских общинах – эндогамические союзы, члены которых связаны одним фактом совладения, то различие между обоими и самый процесс их обособления друг от друга придется искать далеко не в том, в чем их искали доселе.
Поселение в одной местности членов разных родов, в котором видели источник происхождения сельской общины, может и не иметь такого последствия. Усыновленный черкесским родом чужеродец, устраивая свою жизнь в родовом поселке, не изменяет еще тем характера этого поселка; точно также как присоединившийся к сильному роду, или тохуму, слабый род не становится в Дагестане причиной, по которой род переходит в сельскую общину, так как и в том, и в другом случае между соединяющимися в одно целое индивидами и группами устанавливаются и общность культа, и общность брачных запретов. Ни того, ни другого не бывает тогда, когда принадлежащие к разным родам семьи, не становясь членами общего братства, в то же время селятся бок о бок и оставляют в общем владении часть занятой ими местности.
Возникшее таким порядком селение тем отличается от родового поселка, что населяющие его семьи придерживаются каждая своего домашнего культа и в то же время свободно вступают друг с другом в брачное общение. Мы не ошибемся поэтому, если скажем в заключение, что различие между родом и сельской общиной сводится, во-первых, к тому, что первый является не только экономическим, но и религиозным союзом, и, во-вторых, к тому, что род обязательно придерживается начал экзогамии, которая для сельской общины не обязательна.
Данные кавказского землевладения поучительны еще в том отношении, что показывают, что система периодического передела полей, которую большинство исследователей еще недавно соединяло с древнейшими порядками собственности, на самом деле нимало ни отвечает этому представлению. Мы встречаем у черкесов и кабардинцев существование племенной, братской и родовой собственности на землю и рядом с этим господство переложной системы хозяйства – этой первобытнейшей формы земледелия; и в то же время переделы, возобновляемые в раз и навсегда определенные сроки, совершенно неизвестны этим народностями. У чеченцев и ингушей господство нераздельносемейного, или подворного, владения землей также исключает собой всякую мысль о переделах. С этими переделами мы встречаемся только в плоскостной части Грузии, сельскохозяйственные условия которой, очевидно, отнюдь не могут быть названы более архаичными, чем черкесские или осетинские.
Таким образом, и по этому вопросу данные кавказоведения являются новым подтверждением тех выводов, которые установлены сравнительной этнографией, доказывающей, как мы видели выше, что на низших ступенях общественности место сельской общины с периодически переделяемыми полями занимает община семейная, чуждая переделов и придерживающаяся начал полного имущественного коммунизма не только в сфере производства, но и в сфере потребления. Едва ли не самым спорным вопросом в теории родового быта является вопрос о том, какой характер носила современная ему организация суда и управления.
У первых по времени историков германского права – Эйхгорна, Филипса и Рогге, как и у представителей теории родового быта в древнейшей истории русских и западных славян, обыкновенно говорится о родовых старейшинах и народных собраниях, как о первых органах правительственной и судебной власти. Только в новейшее время параллельное изучение древнекельтского и германского права навело некоторых исследователей на мысль о том, что выбираемый сторонами посреднический суд, пожалуй, должен быть признан более старинной формой отправления правосудия. Суды ирландских брегонов и франкских рахимбургов подведены были под понятие посреднического суда; но ни у кого, быть может, этот взгляд на древнейший характер суда не проведен с такой обстоятельностью и полнотой, как в недавно отпечатанной монографии Декляреля, озаглавленной «Суд у первобытных народов»[72 - См.: Revue historique de droit fran9ais et еtranger, 1889, первые 3 вып.].
В своих заключениях автор руководствуется, как он сам говорит, между прочим, тем материалом, какой для решения этого вопроса дают ему обнародованные мной сведения об осетинском процессе. Я полагаю, что автор не ошибается, высказывая ту мысль, что данные кавказской этнографии призваны пролить яркий свет на характер суда в эпоху господства родовых порядков. Вот, в частности, те выводы, какие могут быть сделаны на основании их по занимающему нас вопросу.
Обычному праву родовых общин известно одновременное существование двух видов подсудности: первая обнимает собой преступления, проступки и правонарушения, совершенные в родственной среде; эти, в свою очередь, распадаются на такие, при которых обидчик и обиженный являются членами одного и того двора, и на такие, при которых обидчик и обиженный состоят членами разных дворов. Первые разбираются тем самым лицом, в руках которого находится заведывание религиозными и имущественными интересами двора. Лицо это занимает у черкесов, чеченцев, осетин и грузинских горцев то самое положение, какое в южно-славянских задругах принадлежит «домачину», а в великорусских больших семьях «набольшему». Старшинство по летам обыкновенно указывает осетинскому «каау» и черкесскому «огг», или что то же – двору или семейной общине, кого поставить во главе себя. Только при неспособности старшего по возрасту следует выбор старейшины со стороны всех совершеннолетних членов двора. Власть старейшины далеко не является деспотической: он не более, как первый между равными; постановляемые им приговоры не являются его единоличными решениями, а обыкновенно предлагаются на обсуждение всех совершеннолетних мужчин управляемой им семейной общины.
Из сказанного уже следует, что там, где удержалось начало семейного коммунизма, где, как, например, у осетин и ингушей, встречаются дворы, обнимающие собой целые десятки семей, власть мужа над женой и отца над детьми далеко не является столь произвольной, как в тех малых семьях, в которых она не встречает ограничений со стороны семейного старейшины и семейного совета. Неудивительно поэтому, если у ингушей и вообще у чеченцев, у которых еще Рейнегс отметил существование дворов с сорока и пятидесятью членами в каждом, дети пользуются гораздо большей независимостью, нежели в Чечне, например, где более распространена малая семья и где до последнего времени отец имел право жизни и смерти над своими домочадцами. О характере тех дел, какие подлежат разбирательству дворового старейшины и окружающего его совета родственников, можно судить по некоторым примерам: дворовый старейшина принуждает мужа прогнать виновную в неверности жену и произносит над лицом, виновным в брато- и отцеубийстве, приговор отвержения.
В тех местностях, в которых физические условия не являлись препятствием к поселению бок о бок отдельных разветвлений одного и того же рода, наряду со старейшинами отдельных дворов мы встречаем и родовых старшин. Нельзя связывать с этим понятием представления о какой-то избирательной или наследственной должности с раз и навсегда установленными обязанностями и правами. Старейшинами в роде считались все те, которые своим возрастом, своей воинской доблестью и смелыми набегами, своей мудростью и справедливостью успевали снискать себе доверие своих собратий.
Культ предков, по воззрениям горцев, возможен лишь до тех пор, пока на земле продолжается их род. С прекращением последнего предки остаются без пищи и питья и становятся злыми гениями той местности, которой они некогда были патронами. Отсюда источник доселе держащегося у армян представления, что оставленная по причине полного вымирания рода усадьба есть обиталище нечистых духов[47 - См.: Елиазаров С. А. Исследование по истории учреждений в Закавказье. Т. I. С. 146.].
Этим воззрением, не менее распространенным и среди горцев, объясняется, между прочим, тот факт, что из правила о нераздельном владении не только отдельными родами, но и целым племенем занятой ими земельной площади с самого начала сделано было исключение для усадебной земли. По названной причине земля эта искони составляет у горцев предмет подворного владения. Никто не согласился бы получить в силу передела оставленную семьей усадьбу, из опасения тех бедствий, какие могут наслать на него самого и на его родственников обитающие в ней «домовые».
Если прибавить к сказанному, что у большинства горских племен существует обычай хоронить покойников на принадлежащей двору земле, что хевсуры и тушины, осетины и сванеты имеют свои фамильные усыпальницы, что желание иметь вблизи себя могилы предков нередко выступает у картвельских и иранских народностей Кавказа с такой силой, что, переселяясь на новые места жительства, они переносят с собой и гробницы отцов, то нельзя будет не признать, что в числе причин, содействующих выделению дворовой собственности из племенной и родовой, далеко не последнее место занимает и культ предков. Неотчуждаемость дворовой, или нераздельно-семейной, собственности, вытекающая в большинстве случаев из практической невозможности достигнуть на этот счет полного единогласия всех участников, в некоторых аулах Дагестана принимает характер формального запрещения. Род не терпит поселения в своей среде семей, религиозные и светские интересы которых отличны от его собственных.
Но если культ предков является, таким образом, одним из условий, содействующих удержанию земель в руках их теперешних владельцев, то он же случайно может сделаться источником их отчуждения. Ставя религиозные интересы выше всех других, обычай горцев смотрит на совершение поминок по усопшим как на неотложную обязанность потомства; но эти поминки принимают такие размеры и повторяются так часто, что становятся для отдельных дворов источником их разорения: осетины, сванеты, пшавы затрачивают на их совершение сотни и тысячи рублей, так как на устраиваемые по этому поводу угощения сходятся не только родственники и односельчане, но нередко весь народ; так, например, у сванетов чем больше число лиц, участвующих в поминальном пире, тем больше чести приходится на долю устроившего его двора. Неудивительно после этого, если для устройства поминок двор решается иногда пожертвовать частью принадлежащей ему земли; но прежде чем произвести отчуждение ее в чужие руки, обычай рекомендует предложить ее родственным родам. При покупке ее ими земля не выходит из рода и культ родовых божеств не терпит, таким образом, неизбежного в противном случае сокращения. Право родовой презумпции, то есть предпочтительная покупка родственниками, таким образом, стоит в несравненно более тесной связи с родовым культом, чем та, какую обыкновенно допускают. При отказе родственников дворовая земля может перейти в силу продажи и к чужеродцам, но и в этом случае культ предков дает себя знать в обычае, доселе не вышедшем из употребления во многих местностях Осетии и Грузин. Первым делом покупщика – совершить на приобретенной им земле поминку в честь предков продавца. Он делает это в надежде расположить их в свою пользу и из опасения, что в противном случае они, видя в нем чужеродца и ближайшего виновника того, что совершавшийся в их честь культ отныне будет прекращен, не преминет выместить на нем свою злобу и сделается для него и для его семьи источником всякого рода бедствий.
Культ общих предков является для рода тем связующим началом, какое большинство исследователей родовых отношений тщетно искали в факте происхождения от одного общего родоначальника. Если принять во внимание, что большинство родов развилось из упомянутых у нас выше экзогамических групп, которым было известно одно только родство по матери; если иметь в виду, что путем добровольного присоединения к сильному своей численностью роду других более слабых родов, точно так же, как путем неоднократно повторяющихся случаев усыновления членов чужих родов, чистота крови в пределах рода становится фактически невозможной, то немудрено будет прийти к заключению, что нет основания говорить о кавказском роде, как о продукте естественного размножения семьи.
Теория рода, как результата постепенного разветвления первичной семейной ячейки, состоящей из мужа и жены, теория, на несостоятельность которой указано было мной в моем «Первобытном праве», отнюдь не может быть защищаема на основании кавказского материала. Правда, и на Кавказе, в особенности среди дворянских семей, не раз попадаются генеалогические древа. Пример такого древа представляет, в частности, то древо кабардинских княжеских семей, какое Потоцкий приложил к тексту своего интересного путешествия по горам кавказским; но эти генеалогии редко когда идут далее восьми – десяти поколений назад. Наиболее несомненная из них генеалогия шамхалов Тарковских с большей или меньшей достоверностью восходит лишь до XVI столетия; то же может быть сказано о генеалогии кайтагских уцмиев, кази-кумухских и мехтулинских ханов и султанов елисуйских[48 - Одни только аварские ханы, не имеющие особой генеалогии, в то же время должны быть признаны весьма древними.].Что же касается той генеалогии, на которой настаивают кабардинские княжеские фамилии, то если считать даже бесспорными выставляемые ими притязания, все же приходится отказаться от мысли о ее глубокой древности: между временем более или менее мифического родоначальника кабардинских князей Инала и временем Петра Великого насчитывают всего навсего шесть поколений[49 - Родословное древо шамхалов Тарковских отпечатано в 1-м томе Сборника сведений о кавказских горцах; родословная кабардинских князей помещена у П. Палласа на 428 с. его Voyages de M. P. S. Pallas, en diffеrentes provinces de l’empire de Russie, et dans l’Asie septentrionale. Дюбуа де Монцере в грузинских летописях находит указание на то, что родоначальник кабардинских князей Инал жил в начале XVI века.].
О баснословности и недавнем происхождении осетинских генеалогий я не стану распространяться после того, что сказано мной на этот счет в «Современном обычае и древнем законе». Генеалогии горских таубиев и дигорских Бадилят начинаются всего-навсего с XVI века.
К числу древнейших фамилий на Кавказе, если верить легендам, надо отнести и те, которые дали свое имя некоторым аулам Веденского наибства; так, например, заселяющая аул Эрсено считает уже восемнадцать поколений; та же, которая занимает аул Элистанжи – одиннадцать. В Даргинском наибстве также можно указать на аулы, как Белгатой, основание которого занимающим его родом отнесено за шестнадцать поколений до нашего времени. Если признать даже историческое значение за этими легендами, чего, разумеется, они нимало не заслуживают, то все же получится относительная только древность в тысячу лет, не более.
Сванетские сказания о Дадешкелианах относят возникновение их рода к сравнительно недавней эпохи отделения Мингрелии от Грузии.
Передаваемые Худадовым легенды о происхождении хевсурских родов не возводят их происхождение далее, как к XVII столетию (времена жестокого эристава Зурава). Ингуши и чеченцы, не имея князей, обходятся по этой причине без генеалогий.
Таким образом, мы вправе сказать, что кавказские генеалогии ничего не говорят нам о первоначальном происхождении родов и, следовательно, совершенно могут быть оставлены в стороне при решении этого вопроса.
Гораздо большее значение для его решения имеют ходячие в среде горцев сказания о великанах, или нартах. Сказания эти рисуют нам ряд выдающихся личностей, к которым со всех сторон стекаются и родственники, и чужеродцы, с тем, чтобы под их предводительством совершать удачные набеги на соседей. Любопытную черту этих сказаний составляет то обстоятельство, что в них обыкновенно упоминается не об отцах, а о матерях и сестрах воспеваемых героев, так, например, в чеченских сказаниях, когда заходит речь о шестидесяти орхустейцах[50 - См.: Из чеченских сказаний // Сборник сведений о кавказских горцах. 1871. Т. V. С. 38.], прямо говорится о том, что они произошли от шестидесяти различных матерей. О любимейших героях осетинских и кабардинских сказаний – о Сосрыко, Хамыце и Урызмаге – ни разу не упоминается, как о деле такого-то лица. Имя же их общей матери, Сатаны, приводится на каждом шагу. О значении, какое нартские сказания придают отношениям брата и сестры, можно судить по тому, что в своих препирательствах те же Хамыц, Сосрыко и Урызмаг не раз прибегают к посредничеству сестры[51 - См.: Осетинские народные сказания // там же. С. 15.].
Под предводительством Насран-жаке сражалось немало богатырей: Эй, Имыс, Сосыш, Жинду-жаке, Аракшау, Озершег, Ашов, сын Ашамаз, Хымышев, сын Батыраз, Сибильши, Альбеков, сын Потеран. Сказание ни разу не говорит нам о том, чтобы названные лица состояли между собой в родстве, наоборот, мы часто встречаем упоминания о том, что в богатырских наездах равно участвуют родственники и неродственники. Насран-жаке привозят откормленных баранов и доносят о том, что плохо охраняется и на что с удобством может быть сделан набег. Насран-жаке собирает нартов из соседних и дальних аулов, не исключая и тех, которые расположены на Кубани, и во главе отряда отправляется в такие далекие разъезды, как, например, в пространные степи по Идылю, то есть Волге[52 - См.: Из кабардинских сказаний о нартах // там же. С. 53, 64, 65.].
Очень характерно также отношение названных героев к встречающимся им во время их разъездов (балц) женщинам. Временное сожитие с ними представляется делом обычным: предложение чужой жене войти в любовную связь с гостем повторяется неоднократно. Но жен своих нарты, за исключением одного, впрочем, Урызмага, постоянно берут из чужих обществ, причем отказ в невесте признается обидой для «всего нартского аула», жители которого, как бы заявляя свои права на будущую жену их собрата, жалуются, что «девица за них замуж не хочет»[53 - Сын Сафа не считает обидой передать жене Урызмага предложение быть его любовницей (см. там же. С. 50 и 51), а жена другого витязя, Уастверджи, открыто заявляет тому же Урызмагу, что она сойдется с ним, если только муж ее приедет к ней ночью (с. 59). Еще более характерно то, что сам Урызмаг считает возможным снова сойтись со своей вероломной женой, узнавши о характере сделанного ей любовником подарка.].
Вот в этой-то обстановке, представляющей все черты переходной эпохи от матриархата к патриархату, и развивается деятельность этих первых «собирателей если не земли, то людей». Со всех сторон стекаются к ним без разбора родственники и чужеродцы, не только с целью совершать под их начальством случайные набеги на соседей, но и для того чтобы образовать из себя постоянные союзы взаимной обороны, союзы, охотно переходящие от самозащиты к нападению. Осетинские сказания, записанные Миллером, не раз упоминают о нартских дружинах и решениях, принимаемых ими соборне – на народных сходках, или «нихасах». Их наезды (балц) нередко происходят под предводительством какого-нибудь выдающегося вождя, на которого указывает не только возраст, но и сложившаяся о нем молва. В кабардинских сказаниях начальником нартских дружин обыкновенно является Насран-жаке – «золотобородый». В осетинских – то Софон, то Урызмаг или его сын Батраз.
Общее представление, какое выносишь о деятельности этих народных героев в деле объединения разрозненных элементов общества, довольно близко к тому, какое получаешь при изучении порядка возникновения родов Раджпутов или кланов Шотландии. Вокруг смелого витязя собирается пестрая по своему составу меньшая дружина. С ней он производит свои набеги: уводит у соседей стада овец и табуны лошадей, похищает издалека и вблизи девушек чужих материнских родов; с ней же он пирует в те редкие промежутки времени, которые собранная им дружина проводит в мире и спокойствии. Ожидание ежечасного возмездия не позволяет ему распустить своих товарищей, почему его дружина и переходит постепенно в постоянное сообщество, всегда готовое сняться с места и идти войной на общего врага. Чем больше растет слава о его подвигах и доблести, тем большее число лиц спешит стать под его начальство. Собравшаяся вокруг него толпа не представляет собой ничего однородного; ее связывают воедино только общность опасностей и врагов, общее доверие и нередко привязанность к руководителю или вождю. Но наступает время, когда этот вождь сходит со сцены, потому ли, что падет с честью на поле брани или становится жертвой со всех сторон стерегущих его злых гениев, которым рано или поздно удается положить предел его земному существованию. Память о его подвигах вскоре делает из него предмет общего почитания. Он становится центром особого культа, в котором главную роль играют устраиваемые в его честь поминки, сопровождаемые неоднократным ходатайством о его невидимом заступничестве в переживаемых его прежними сподвижниками затруднениях. Значение, какое в их глазах имел умерший, – причина тому, что должность вождя обыкновенно переходит к тому, на кого пал выбор покойника, а им всего чаще является его ближайший родственник. Так как вражда, созданная прежними войнами и набегами, не прекращается вместе с ним, так как она всего чаще переходит по наследству от предков к потомкам, то в интересах совместной обороны бывшие сподвижники умершего героя сохраняют между собой прежнее единение и продолжают совместно свою борьбу за существование. Во втором или третьем поколении еще держится память о ближайших причинах, поведших к образованию группы, но в дальнейших уже начинает слагаться легенда о соединяющем ее членов кровном родстве. Проходит еще несколько времени, и возникают целые сказания, не менее баснословные, как и те, согласно которым сванеты, осетины и картвельцы считаются потомками трех братьев – Суона, Оса и Картыла[54 - См.: Миллер В. Ф. Предание о поселении дигорцев в Камунзе // Осетинские этюды. Ч. I. С. 138.]. Полумифический Хожиц объявляется вышедшим из Грузии и родоначальником стыр-дигорских родов, как Бадило – выходцем из Маджар и основателем рода дигорских Бадилят, а полувитязь и полусвятой Хетаг – первым из рода Хетагуровых! Этим путем незаметно совершается процесс обращения материнских экзогамических групп в столь же экзогамические агнатические роды. Унаследованное от времен материнства запрещение браков между братствами удержано агнатическими родами, потому что в противном случае внутренний мир родовых сообществ сделался бы невозможным ввиду взаимного похищения друг у друга девушек-невест.
В эпоху полного сложения агнатических союзов культ предков, мифическое представление об общем родоначальнике и требование соблюдать в браках начало экзогамии являются для родов таким же прочным общественным цементом, как и нераздельность земельного владения родов, участие в общих сходах с равным для всех правом голоса и подчинение общему предводительству – обыкновенно старшего члена той династии, к которой народное представление относит основателя самого сообщества или славнейшего из его умерших членов.
Из сказанного следует, что и в процессе возникновения кавказских родовых групп культ предков призван был играть далеко не последнюю роль. В нем, а не в совершенно произвольном представлении о единстве происхождения и крови следует видеть то скрепляющее начало, благодаря которому случайно сошедшаяся группа лиц перешла в постоянный союз круговой поруки, известный нам под названием родового союза[55 - Ср. Ковалевский М. М. Первобытное право. Ч. I. С. 85.].
Мы далеко не исчерпали всех тех сторон родового быта, на которые культ предков и связанный с ним культ домашнего очага сумели наложить свою печать; но и сказанного нами достаточно для того, чтобы прийти к убеждению, что без предварительного знакомства с характером того почитания, каким общества, живущие условиями родового быта, окружают своих мертвых, невозможно ясное понимание духа родовых порядков. Говоря это, я тем самым утверждаю, что во всех древнейших памятниках немецкого, славянского или кельтского права, памятниках, возникших уже в христианскую эру, трудно найти ключ к пониманию того нередко сложного умственного процесса, который привел к установлению порядков, стоящих в полном противоречии с современными нам понятиями о правде и справедливости. Кто ограничится изучением родового строя на основании только что названных источников, необходимо придет к мысли не искать за изучаемыми им нормами вызвавших их к жизни принципов, так как он убедится, что принципы эти лежат в заслоненных перед ним христианством языческих верованиях. Только обращаясь к аналогиям, только восполняя недостающие ему сведения о религиозном миросозерцании родовых сообществ данными этнографии, в состоянии он достигнуть той всесторонности и отчетливости в понимании родовых порядков, без которых все его построения не могут иметь иного значения, кроме более или менее остроумных догадок.
Вот с этой-то точки зрения изучение родовых порядков кавказских горцев и призвано оказать неоценимую услугу зачинающейся только науке общественной эмбриологии, так как дает ей возможность проникнуть в мельчайшие подробности того миросозерцания, из которого вытекло и в котором нашло свое оправдание родовое устройство.
К числу наиболее спорных вопросов родового устройства надо отнести, наряду с только что рассмотренным, и вопрос о характере, какой в эпоху его господства носит отношение человека к земле. Бок о бок с писателями, утверждающими, что родовое устройство есть особенность кочевых племен и что ему чуждо поэтому всякое понятие о праве частной или общинной собственности на землю, попадаются и такие, которые думают, что родовой быт может быть продолжен и в эпоху перехода постоянной оседлости; отдельные семьи, обособившись от общего ствола, расчищают каждая больший или меньший участок земли из-под леса, кустарника и болота и, в силу приложения своего индивидуального труда к его обработке, приобретают на него права частной собственности. В новейшее время профессор Краковского университета Даргун сделал попытку оживления этой довольно уже устаревшей теории и постарался обосновать ее данными сравнительной этнографии[56 - Статья Даргуна помещена в Zeitschrift fiir die Vergleicheude Rechts Wissenschaft, изд. Колером.]. В России того же воззрения придерживаются профессора Б. Н. Чичерин и Сергеевич[57 - Опыты по истории русского права Б. Н. Чичерина и его полемика со мной в критическом обозрении за 1878 год. О В. И. Сергеевиче см. его статью в журн. Министерства народного просвещения, перепечатана в его книге «Лекция и исследования по истории русского права».].
Кавказская этнография не оправдывает ни одного из только что упомянутых учений. Она указывает нам и на возможность сохранения родовых порядков при переходе от кочевого быта к оседлому, и на произвольность утверждения, что установление постоянных отношений к земле необходимо ведет к возникновению частной собственности. Она учит, что при родовом устройстве одинаково возможны и такие порядки, при которых нет другой земельной собственности, кроме племенной, и такие, при которых земля составляет достояние отдельных родов или их соединений, братств. Сосредоточение ее в руках родовых групп нимало не препятствует выделению известных участков земли усадебной и пахотной в обособленное владение не частных семей, а дворовых общин, пользующихся ею на началах семейного коммунизма.
Доказывая все это, кавказская этнография не становится вразрез с данными сравнительной этнографии. Если бы не смешение понятий, если бы не произвольная замена термина «семейная», или «дворовая община», словом «семья», то на основании собранного Даргуном материала невозможно было бы сделать иного вывода, кроме того, что в родовую эпоху общежития земля не есть собственность частного лица, все равно женатого или холостого, а объект обладания целых групп; группы эти состоят из лиц, имеющих общий очаг, объединенных культом предков и представлением о единстве их происхождения, другими словами – таких же дворовых общин, как те, с существованием которых знакомят нас данные Кавказа. Те же данные как нельзя лучше доказывают верность положения мауреровской теории, что характер собственности зависит от топографии занятой племенем местности, что на плоскости племенная и общеродовая собственность находит более благоприятные условия для своего существования, чем в горных теснинах, и что там, где нет простора, дворовая, если не частная, собственность является общим правилом. Это положение, верность которого уже доказана по отношению к Германии и Швейцарии, вполне применима и к Кавказу. Простого сопоставления порядков землевладения плоскостных кабардинцев или осетин с теми, которых придерживаются сванеты и хевсуры, не говоря уже о горских народностях Дагестана, достаточно будет, как мы увидим, для того чтобы убедиться в той тесной связи, какая существует между топографией и землевладением. Все дошедшие до нас свидетельства о народах Северного Кавказа в период времени, предшествующий нашествию тюркских племен, сходятся в изображении их нам народами полуоседлыми, полукочевыми. Писатели XIII века Рубриквис и Контарини сходными чертами рисуют нам быт племен, живущих к северу от Кавказского хребта и к югу и востоку от Дона, или Танаиса. Народности эти, которых они называют аланами и команами и из которых первые, как указано Всеволодом Миллером, являются предками современных осетин, постепенно оттеснены были на юг тюркскими пришельцами. Большинство их попало в горы и под влиянием природных условий устроило здесь свой быт на началах, несколько отличных от тех, на каких он был построен в предшествующие столетия. Замкнутость занятых ими долин, трудность сообщения между ними, благодаря непроходимости горных ущелий в зимние месяцы, заставили недавних кочевников заняться земледелием, сделаться народом оседлым и построить свои земельные отношения на началах дворовой общины. Но память о бродячем характере их первоначальной жизни сохранило народное предание. В Чегеме и на Баксане мне и товарищу моих путешествий Миллеру пришлось записать сказания, в которых быт пришлых тюркских племен резко противополагается оседлым привычкам туземного населения[58 - См. в «Вестнике Европы» за 1884 год статью, озаглавленную «Горское общество Кабарды».]. Когда на смену тюркских племен на плоскогорье Северного Кавказа явились кабардинцы, физические условия местности сделали возможным продолжение их прежних кочевий. Не далее как в конце XVIII века Потоцкий и Паллас отмечают у кабардинцев характерную особенность народов, недавно вышедших из условий кочевого быта: склонность переносить свои аулы на расстоянии немногих лет с одного места на другое. Черкесы вообще и кабардинцы в частности, говорит последний из названных писателей, живут в селах, которые они покидают на расстоянии немногих лет, потому ли, что их гонит оттуда нечистота, или же потому, что не считают себя более достаточно защищенными против врагов.
Каждый раз, когда следует такое переселение, жители увозят с собой вместе с домашней мебелью и лучшие бревна, все остальное предается сожжению[59 - См.: Pallas P. Voyages de M. P. S. Pallas, en diffеrentes provinces de l’empire de Russie, et dans l’Asie septentrionale. V. I. P. 431.]. Кабардинский поселок, говорит в свою очередь Потоцкий, не остается на занятой им местности более четырех или пяти лет. За это время князья, стоящие во главе поселков, обыкновенно успевают перессориться со своими соседями, что вызывает в них естественное желание выселиться и избежать тем самым дальнейшей вражды. Вновь заведенные ими связи и отношения нередко также влекут их к перемене места жительства. Так как земля принадлежит в неразделенную собственность всей нации, то к такому переселению не преставляется препятствий. Об этом кочевом образе жизни, прибавляет от себя Потоцкий, историки не могли составить себе точного представления за недостатком живых примеров; но уже древним народам было известно различие между племенами, устраивавшими свои жилища на повозках, и теми, которые жили в палатках[60 - См.: Potocki J. Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase par le Comte Jean Potockii. P. 176.]. Характерный пример первых представляют нам побывавшие, как мы увидим ниже, и на Кавказе татары времен Чингисхана и Батыя. Дома, в которых они живут, говорит Рубриквис, путешественник XIII века, построены на колесах, соединенных между собой перекладинами, размер которых нередко двадцать, тридцать футов. Эти подвижные жилища передвигаются с места на место с помощью впряженных в них двенадцати и более пар быков[61 - См.: Rebruquis G. Le Voyage de Guillaume de Rubruquis. Ch. II // Bergeron P. V. I. Voyages en Asie.]. Этот вид жилищ известен был и на Кавказе, и не далее как в середине XVII века. Тавернье говорит нам о ногайцах, как о народе, проводящем свою жизнь на повозках с воздвигнутыми над ними шатрами из войлока. Палатки служат жилищем для стариков, детей и состоящей при них прислуги. У того же писателя мы находим подробности о порядке поселения и быте черкесов. Из его описаний видно, что черкесы уже имели в это время постоянные поселения, которые обыкновенно принимали форму круга со свободной площадью внутри, помещением для скота и колодцем. По его словам, черкесы мало занимаются земледелием, не сеют ни ржи, ни овса, а только ячмень для лошадей и просо для собственного употребления. Подробность, которая заслуживает быть отмеченной, это та, что, по словам Тавернье, черкесы не обрабатывают несколько лет подряд одного и того же поля, а переносят ежегодно свои плантации с места на место[62 - См.: Tavernier J.-B. Les six voyage de Jean Baptiste Tavernier. Liv. III. Ch. XIII (V. I. P. 313).]. Эта подробность, напоминающая собой знаменитое свидетельство Тацита о древних германцах: «Аrvа per annos mutant et superest ager»[63 - Земли меняются через известное число лет и поднимаются опять (лат.). – Ред.], указывает нам не только на слабую густоту населения, но на сравнительно недавний переход от кочевого быта к оседлому. Итак, во второй половине XVII века адыгейские племена, сохраняя следы некогда свойственного им кочевого быта, в то же время являются народом оседлым.
К еще более отдаленной эпохе следует отодвинуть кочевые привычки осетин и их предков алан, занимавших плоскогорье Кавказа задолго до прихода тюркских народностей и кабардинцев. Чтобы встретиться с указанием насчет бродячего состояния осетин-алан, надо подняться до IV века по P. X., времени, к которому относится свидетельство Аммиана Марцелина. «У них, – говорит этот писатель, – нет постоянных жилищ; они не занимаются земледелием, питаются мясом и больше молоком, живут в своих повозках, которые покрывают кусками древесной коры и таскают за собой по неизмеримым степям. Когда они доходят до мест, поросших травой, то располагают свои повозки в круг и питаются как звери. Как только корм весь в известном месте уничтожится, они отправляют дальше на повозках свое, так сказать, государство. На этих повозках мужчины сходятся с женщинами; там рождаются и воспитываются дети; это их постоянные жилища, и, где бы они ни кочевали, всегда они повозку считают своей родиной. Они гонят перед собой стада крупного и мелкого скота и таким образом пасут его; но преимущественно они заботятся о лошадях»[64 - См. Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Т. IV С. 50 и 51.]. Что касается до картвельских племен, то их кочевой быт должен быть отнесен еще к более глубокой древности, так как уже Страбону известно разделение их на четыре класса, из которых один был составлен из землевладельцев. Продвигаясь далее на восток, мы у ингушей еще в начале текущего столетия, как видно из сообщений Клапрота, встречаем тот же обычай частого оставления аулов и переселения с места на место, о котором нам пришлось говорить в применении к черкесам и осетинам. У чеченцев эти переселения сравнительно недавнего происхождения. По народным преданиям, чеченцы искони жили в горах, а занимаемая ими ныне плоскость к северу от Кавказского хребта была покрыта стадами и табунами бродячих ногайцев, калмыков и татар. В горах быт чеченцев далеко не носил характера кочевого. Каждый двор возделывал с большим трудом небольшие клочки способной к обработке почвы, очищая их предварительно от камней. С середины XVIII века часть чеченцев стала эмигрировать на плоскость. Беспрерывные столкновения с русскими, занимавшими ее в это время, привили им вскоре привычку к частым переселениям. При Шамиле, сообщает Лаудаев, нередко бывали случаи, когда одно и то же семейство двадцать раз подряд изменяло свое местожительство, оставляя единственными следами своего пребывания легкие и далеко не прочные постройки.
С переходом еще далее на восток и юго-восток мы вступаем в область, в которой частые переселения с места на место не известны уже давно. Путешественники XVII столетия, Олеарий и Тавернье, в одно слово говорят нам о постоянных поселениях в Кази-Кумухских, Аварских, Тарковских и Уцмийских владениях. Преимущественное занятие их жителей составляет скотоводство; но оно не устраняет собой и земледелия в размерах, достаточных для удовлетворения потребностей местного рынка. Обширные села сменяются мало отличными от сельских городскими поселениями, обыкновенно укрепленными, и этот факт сам по себе указывает на невозможность частой смены жилищ[65 - См.: Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских горцах. 1872. Т. VI. С. 50.].
Итак, мы вправе будем сказать, что кочевой быт кавказских горцев должен быть отнесен к более или менее отдаленному прошлому; а так как родовое устройство и связанные с ним порядки нераздельного земельного владения продолжают держаться и до сих пор, то необходимо будет признать, что переход к оседлости не сопровождался у них полным упадком родовой организации и аграрного коммунизма.
В чем же, спрашивается, сказывается в наши дни этот аграрный коммунизм? У адыгейских племен в том, что земля считается собственностью или всего племени, или братства с входящими в состав его родами. По показанию Белля, во всем согласному с заявлениями, делаемыми бароном Сталем, ни один черкес не вправе указать на тот или другой участок как на свою собственность; но это не мешает ему в то же время ревниво охранять занятую племенем, или братством, территорию от попыток соседей перенести на нее свои поселения или утилизировать отдельные участки как пастбища для своих стад. Каждый черкесский двор вправе занять столько земли, сколько ему нужно для посева проса или ячменя и выпаса своих стад, но распорядиться этим участком в форме продажи или дарения он не может. Сказанное относится по-преимуществу к тем черкесским племенам, которые живут по побережью Черного моря; отнюдь не к кабардинцам, племенная собственность которых, доселе уцелевшая по отношению к некоторым лесам и пастбищам, не устраняет деления остальной территории на несколько округов по числу княжеских родов, или пшэ. Мы укажем впоследствии, на каких началах устроено землевладение в пределах этих округов. В настоящее время для нас достаточно знать, что не вся занятая кабардинцами площадь составляет нераздельное владение всей нации. Следы аграрного коммунизма доселе живут в ряде обычаев, из которых мы отметим следующие, как наиболее характерные: право каждого свободного кабардинца, без различия сословий, предъявлять к соседям не то ходатайство, не то требование о безвозмездной уступке ему той или другой понравившейся ему лошади или скотины. Право это, по словам Потоцкого, в старые годы применяемо было всеми адыгейскими народностями и к носимому ими платью. Стоило только похвалить при встрече ту или другую часть чужой одежды, и лицо, польщенное такой похвалой, считало долгом обменяться костюмом с хвалителем.
Не далее как шесть, семь лет назад мне пришлось слышать от лица, заведывавшего хозяйством князя Атажухина, одного из кабардинских пшэ, жалобу на невозможность развести хорошую породу скота ввиду существования только что упомянутого обычая. Едва по Кабарде разносился слух о том, что у князя завелись стада хорошей породы, то со всех сторон начинали стекаться к нему гости, которые в преувеличенных выражениях начинали прославлять качества той или другой пары быков или коров, приглашая его тем самым наделить их ею.
Не менее характерен другой обычай адыгейских племен – обычай добровольного обложения себя каждым в пользу потерпевшего соседа. При пожарах и наводнениях черкесы охотно спешат на помощь друг другу. Разрушенное пламенем или водой здание в несколько дней воздвигается вновь совокупным трудом соседей. Считается также долгом помогать неимущему при покупке им жены или при уплате падающего на него выкупа за преступление.
У осетин, как подробнее указано мной в другом месте[66 - См.: Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Т. I. Гл. Имущественные отношения осетин.], племенная собственность не оставила никаких следов. Господствующим типом землевладения является в Осетии дворовая, или что то же – общинно-семейная, собственность.
Пахоти и луга находятся обыкновенно в нераздельном владении живущих под одной кровлей семей; пастбища и леса, наоборот, принадлежат всем дворам, входящим в состав одного и того же аула, подчас даже нескольких аулов. Аулы эти в прежнее время обыкновенно занимаемы были разветвлениями одного какого-нибудь рода; в настоящее же время они служат местом жительства нескольких родов. Никакие частные заимки на протяжении принадлежащей аулу пустоши не считаются дозволенными иначе, как с предварительного согласия всего аула. Судебная практика осетин представляет случаи, в которых воздвигнутые в противность этому правилу постройки подвергаемы были разрушению со стороны аульных жителей, исполнявших постановление общего схода.
Что касается картвельских народностей, то, занесенные судьбой в узкие горные долины, не представляющие простора для развития обширных территориальных общин, они рано выработали у себя тип если не частной, то дворовой собственности. О ней упоминается уже в путешествии Шардена.
Вся Мингрелия, сообщает этот путешественник, не знает ни сел, ни городов, если не говорить о двух деревнях, расположенных на берегу моря. Усадьбы жителей разбросаны на протяжении всей страны; трудно сделать тысячу шагов, не встретив трех или четырех близко лежащих друг от друга дворов. В этих дворах мингрельцы живут только в мирное время; при набегах же соседей они ищут убежища в особых крепостцах, или городищах, доступ к которым заслонен плетнями и наваленным по дороге лесом[67 - См.: Shardin J. Journal de Voyage du chevalier Chardin en Perse-par la Colchide. Р. 77.].
Система дворовых поселений, нередко принимающих форму хуторов и пересекаемых лишь редкими селениями, доселе встречается у сванет, хевсур, пшавов и тушин.
Редкость годной к обработке земли и необходимость большей относительно затраты капитала и труда на ее возделывание – причины того, что способная к утилизации площадь находится у них всецело в подворном владении и нераздельную собственность одного или нескольких родов составляют только пастбища и леса.
Семейная община, или двор, является также обычным собственником пахотных и сенокосных участков – одинаково среди ингушей, чеченцев и разнообразнейших народностей, населяющих собой Дагестан. Способная к обработке площадь, с трудом освобожденная от покрывающих ее камней, часто окружается у чеченцев каменными оградами[68 - См.: Klaproth J. Voyage au Caucase et en Gеorgie. Т. I. С. 404.]. Покидая по причине безземелия свои расположенные в горах усадьбы, отделившаяся от рода ветвь не оставляет их в неограниченную собственность прочих членов «тайпы», то есть рода, но позволяет пользование под условием платежа ей особого взноса, именуемого «бер»[69 - См.: Лаудаев У. Чеченское племя // Там же. С. 15.].
Только неспособная к земледельческой утилизации площадь да дикорастущий лес остаются у чеченцев, как общее правило, в нераздельном владении.
У горцев Дагестана, как и у лезгин Закатальского округа, совместное владение пастбищами и лесами встречается бок о бок с подворной собственностью в применении к пахоти и лугам. Никто не вправе делать заимки в общинной пустоши и лесе, не получив на то предварительного согласия всей общины. Весьма характерны в этом отношении следующие приговоры закатальского народного суда, записанные мной в бытность мою в округе. Житель селения Белоканы Махмед Али Курбан-оглы жалуется на захват соседом его «ахо», или земли, полученной от расчистки леса. По справкам оказывается, что спорный участок подвергся корчеванию без разрешения «векилей» общества (то есть сельских начальников в нем). Постановлено: отобрать землю у истца и передать ее обществу[70 - Дело, разбиравшееся в закатальском народном суде 2 марта 1878 года.]. Другой случай: жалоба подается на самих векилей, которые обвиняются в присоединении к общественной земле заимки (ахо), сделанной истцом. Так как судебное следствие выяснило, что жалобщик произвольно открыл свое ахо, то постановлено удержать его расчистку за обществом[71 - Дело от 12 марта 1878 года.].
Все сказанное нами доселе оправдывает, кажется, тот общий вывод, что родовые порядки не предполагают необходимого господства одной какой-либо формы землевладения, что нельзя поэтому говорить о родовых порядках, как исключающих по существу всякий другой вид собственности, кроме той, участниками которой являются члены одного и того же рода. Характер местности, служащей для поселения родовых групп, во многом обусловливает их отношение к земле. Там, где, как на кабардинской плоскости, природа не установила особых границ для территориального распространения отдельных родов, возможно удержание как племенной, или народной, так и братской собственности. Наоборот, там, где роды по причине тесноты долин принуждены занять своими ветвями нередко замкнутые друг от друга местности, распространенным типом собственности является не родовая, а дворовая; но чего мы нигде не встречаем – так это подавляющего господства частной собственности, сосредоточенной в руках отдельных пар, или индивидуальных семей. Другой вывод, на который наводит изучение фактов кавказского землевладения – это отсутствие между общинно-родовым и общинно-сельским землевладением той строгой грани отличия, какая проводится обыкновенно исследователями германских, кельтских или славянских древностей. Очевидно, что, если видеть в роде группу лиц, имеющих общего родоначальника и отличающихся единством происхождения, а в сельской общине – связанных отношениями соседства и совладения членов разных родов, то различие между обоими сведется к тому, какое существует между кровным и территориальным союзом, между разветвившейся семьей и землевладельческой артелью. Но если, придерживаясь данных кавказской этнографии, видеть в родах экзогамические союзы с общим их членам родовым культом и коллективным владением занятой ими площади, а в сельских общинах – эндогамические союзы, члены которых связаны одним фактом совладения, то различие между обоими и самый процесс их обособления друг от друга придется искать далеко не в том, в чем их искали доселе.
Поселение в одной местности членов разных родов, в котором видели источник происхождения сельской общины, может и не иметь такого последствия. Усыновленный черкесским родом чужеродец, устраивая свою жизнь в родовом поселке, не изменяет еще тем характера этого поселка; точно также как присоединившийся к сильному роду, или тохуму, слабый род не становится в Дагестане причиной, по которой род переходит в сельскую общину, так как и в том, и в другом случае между соединяющимися в одно целое индивидами и группами устанавливаются и общность культа, и общность брачных запретов. Ни того, ни другого не бывает тогда, когда принадлежащие к разным родам семьи, не становясь членами общего братства, в то же время селятся бок о бок и оставляют в общем владении часть занятой ими местности.
Возникшее таким порядком селение тем отличается от родового поселка, что населяющие его семьи придерживаются каждая своего домашнего культа и в то же время свободно вступают друг с другом в брачное общение. Мы не ошибемся поэтому, если скажем в заключение, что различие между родом и сельской общиной сводится, во-первых, к тому, что первый является не только экономическим, но и религиозным союзом, и, во-вторых, к тому, что род обязательно придерживается начал экзогамии, которая для сельской общины не обязательна.
Данные кавказского землевладения поучительны еще в том отношении, что показывают, что система периодического передела полей, которую большинство исследователей еще недавно соединяло с древнейшими порядками собственности, на самом деле нимало ни отвечает этому представлению. Мы встречаем у черкесов и кабардинцев существование племенной, братской и родовой собственности на землю и рядом с этим господство переложной системы хозяйства – этой первобытнейшей формы земледелия; и в то же время переделы, возобновляемые в раз и навсегда определенные сроки, совершенно неизвестны этим народностями. У чеченцев и ингушей господство нераздельносемейного, или подворного, владения землей также исключает собой всякую мысль о переделах. С этими переделами мы встречаемся только в плоскостной части Грузии, сельскохозяйственные условия которой, очевидно, отнюдь не могут быть названы более архаичными, чем черкесские или осетинские.
Таким образом, и по этому вопросу данные кавказоведения являются новым подтверждением тех выводов, которые установлены сравнительной этнографией, доказывающей, как мы видели выше, что на низших ступенях общественности место сельской общины с периодически переделяемыми полями занимает община семейная, чуждая переделов и придерживающаяся начал полного имущественного коммунизма не только в сфере производства, но и в сфере потребления. Едва ли не самым спорным вопросом в теории родового быта является вопрос о том, какой характер носила современная ему организация суда и управления.
У первых по времени историков германского права – Эйхгорна, Филипса и Рогге, как и у представителей теории родового быта в древнейшей истории русских и западных славян, обыкновенно говорится о родовых старейшинах и народных собраниях, как о первых органах правительственной и судебной власти. Только в новейшее время параллельное изучение древнекельтского и германского права навело некоторых исследователей на мысль о том, что выбираемый сторонами посреднический суд, пожалуй, должен быть признан более старинной формой отправления правосудия. Суды ирландских брегонов и франкских рахимбургов подведены были под понятие посреднического суда; но ни у кого, быть может, этот взгляд на древнейший характер суда не проведен с такой обстоятельностью и полнотой, как в недавно отпечатанной монографии Декляреля, озаглавленной «Суд у первобытных народов»[72 - См.: Revue historique de droit fran9ais et еtranger, 1889, первые 3 вып.].
В своих заключениях автор руководствуется, как он сам говорит, между прочим, тем материалом, какой для решения этого вопроса дают ему обнародованные мной сведения об осетинском процессе. Я полагаю, что автор не ошибается, высказывая ту мысль, что данные кавказской этнографии призваны пролить яркий свет на характер суда в эпоху господства родовых порядков. Вот, в частности, те выводы, какие могут быть сделаны на основании их по занимающему нас вопросу.
Обычному праву родовых общин известно одновременное существование двух видов подсудности: первая обнимает собой преступления, проступки и правонарушения, совершенные в родственной среде; эти, в свою очередь, распадаются на такие, при которых обидчик и обиженный являются членами одного и того двора, и на такие, при которых обидчик и обиженный состоят членами разных дворов. Первые разбираются тем самым лицом, в руках которого находится заведывание религиозными и имущественными интересами двора. Лицо это занимает у черкесов, чеченцев, осетин и грузинских горцев то самое положение, какое в южно-славянских задругах принадлежит «домачину», а в великорусских больших семьях «набольшему». Старшинство по летам обыкновенно указывает осетинскому «каау» и черкесскому «огг», или что то же – двору или семейной общине, кого поставить во главе себя. Только при неспособности старшего по возрасту следует выбор старейшины со стороны всех совершеннолетних членов двора. Власть старейшины далеко не является деспотической: он не более, как первый между равными; постановляемые им приговоры не являются его единоличными решениями, а обыкновенно предлагаются на обсуждение всех совершеннолетних мужчин управляемой им семейной общины.
Из сказанного уже следует, что там, где удержалось начало семейного коммунизма, где, как, например, у осетин и ингушей, встречаются дворы, обнимающие собой целые десятки семей, власть мужа над женой и отца над детьми далеко не является столь произвольной, как в тех малых семьях, в которых она не встречает ограничений со стороны семейного старейшины и семейного совета. Неудивительно поэтому, если у ингушей и вообще у чеченцев, у которых еще Рейнегс отметил существование дворов с сорока и пятидесятью членами в каждом, дети пользуются гораздо большей независимостью, нежели в Чечне, например, где более распространена малая семья и где до последнего времени отец имел право жизни и смерти над своими домочадцами. О характере тех дел, какие подлежат разбирательству дворового старейшины и окружающего его совета родственников, можно судить по некоторым примерам: дворовый старейшина принуждает мужа прогнать виновную в неверности жену и произносит над лицом, виновным в брато- и отцеубийстве, приговор отвержения.
В тех местностях, в которых физические условия не являлись препятствием к поселению бок о бок отдельных разветвлений одного и того же рода, наряду со старейшинами отдельных дворов мы встречаем и родовых старшин. Нельзя связывать с этим понятием представления о какой-то избирательной или наследственной должности с раз и навсегда установленными обязанностями и правами. Старейшинами в роде считались все те, которые своим возрастом, своей воинской доблестью и смелыми набегами, своей мудростью и справедливостью успевали снискать себе доверие своих собратий.