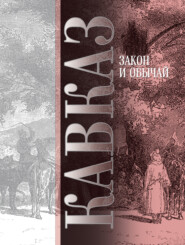По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Закон и обычай на Кавказе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они объясняют его происхождение тем обстоятельством, что в Хевсуретии, расположенной на ровных покатостях, так мало удобной к обработке земли, что приходится дорожить каждым ее клочком; вот почему, говорят они, мы не считаем нужным отводить ее под кладбище и на расстоянии немногих лет, обыкновенно семи, собираем распавшиеся кости наших покойников и бросаем их в общую яму; таким образом освобождается место для новых мертвецов, и земля не пропадает даром. Хевсуры, по-видимому, далеки от мысли, что однохарактерная практика, вызванная ничем иным, как религиозными предписаниями «Авесты», не далее как в XVII веке продолжала еще держаться у гебров в окрестностях Испагани. Когда для новых покойников не окажется более места в каплице, говорит Шарден, гебры бросают в устроенную среди каплицы яму, однохарактерную с той, какую я видел в Анатори, наиболее подвергнувшиеся тлению тела и на место их кладут новые[115 - Cм.: Shardin J. Journal de Voyage du chevalier Chardin en Perse-par la Colchide. V. III. P. 131.].
Не одни только хевсуры воздерживаются от погребения своих мертвецов; того же обычая придерживаются на Кавказе и соседние с ними племена. Я упомянул уже о кистинах, как о народе, следовавшем еще недавно тому же порядку выставления мертвых в особо устроенных для них каплицах. В настоящее время я приведу отрывок из очерка экономического быта ингушей, автор которого Грабовский, весьма далекий от мысли искать в обычаях горцев следы воздействия древних религиозных законодательств Востока, довольствуется теми объяснениями, какие дают им сами горцы. «Недостаток земли, – говорит Грабовский, – так ощутителен, что у ингушей не имеется даже обыкновенных кладбищ; трупы умерших кладутся ими в нарочно устроенные склепы. Подобный обычай погребения, как говорят сами жители, сложился единственно вследствие недостатка земли. Это показание подтверждается самым наглядным образом: склепы обыкновенно находятся на таких местах, где действительно сделать что-нибудь другое было нельзя»[116 - Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка Ингушовского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. 1870. Т. III. С. 13.].
Похоронные обряды далеко не представляют у хевсур и соседних с ними горцев единственного пережитка тех религиозных воззрений, выразителем которых является «Авеста». Ее учение о чистом и нечистом, связь, в которую она приводит осквернение путем прикосновения с нечистыми предметами и одержимость этих предметов злыми духами, признание ею нечистыми не только всего, что не имеет еще или лишилось жизни, поэтому одинаково ребенка в утробе матери и мертвого тела, но и всех отделений живого организма, как то: женских очищений, обрезанных волос и ногтей и т. п., – все это с наглядностью сказывается в тех мелочных предписаниях, какими хевсуры обставляют такие повседневные факты, как обрезывание волос и ногтей, наступление у женщин периода очищения или беременности. Предписание «Авесты» держать женщин в эпоху менструаций в специально отведенном для них помещении с целью сделать невозможным осквернение ими домашнего очага «даже взглядом» объясняет нам источник того обычая, в силу которого в хевсурских дворах поодаль от усадьбы встречается плетенка из хвороста, обмазанная навозом и называемая «босель»; в этой плетенке женщина обязательно проводит ежемесячно период очищения, вкушая пищу отдельно от прочей семьи. В той же «Авесте» надо искать ключ к объяснению и другого обычая, по которому хевсурские женщины проводят время родов в особой избушке, построенной вдали от селения и называемой «кохи». Следуя предписаниям «Авесты», родильница во все время своего принужденного заточения получает пищу через проделанное в избушке отверстие; когда ребенок родится на свет, он, согласно воззрениям той же «Авесты», признается нечистым, так как состоял в прикосновении с выделяемыми живым организмом мертвыми телами. На этом основании родильница и ребенок не сразу переходят в общую саклю, а проводят еще три дня в упомянутой выше босели; домик, в котором произошли самые роды, как оскверненный ими, подлежит сожжению. Мать и новорожденный выходят из босели не раньше, как по совершении над ними обряда омовения. Этот обряд, примененный к ребенку, принимается нередко у хевсур за обряд крещения.
После сказанного не может быть сомнения в том, что источник предполагаемого у хевсур обряда крещения совершенно иной; что же касается омовения самой роженицы, то оно, в полном соответствии с предписаниями «Авесты», производится не простой водой, а коровьей уриной[117 - Сведения эти собраны были мной на местах; некоторые из них отмечены были много лет назад Эристовым. См. его «Хевсурия и хевсуры» (пер. Вейденбаума) // Записки Кавказского отдела Императорского русского географического общества. 1881. С. 73.].
Не одни хевсуры придерживаются этих странных обыкновений, стеснительность которых, как я имел случай убедиться, они в настоящее время вполне сознают. Сто лет назад Рейнегс вносил в свои путевые заметки следующую подробность о тушинах, грузинском племени, живущем по ту сторону от Ацунского перевала: собирающаяся родить женщина должна удалиться у них из селения. В глухой, никем не посещаемой местности она производит на свет ребенка и остается с ним в течение следующих сорока дней. Никто не заботится о ней, никто не доставляет ей пищи, за исключением какой-нибудь старухи, потерявшей уже всякую надежду сделаться матерью.
По словам Хоранова, пшавы, южные соседи хевсур, также смотрят на женщину как на существо нечистое, по крайней мере во время менструации и родов. Женщина проводит эти периоды своей жизни в особо устроенной для этого хижине, куда никто не смеет проникнуть; пищу ей подают через отверстие, опасаясь оскверниться прикосновением к ней[118 - См.: Сборник материалов по этнографии, изд. при Дашковском этнографическом музее. 1888. Вып. III. С. 92.].
К числу оригинальнейших постановлений «Авесты» надо отнести те статьи «Вендидад», в которых говорится об осквернении себя прикосновением к обрезанным волосам и ногтям, каждый раз, когда такое соприкосновение не сопровождается совершением предписуемых религией обрядов. Падающие с головы волосы, обрезываемые ногти и сбриваемая борода, как мертвые отделения живого организма, считаются состоящими во власти злых духов; их предписывается поэтому держать вдалеке от огня и воды и зарывать в землю, сопровождая это действие произнесением изгоняющих беса заклинаний[119 - См.: Fargad. XVII–I, II.].
Любопытен тот факт, что хевсуры и пшавы не бросают остриженных ими волос и ногтей и обыкновенно прячут их в землю из опасения, чтобы ими не овладели черти[120 - См.: Сборник материалов по этнографии, изд. при Дашковском этнографическом музее. Вып. III. С. 89.].
Проникающее «Авесту» представление, что мир наполнен невидимыми для глаза злыми духами, с которыми человек должен вести постоянную вражду, наглядно выступает в повседневной жизни картвельских племен и других горцев Кавказа. Рейнегс передает нам следующие интересные подробности о суевериях грузин. Они думают, говорит он, что злые духи особенно охотно нападают после родов как на саму роженицу, так и на ребенка; чтобы предохранить обоих от их дурного влияния, грузины кладут под подушку роженицы кинжал или меч ее мужа. Над одеялом прикрепляют красного цвета сетку, на узлах которой повешены свинцовые шарики одинаковой величины; делается это с той целью, чтобы сеть, сохраняя всегда неизменное положение и прикрывая роженицу со всех сторон, не дала возможности злым духам проникнуть под ее одеяло. Сорок дней проводит роженица в этом положении, не смея выйти из постели или показаться на чистый воздух. Величайшим опасностям, по воззрению грузин, подвергнется она в том случае, если позволит себе обрезать ногти или волосы – очевидно, по той же причине немедленного овладения ими нечистой силой[121 - Cм.: Reineggs J. Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus. T. II.].
Не менее живо сознание необходимости ежечасной борьбы со злыми духами и в восточной половине Кавказа. Еще А. Олеарий отметил существование в Тарку, обыкновенном местопребывании шамхалов, следующего свадебного ритуала: каждый гость приносит с собой стрелу и пускает ее вверх стены или потолок брачного покоя. Стрелы эти остаются в стене, пока сами не выпадут или не сгниют там[122 - См.: Путешествия Адама Олеария в Московию и Персию в 1633 и 1639 годах. С. 993.].
У осетин тот же обычай принимает несколько иную форму: вводя невесту в дом, шафер несколько раз машет по воздуху кинжалом, как бы направляя его против невидимых злых духов. Ближайшее сообщение с огнем, этим чистым, по возрению «Авесты», элементом, доселе признается мингрельцами одним из средств освобождения себя от нечистой силы. Этим объясняется причина, по которой в Мингрелии накануне Вознесения устраивают в окрестностях церквей большие огни, через которые перепрыгивают одинаково взрослые и дети. Поступая таким образом, говорит Мурье, думают спугнуть дьяволов, из которых самый могущественный будто обитает на Табакеле – горной возвышенности, расположенной в окрестностях Мартвили. В Грузии те же обряды совершаются во вторник Страстной недели Великого поста. Предание гласит, что просветительница Грузии святая Нина, видя, что обращенные ею грузины продолжают по-прежнему зажигать большие огни, воспользовалась этим для того, чтобы чудом укрепить их в новой вере: она сама развела большой костер и перепрыгнула через него невредимой. С этого времени, гласит предание, языческий по своему происхождению обряд сделался христианским. Он известен в Грузии под названием «чариа-коконоба» и строго соблюдается в ней и в наши дни[123 - Cм.: Mourier J. L’еtat religieux de la Mingrelie.].
Этот обряд тем более интересен для нас, что мы встречаем его наряду со многими другими переживаниями иранской культуры и в нашей собственной среде. Хорошо известен обычай, по которому накануне Ивана Купалы разводятся на полях большие огни, через которые о босу ногу перепрыгивают в Малороссии парубки и дивчины. Что обращение к огню имеет своей задачей изгнание нечистой силы, которой, по воззрениям «Авесты», особенно подвержены женщины и девушки, видно из того странного свадебного обряда, который продолжал держаться в Слободской Украине в прошлом столетии. При въезде в женихов дом, пишет Григорий Калиновский в 1776 году, посреди ворот зажигается куль соломы, через который переезжают едущие с невестой в телеге и все следующие за ними[124 - См.: Калиновский Г. Описание свадебных украинских простонародных обрядов, сочиненное Григорием Калиновским в 1776 году; см. также: Харьковский сборник (изд. B. Касперовым). 1889. Вып. III. С. 170.].
Борьба с нечистой силой, которая ставится «Авестой» в обязанность человеку, должна принимать, между прочим, форму истребления нечистых животных. Весь животный мир, следуя общему закону вселенной, учит «Авеста», распадается на две части: на твари, созданные Ариманом и состоящие в услужении этого представителя злого начала, и на те, творцом которых был Агура Мазда (верховный бог Ормузд), представитель доброго начала[125 - Cм.: Darmesteter J. Introduction to the Vendidad. P. LXXIII.]. Борьба добра со злом, составляющая задачу человеческой жизни, происходит не без содействия добрых животных, и в частности – собаки, быка и коровы; последние доставляют человеку урину, омовение которой освобождает его от нечистой силы; собака же считается самым опасным врагом того трупного беса, который овладевает телом усопшего немедленно после кончины и покидает это тело не раньше, как после того, как собаки пожрут на нем все подлежащее тлению. Нет поэтому в глазах последователя «Авесты» искупления для того, кто убьет собаку: он лишается всех благ будущей жизни, а за увечье собаки подвергается на земле самому страшному наказанию – разрезанию тела на части. Наоборот, истребление нечистых животных считается «Авестой» прямой обязанностью верующих; такими животными считаются: черепахи, змеи, ящерицы, жабы, лягушки и вообще земноводные. Гебры относят к ним также муравьев, крыс и мышей, в особенности же кота; отвращение, какое внушает им это животное, говорит Шинон, причина тому, что они никогда не держат его при доме. Предпочитается переносить терпеливо те неудобства, какие им причиняют крысы и мыши.
Все это надо иметь ввиду при объяснении следующих странных обычаев осетин, чеченцев, пшавов и хевсуров. Потоцкий сообщает в своем дневнике, что у ингушей обычным способом взыскания долга бывает обращение к приятелю, или кунаку, с заявлением: такой-то из твоего рода должен мне столько-то, позаботься о том, чтобы платеж был мне сделан, так как я привел с собой собаку и убью ее над мертвыми твоего рода. Эта угроза приводит ингуша в трепет, и он немедленно соглашается исполнить поставленное ему требование[126 - См.: Potocki J. Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase par le Comte Jean Potockii. P. 126.].
В этом рассказе идет речь об обычном у горцев способе удовлетворения гражданской претензии, который, как мы видели, состоял в том, что истец самоуправно принуждал к уплате долга любого из членов одного с ответчиком рода; но особенность приводимого случая состоит в том, что самоуправство принимает на этот раз не форму имущественного захвата, а форму нравственного принуждения, и что это нравственное принуждение сказывается в обещании убить собаку на могиле предков того лица, против которого истец направил свою претензию.
Какое, спрашивается, основание имеет ингуш к тому, чтобы противиться такому убийству? Примем во внимание прежде всего то, что собака, хотя и принадлежит к числу животных, посвященных Ормузду, а следовательно, чистых, но труп ее в той же мере, как и труп человека, считается обиталищем нечистого духа (drug nasu). Всякое соприкосновение с ним необходимо влечет за собой осквернение.
Смешивая древнеиранскую точку зрения с той, какой по отношению к собаке придерживается Коран, ингуш в наше время часто прибегает к следующему заклинанию. Если, говорит он, сопровождая свои слова ударами шашкой по собаке, такой-то виновен в том, в чем я его подозреваю, то пусть эта собака будет кормом его покойников[127 - См.: Сборник сведений по Терской области, изд. Н. А. Благовещенским. Т. I. C. 281.]. Во времена Потоцкого ответчик, отрицавший существование долга, в доказательство истины утверждаемого принуждался ингушами к совершению следующего обряда: перед одним из священных утесов, или так называемых «уерда», игравших в народной мифологии ингушей роль божеств, ставили смесь собачьего кала и костей; после этого должник в присутствии кредитора произносил буквально следующее заклинание: «Если я говорю неправду, то да понесут мои предки на своих плечах покойников истца по лежащему пред нами пути, после орошения его предварительно дождевой водой и при ярком солнечном свете». Какое, спрашивается, основание могут иметь предки уклоняться от следования тому пути, о котором говорится в заклинании? Только то, что путь этот осквернен присутствием на нем отбросков живых организмов. А таким он может представиться только воображению ревностного последователя «Авесты», верующего, что осквернение неизбежно падает на того, кто пройдет по тропе, на которой предварительно пронесен был труп – все равно, человека или собаки – или только отброски живых организмов вроде тех, о которых идет речь в заклинании. Отметим еще упоминание о дождевой воде, смешивающей с землей только что упомянутые нечистоты и оскверняющей ее ими, а также ярко светящее солнце, не оставляющее верующим сомнения в характере производимого ими действия. Заклинание, текст которого приведен мной выше, очевидно, имеет силу только в глазах последователя «Авесты», и значение, придаваемое ему ингушами, служит немалым доказательством распространенности между ними некогда тех самых религиозных воззрений, которых придерживались древние персы и которые доселе исповедаются гебрами.
Не менее характерен порядок принесения очистительной присяги у хевсур – порядок, которого также придерживаются и пшавы. С большей наглядностью, как мы сейчас увидим, сказывается в нем вера иранцев в неизбежность осквернения не только для живых, но и для покойников каждый раз, когда они приходят в соприкосновение с таким нечистым животным, как кошка. В 1881 году, рассказывает Худадов, я в качестве врача приехал в центр Пирикительской Хевсуретии, в аул Гули; здесь мне пришлось быть свидетелем изумительного зрелища: на пригорке возле молельни стоял обвиняемый в воровстве хевсур Джакола; бледный, дрожащий от волнения, с живым котенком в левой и с палкой в правой руке, он громким, но нетвердым голосом произносил проклятие тем, кто знает, что он невиновен и не свидетельствует об этом: «Пусть эта кошка, – выкрикивал он, прикасаясь палкой к голове котенка, – сопровождает покойника того, кто украл котел; пусть она также оскверняет своим присутствием и мяуканьем поминки того, кто знает вора и не называет его; пусть на том свете сядет она ему на плечо, на голову». Произнесши заклинание, он швырнул котенка и твердой ногой направился к толпе. Эффект был поразительный: «Нет, не он вор!», – раздалось со всех сторон[128 - Худадов Н. А. Заметки о Хевсуретии. С. 20.].
До 1859 года оба вида присяги – присяга над трупом собаки и присяга над трупом кошки – были известны и осетинам. В этом году народ принял решение не обращаться впредь к этим противоречащим христианству «остаткам древнего язычества»[129 - См.: О вредных обычаях осетин // Леонтонович Ф. И. Адаты каказских горцев. Т. II.].
Одно религиозное суеверие пшавов вызвано теми же мотивами, что и только что упомянутая очистительная присяга хевсуров. Пшавы полагают, что тот, кто, убив кошку, будет хранить ее ноги в своей шапке, тем самым заслужит себе прощение всех грехов. Как присяга хевсур, так и суеверие пшавов имеют своим основанием высказываемое «Авестой» положение, что прикосновение к нечистому животному, а таким, как мы видели, считается кошка, оскверняет человека, так как этим животным владеет бес. Кто убивает беса и одержимую им нечистую тварь, совершает тем самым подвиг благочестия. Если поэтому постоянное сопровождение предков котенком, о котором говорится в хевсурском заклинании, неизбежно должно повести за собой их непрекращающиеся мучения в аду, то ношение в шапке ножек кошки, как наглядное доказательство тому, что долг истинного ревнителя веры, состоящий в убиении нечистых животных, исполнен, очевидно, не может иметь для носящего ничего иного, кроме добрых последствий.
Открытие аналогии между древним персидским правом и современными обычаями осетин, чеченцев и грузинских горцев представляет, несомненно, больше трудностей, чем те, какие стоят на пути при определении влияния, оказанного на Кавказ всей вообще иранской культурой. Трудности эти двоякого рода: во-первых, всякое древнее право вообще и в особенности право арийских народностей запечатлено известным характером, который неизменно повторяется законодательствами и обычаями народов, стоящих на одинаковой ступени развития или принадлежащих к общему племенному стволу. При этих условиях трудно сказать с определенностью, что то или другое учреждение воспроизводит собой особенности правовых воззрений того, а не иного народа, что оно непременно иранское по источнику, а не общеарийское и даже общечеловеческое в том смысле, что равно свойственно всем народам, переживающим родовую фазу общежития. Обратный вывод был бы справедлив лишь в том случае, если бы можно было доказать, что аналогия не ограничивается одними общими и основными чертами изучаемого учреждения, но может быть отмечена и в самых мелочных подробностях. Вторая причина, еще более затрудняющая исследователя, это скудость и отрывочность свидетельств о древнейшем праве иранцев. Она объясняется тем фактом, что вместо двадцати одного тома, которые, согласно одному сохранившемуся в Индостане преданию, заключало в себе изложение религиозно-нравственных и юридических воззрений древних персов, до нас в полном виде дошла одна только «Авеста». Девятый и девятнадцатый тома, которые, согласно тому же преданию, заключали в себе нормы процессуального, гражданского и уголовного права персов, погибли для нас безвозвратно. Чтобы восстановить хотя бы некоторые черты древнеиранского права, Шпигель, Гайгер и другие исследователи утилизируют частью отрывочные свидетельства греческих писателей, частью уцелевшие до нас также далеко не в полном виде священные книги персов, религиозные верования которых имеют своим источником «Авесту». В недавнее время, наконец, французский ученый Родольф Дарест сделал попытку восполнить этот довольно скудный материал теми данными, какие о древнем праве персов содержит в себе еврейский Талмуд.
Пользуясь установленными новейшей литературой данными по отношению к особенностям древнеперсидского права, мы попытаемся отметить в юридических обычаях кавказских горцев наиболее согласные с ними черты.
Мы не будем останавливаться на отмеченных уже нами порядках эндогамического брака, одинакового в Древней Персии и в современном Дагестане, ни на необходимости искать в «Авесте» объяснения некоторым формам осетинской, ингушской или хевсурской присяги. Но мы считаем нужным указать как в семейном, так и в процессуальном праве горцев такие подробности, которые целиком воспроизводятся священными книгами иранцев и парсов.
Парсы Индии, говорит Дарест, различают пять видов брака: 1) «шог зан», или брак с молодой девушкой, становящейся законной супругой; 2) «иоган зан», при котором выговаривается, что произошедший от брака ребенок будет считаться сыном отца или старшего брата мужа, смотря по тому, какой из двух умер без наследников мужского пола; 3) «сатар зан», когда то же условие выговаривается в пользу третьего лица, не принадлежащего к числу родственников и принимающего на себя обязательство совершить денежный платеж в пользу мужа; 4) «сакир зан», или брак на вдове; 5) «ходаск рай зан», или брак на девушке, вступающей в супружество против воли ее родителей; такой брак, значится в текстах, должен быть признан худшим из всех[130 - См.: Spiegel. Avesta. T. III. P. 678. Bundehesch (West. Pahlav. V. I. P. 142). Gatger. Ost-irani R. P. 245.].
Что в только что приведенной классификации следует видеть черты древнеиранского права, доказывает существование однохарактерных с упоминаемой ею форм брака Персии XVII века, эпохи, к которой относится путешествие Шардена в эту страну. Вот что говорит нам французский путешественник об одном из трех видов супружеского сожития, допускаемых обычаями персов: наряду с законным супружеством, говорит он, повторяя в этом отношении свидетельство иезуита Шинона, персы заключают еще временные браки со взятыми ими на время женщинами; эти браки известны под наименованием «м?ta» (Шинон пишет «мoutta», Шарден – «мoutaa»). Число таких временных жен неопределенно. Взявший их к себе мужчина должен, по окончании срока, дать им выговоренное наперед вознаграждение. Платеж должен быть произведен полностью даже в том случае, когда одна из таких жен будет отпущена раньше срока. Временные браки заключаются обыкновенно с женщинами, общественное положение которых ниже того, какое принадлежит их жениху. Если, говорит Шарден, кто-нибудь пожелает приобрести такую женщину навсегда, он достигает этого, нанявши ее сроком на девяносто лет. И не обращаясь к этому средству, персы, по словам Шардена, имеют возможность продолжить существование подобных союзов, возобновляя их по истечении срока. Шинон, а за ним Шарден настаивают на необходимости отличать эти временные браки от того, дозволенного обычаем, сожития, в какое персы вступают со своими рабынями. Такие связи известны у них под особым наименованием «сanise»; они не сопровождаются никакими платежами и могут быть заключаемы и расторгаемы неопределенное число раз и во всякое время. Хотя временные жены и не поставлены у персов на одну доску с конкубинами, они могут, тем не менее, быть ссужаемы во временное пользование посторонним лицам. Магометанское законодательство не устанавливает на этот счет других ограничений, кроме следующих. В течение сорока дней по окончании срока сожития с прежним супругом временная жена должна воздерживаться от сожития с новым супругом. Это сорокодневие признается нужным для «очищения».
Только что упомянутые временные браки персов представляют аналогию с теми, которые священные книги парсов обозначают термином «сатар зан», то есть браков, основу которых составляет временная ссуда жены постороннему лицу под условием вознаграждения.
«Сакир зан», или брак на вдове, вполне отвечает общему персам с индусами и греками, не говоря уже о евреях, левирату, или деверству.
Если сопоставить с только что упомянутыми формами брака те, с какими знакомит нас обычное право осетин, то нам необходимо будет признать между ними решительное сходство: наряду с законной женой осетинам известны жены по имени, или «номулус», которых они приобретают во временное пользование, платя им меньшую плату, чем та, какая полагается при вступлении в законный брак. Свою именную жену осетин может ссудить кому угодно, причем дети, рожденные ею от сожития с посторонним человеком, считаются детьми ее мужа. Юридическое положение номулус выше положения, занимаемого конкубинами: ее нельзя продать, подобно тому, как продают любовницу-рабыню, муж может только отпустить ее раньше положенного срока, после чего она приобретает право свободно располагать собой; но, пока она остается под одним кровом со своим временным мужем, она имеет право требовать от него всего, нужного для своего содержания. Дети, рождаемые ею от ее владельца или от того лица, которому муж уступит ее в сожительство, не считаются незаконными детьми наподобие тех, какие прижиты от наложниц-рабынь, и при прекращении линии законных наследников мужского пола вступают во все права детей, рожденных от равных браков. Если прибавить к сказанному, что осетинам известен левират в форме обязательного сожития вдовы с ближайшим родственником мужа и что, подобно парсам, они допускают сожитие вдовы даже с посторонним человеком с целью рождения ею ребенка, который считался бы сыном ее бездетного супруга, то сходство осетинских брачных порядков с парсийскими покажется нам доходящим до полного тождества. Правда, ссуда жен с целью восстановления племени умершего известна также и древним сводам Индии, но в этом можно видеть только подтверждение давно установленному положению о более тесной связи между индусской и иранской ветвью арийцев, наглядным проявлением чего является и большее сходство их юридических обычаев. Оно нимало не подрывает силы того общего положения, что брачные порядки осетин являются выражением тех же нравственных и юридических воззрений, которые некогда были господствующими на протяжении всего Ирана и, в частности, в Древней Персии.
В сфере процессуального права общность кавказских юридических порядков с теми, родиной которых был Древний Иран, сказывается в существовании одинаково в древней Персии и в Древней Грузии одних и тех же видов судебных испытаний, или ордалий. При общераспространенности в древнем праве этого вида судебных доказательств невозможно было бы утверждать, что его присутствие в Древней Грузии не имеет другого источника, кроме влияния, оказанного на нее религиозным законодательством Ирана. Но, если принять во внимание, что распространенные на Кавказе виды ордалий те самые, которые упоминаются «Авестой», и что порядок производства испытания представляет поразительное сходство с тем, о котором говорят иранские источники, то трудно будет отрешиться от того впечатления, что в них следует видеть нечто не самобытно развившееся, а привнесенное извне, и притом ниоткуда более, как из Ирана, культура которого так могущественно влияла на культуру Кавказа. То обстоятельство, что, как замечает Бакрадзе, об ордалиях нет упоминаний ни в древнегрузинской и армянской письменности, ни в доселе обнародованных грузинских актах и что о них говорится исключительно в «уложении царя Вахтанга», до некоторой степени подкрепляет наш взгляд на самый источник их происхождения. В самом деле, трудно допустить, чтобы самостоятельно развившееся учреждение оставило так мало следов своего существования, – и легче помирить этот факт с предположением о заимствовании и перенесении извне. Источником, из которого сделано было это заимствование, были не «Русская правда» и новгородская «Судная грамота», как ошибочно думает Бакрадзе[131 - См.: Сборник законов грузинского царя Вахтанга VI, Тифлис (Тбилиси. – Ред.), 1887. С. 6 (прим.).], а древнее законодательство иранцев. Судебные испытания иранцев, как показывают и Гейгер[132 - См.: Geiger W. Ost-Iranische Kultur im Alterum. P. 461.], а за ним Дарест[133 - См.: Etudes d’histoire du droit. P. 105.], были троякого рода: испытания с помощью кипятка с опущенным в него золотым кольцом, которое испытуемый должен был вынуть; испытание с помощью погружения в текущую воду, под поверхностью которой надо было пробыть положенное судьями время; и испытание с помощью огня, по всей вероятности, принимавшее форму зажженного костра. Не обо всех этих видах испытаний идет речь в уложении царя Вахтанга. Статьи 6, 8 и 9 знают только об испытании раскаленным железом и кипятком, и те же виды ордалий упоминаются в тех протоколах судебных решений гурийских мдиван – бегов, которые Бакрадзе удалось открыть во время его путешествия по Гурии и Аджару[134 - См. Бакрадзе Д. З. Археологическое путешествие по Гурии и Аджара. СПб., 1878. С. 341, 351.]. В Осетии, адаты которой ни словом не упоминают об ордалиях, еще сохранились поговорки, невольно наводящие на мысль об общераспространенности некогда в народном быту того вида судебных испытаний, который состоял в погружении подвергавшегося ему лица в холодную воду. «Праведного даже вода не несет», – говорит одна из этих пословиц, выражая этим ту мысль, что говорящий истину останется под водой положенное судьями время, а не всплывет на ее поверхность. В основании такого убеждения, послужившего источником для упоминаемой «Авестой» водной ордалии, лежит религиозное верование иранцев, что вода, эта «чистая» стихия, согласна принять в свое лоно только невинного; виновного же она выбрасывает на свою поверхность. В той же Осетии, по словам Г. Шанаева, доселе сохранился один обряд, происхождение которого невольно наводит на мысль о существовании некогда в ней того же испытания «кострищем», на которое можно найти, по словам Гейгера, намеки в древнеиранских источниках. «При кражах движимого имущества, по преимуществу же мелких женских вещей, – говорит он, – подозреваемому назначалась потерпевшим лицом присяга: перепрыгнуть через зажженную волчью жилу».
Зажигали высушенную волчью жилу, опускали ее в небольшую яму и слегка прикрывали землей, чтобы дать ей возможность дымиться. Подозреваемого приглашали затем перепрыгнуть через нее. Если подозреваемый действительно был виновен и тем не менее решался сделать этот прыжок, то последствием его поступка, согласно верованию осетин, неизбежно должно было сделаться искривление: он на всю жизнь становился калекой. Очевидно, что в том виде, в каком только что описанное испытание применяется в настоящее время, оно не может ни в каком случае произвести того последствия, на которое рассчитано, то есть калечества, происходящего от обжога. А это дает повод думать, что в былое время испытание это практиковалось в несколько иной форме: земли не присыпали, и искривление могло произойти самым естественным образом, каждый раз, когда вмешательство божества не спасало испытуемого от природного действия огня. Таким образом, в осетинской форме огневой ордалии следует видеть не иное что, как извращение первоначального ее характера, предполагавшего у осетин такое же прохождение через «кострище», как и у древних иранцев. Если прибавить к сказанному, что в доказательство правоты утверждаемого осетины до сих пор употребляют выражение «Пройду через огонь» и что употребляемый ими термин для обозначения присяги «артхарын» в буквальном переводе значит «пожирать огонь», то предположение о существовании у них некогда иранского испытания костром приобретает еще большее вероятие. В народной фантазии человек, проходящий невредимо через огонь, рисуется пожирающим эту стихию[135 - Ср.: Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Т. II. С. 255.].
Что касается грузинского порядка испытания путем кипятка, то он представляет большое сходство с тем, о котором говорит «Авеста». Статья 8 уложения Вахтанга заключает в себе на этот счет следующее: перед испытанием невинности через каленое железо и кипяток, кои обыкновенно назначаются по одинаковым делам, обвиняемому дается время на молитву. В это время на лобном месте кипятят в котле воду; на котел кладут палочку, а к ней привешивают нитку, на которой и опускают в воду железный, медный или серебряный крестик без мощей и без всякого на нем изображения. Когда вода закипит, то котел снимается с огня и обвиняемый опускает руку в кипяток во имя Божие и вынимает ею крестик. Тотчас по совершении этого обряда обвиняемому надевают на руку мешочек, завязывают его и прилагают к узлу печать. Рука остается в этом положении до третьего дня, после чего снимают мешочек. Если рука окажется не обожженной, то обвиняемый прав; если же она обожжена, то неправ и должен быть наказан, по мере преступления.
В описанном ритуале можно отметить все черты предписываемого «Авестой» испытания кипящей водой; единственной чертой отличия является замена золотого кольца крестиком. Источник этой перемены лежит, очевидно, в видоизменении старинного обряда позднейшей по времени проповедью христианского учения. «Раскаленное железо и кипяток одно и то же» – таков буквальный перевод грузинского текста Вахтангова уложения. Этим объясняется, почему в Грузии от выбора судьи зависело назначить подсудимому то или другое испытание. Самый порядок производства испытания с помощью железа передается уложением Вахтанга в следующих словах: железо раскаляется докрасна; затем, положивши обвиняемому на руку лист бумаги, кладут на него орудие испытания; обвиняемый делает с ним три шага и бросает его на землю; если железо не обожгло ему руки, он считается правым, и наоборот. Передавая со слов грузинского свода подробности только что описанного ритуала, итальянец Гамба в своем путешествии в южную Россию замечает: так как обычай дозволял покрывать руку испытуемого более или менее толстой бумагой, то в руках судей всегда была возможность повлиять на самый исход испытания: стоило только положить на руку более толстую бумагу, и испытуемый избегал обжога[136 - Voyage dans la Russie merid?onale depius 1820 jusqu’en 1824, par le chevalier Hamba, Consul du roi ? Tiphlis. Paris, 1826. V. I. P. 313.]. В «Современном обычае и древнем законе» я указал на те приемы, к каким в разное время и в разных местностях прибегали и доселе прибегают с целью направить испытание к наперед намеченному результату; к числу этих приемов необходимо отнести и тот, к которому прибегали грузинские судьи.
Только возможностью такого обхода закона и объясняется факт удержания в Грузии почти до наших дней этого вида судебных доказательств, нелепость которого невольно бросается в глаза всякому.
Считать ордалии нововведением Вахтангова кодекса, как, по-видимому, склонен думать Бакрадзе, я не вижу основания, хотя бы по той причине, что в описании Колхиды или Мингрелии, составленном миссионером Ламберти[137 - Кодекс Вахтанга VI появился не позже 1707 года, года смерти этого короля. Отчет Ламберти о состоянии Мингрелии обнародован Тевено в 1696 году, но написан десятками лет раньше.] до появления Вахтангова кодекса, уже идет речь о погружении руки в котел с кипятком и о вынутии из него обвиняемым опущенного в него предварительно крестика.
В отчете Ламберти внимания заслуживает следующая черта: вода в котле должна быть согрета с помощью топлива из особо предназначенного для этого леса, который он называет «bois de serment»[138 - Клятвенным лесом, или лесом присяги (фр.). – Ред.][139 - См.: Thivenot M. Relation de Voyages curioux. V. I. P. 37.].
Эта подробность интересна потому, что, как видно из данных, сообщаемых Гейгером, не всякий лес считался в Древней Персии одинаково годным для поддержания огня на очаге, а только тот, который специально предназначаем был для этой цели; таким образом, сходство древнеиранских и грузинских обрядов восполняется еще новой чертой.
Труднее доказать непосредственную филиацию правовых идей между последователями «Авесты» и современными горцами Кавказа в сфере уголовного права. Все, что мы можем сказать на этот счет, это то, что немногие постановления, какие иранские источники содержат в себе по вопросу о кровной мести и выкупах, или композициях, нимало не противоречат ни общераспространенности кровомщения на Кавказе, ни возможности откупиться от мести, уплатив цену крови («цор» – как называют ее одинаково сванеты, пшавы и хевсуры). Фраза, влагаемая персидским анналистом Табари в уста одного из последних представителей династий Сассанидов, «кто не убьет убийцу своего отца, должен считаться незаконорожденным», могла бы как нельзя лучше передать общераспространенное на Кавказе убеждение, что отмщение составляет священную обязанность детей. Солидарность родственников в платеже и соответственно в получении выкупов за «кровь», о которой, в применении к древним персам, говорят нам Геродот, Аммиан и Марцелин, доселе составляет общее явление на Кавказе, и в частности – среди осетин и картвельских горцев. То же может быть сказано и о другой, не менее характерной черте, одинаково присущей и древнеперсидскому праву, и современным обычаям кавказских горцев; я разумею отсутствие кровомщения в родственной среде и проистекающую отсюда безответственность убийств, совершенных мужем над женой, братом над братом и отцом над сыном[140 - Cм.: Dareste R. L’ancien droit des Perses // Etudes d’histoire du droit. Р. 114 и 115.].
Если я не настаиваю на этих аналогиях, как на доказательстве тесного соотношения между древним правом иранцев и современными обычаями осетин, пшавов и хевсур, то потому только, что указанные черты составляют, как я имел уже случай заметить, общую характеристику всякого права, развившегося на почве родового быта.
Больше оснований доказывать влияние древнеиранских правовых идей на те обычаи, которые доселе продолжают держаться в Пшавии и Хевсуретии по вопросу о средствах добиться исполнения обязательства. Талмуд отмечает ту особенность древнеперсидского права, что кредитор имеет обыкновение обращаться с требованием об удовлетворении долга не к самому должнику, а к постороннему лицу, принявшему на себя обязанность поручителя. Это лицо, как общее правило, гарантировало себя от денежной неисправности должника требованием от него особого залога. Описываемые Талмудом порядки немудрено узнать в тех, какие доселе продолжают держаться среди хевсур. В случае неисправности кредитор требует у них уплаты не от должника, а от постороннего лица, которое носит название «музевали», что в буквальном переводе значит «на мне лежит долг». Музевали обязан удовлетворить кредитора и приобретает тем самым право требовать от должника уплаты ему не простой, а двойной суммы его долга. Не видеть ли в этом добавочном платеже, производимом должником в пользу музевали, тот равный сумме долга залог, каким в Древней Персии поручители обеспечивали себя по отношению к должникам?[141 - Ibid. P. 113; см. также: Худадов Н. А. Заметки о Хевсуретии. С. 20 и 21.] Обычай музевальства одинаково распространен в Хевсуретии, Пшавии и Тушетии и составляет, таким образом, общую черту в быте грузинских горцев. Отрывочность уцелевших до нас данных о договорном праве древних иранцев мешает нам продолжить наши аналогии, и мы ограничимся поэтому заявлением, что рукобитие, без которого не совершается сколько-нибудь серьезных сделок в современной Осетии, есть тот самый символический акт, которым «Вендидат» предписывает закреплять договоры и соглашения[142 - См.: Fargad. IV, II. When they strike hand in hand and make then agreement by word (Darmesteter J. The Avesta. Part I. P. 35. Note 1); Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Т. I. С. 174.].
Ни в одной сфере, однако, влияние, оказанное иранской культурой на юридические порядки кавказских горцев, не может быть прослежено с такой наглядностью, как в сфере их сословного устройства. Говоря это, я имею в виду тот факт, что в быте хевсуров, пшавов и тушин, равно как и в быте сванетов, может быть отмечено существование пополняемого не путем наследственного преемства, а путем вербовки особого класса народных жрецов, известного в Пшавии под названием хевисберов, в Хевсуретии – под наименованием деканозов и дастуров, а в Сванетии – под прозвищем папи. Из этих имен одно заслуживает особенного внимания, так как оно буквально то же, что и название жрецов в «Авесте» – я разумею термин «дастур».
Этот термин, говорит Говелак, обозначает собой верховных представителей класса жрецов в «Авесте», обязанность которых не только знать на память текст священных книг, но и толковать их при случае[143 - Cм.: Hovelacque A. L’Avesta. P. 442.]. Хевсурский дастур, наоборот, далеко не первое лицо в церковной иерархии; это не более как непосредственный служитель святыни, обязанный неотлучно находиться при капище; одна из его обязанностей состоит в приготовлении выпиваемого на празднествах в честь святого пива, или бузы, которое он сливает в хранящиеся при капище железные чаны. Во время варки пива он обязан придерживаться известного ритуала: ходить разутым без шапки и пояса, во всем соблюдать чистоту и воздерживаться от всякого разговора с кем бы то ни было[144 - См.: Худадов Н. А. Указ. соч. С. 35.]. Высшими членами церковной иерархии являются те лица, которые у пшавов носят название хевисберов, то есть монахов ущелья. Вот какими чертами характеризует нам порядок назначения этих хевисберов, иначе деканозов, князь Эристов в своем описании тушинско-пшаво-хевсурского округа. Желающий носить это звание притворяется больным и затем объявляет, что видел во сне святого, который обещал ему выздоровление под условием, что он посвятит себя его служению; нередко также волю божества объявляют будущему деканозу гадалки – мужчины и женщины, известные под названием «кадаги». Ищущий звания деканоза или хевисбера отправляется в капище в сообществе имеющихся уже деканозов, закалывает перед капищем корову – это посвященное Ормузду животное, угощает мясом ее своих товарищей и дает клятву строго соблюдать обряды религии и употреблять в пищу только мясо рогатого скота. В отличие от пшавов и хевсуров, тушины знают наследственность жреческих функций. На деканозе лежит обязанность соблюдать чистоту и целомудрие, не прикасаться к трупам умерших или к телу новорожденного в продолжение известного времени, следующего после рождения, не ступать на след менструирующих женщин, не употреблять в пищу ни свинины, ни кур, ни яиц и довольствоваться мясом посвященного Ормузду рогатого скота. Когда к деканозу народ обратится за разузнанием воли божества или того, или другого святого, он начинает с того, что совершает в его честь жертвоприношение, после чего начинает бесноваться: вертится на месте, бьет себя камнем в грудь и в изнеможении падает на землю; пролежав на ней некоторое время в притворном бесчувствии, он вскакивает на ноги и с пеной на губах вещает волю святого.
У пшавов компетенция хевисбери, по словам Хаханова, была некогда весьма обширной: он соединял права и обязанности языческого жреца, библейского судьи и христианского священника; в его руках сосредоточивалась духовная и светская власть; в военное время он предводительствовал ополчением, в мирное – призываем был как посредник к судебному разбирательству. Его религиозные обязанности и доселе весьма разнообразны: он закалывает принесенных в жертву животных, произносит заклинания над больными и благословляет брачующихся; он же назначает служителей церкви, или «дастуров»[145 - Литература о народных жрецах Хевсуретии, Пшавии и Тушетии довольно обширна. Укажу на Записки о тушино-ишаво-хевсурском округе кн. Р. Д. Эристова. 1854; Записки о Тушетии И. Цискарова. Кавказ, журн., 1849. № 8; Путешествие в Хевсуретию Д. З. Бакрадзе; записки о ней Худадова и статью о пшавах, составленную А. Хахановым на основании статей в грузинской газете «Дроэба» (Сб. материалов по этнографии, изданный Дашковским музеем. Вып. III. С. 86 и 87). Н. Дубровин, д-р Радде и кн. Мачабели не прибавляют ничего нового к собранным ранее их данным.].
Сопоставляя эти данные с теми, которые древние писатели передают нам о магах, мы без труда можем отметить поразительное сходство тех и других. Подобно магам, хевисбери, деканозы или дастуры обходятся без храмов и идолов[146 - См. на этот счет свидетельства Геродота о древних персах. Кн. VI, 9; V, 102; VIII, 109; VII, 8.], собственноручно закалывают приводимых верующими жертвенных животных, истолковывают народу волю божества, соблюдают все предписания «Авесты» насчет физической чистоты, употребляют в пищу только мясо жертвенных животных, посвященных Ормузду коров и волов[147 - Cм.: Hovelacque A. LAvesta. P. 444–449.]. Они еще так близки к своему языческому первообразу, что в совершаемых ими христианских таинствах, и в том числе в крещении и причащении, не всегда легко отличить христианские черты от языческих. Совершаемый в Пшавии хевисбери обряд крещения скорее напоминает собой предписанное «Авестой» омовение новорожденного с целью избавить его от приобретенной им в утробе матери нечистоты; а раздача дастуром собравшейся на празднество толпе пива для причащения больных представляет лишь отдаленное подобие с христианским причащением.
В народных преданиях пшавов хевисбери и их родоначальник Копала изображаются нам ведущими ожесточенную борьбу с девами, или злыми духами, нередко принимающими приписываемую им древней иранской мифологией форму драконов. В этих сказаниях сходство между народными жрецами грузинских горцев и магами Мидии и Персии так велико, что всякое дальнейшее настаивание на нем является излишним[148 - См.: Этнографическое обозрение. 1889. Вып. I. С. 138.].
Нам остается еще задаться вопросом, к какому времени следует отнести происхождение тех культурных влияний, изучение которых составило задачу настоящей главы. Я полагаю, что иранская культура наложила свою печать на кавказскую в две далеко отстоящие друг от друга эпохи и что ее влияние на северном склоне Кавказского хребра сказалось гораздо ранее, нежели на южном. Если принять во внимание, что описанные нами усыпальницы, весьма похожие на упоминаемые «Авестой» dakhme, расположены в Пирикительской Хевсуретии, то есть в той, которая тянется по южному склону Главного хребта; если иметь в виду, что своеобразная организация народного жречества, близкая по характеру к древнеперсидскому, или мидийскому, магизму, составляет особенность одних картвельских горцев и не повторяется в Осетии; что термин «дастур», которым обозначаются служители капищ у хевсур, – тот самый, какой употребляется «Авестой»; что предписания о соблюдении физической чистоты, однохарактерные с теми, о каких идет речь в «Вендидад», неизвестны осетинам; что, в отличие от осетин, хевсуры наделяют и солнце, и горы теми же гениями, или фравашами, какими наделяет их и «Авеста», – то нетрудно будет прийти к тому заключению, что в отличие от Северного Кавказа южный получил открываемые в нем следы иранской культуры из того источника и из той эпохи, в которой религиозное, нравственное и юридическое учение «Авесты» являлось вполне сложившимся.
На эту мысль наводят нас также свидетельства грузинских хроник, не раз упоминающих, как мы видели выше, о призвании из Персии «магов и огнепоклонников» в эпоху правления в ней династии Сассанидов – этих известных ревнителей авестийского вероучения.
С другой стороны, сопоставляя осетинский культ предков с тем, которым иранцы окружают своих фравашей, нельзя не отметить его большой близости к общеарийскому образцу, выражением которого может считаться культ ведийских пифисс. Гарлез справедливо отмечает тот факт, что в «Авесте» фраваши не являются исключительно душами усопших, но гениями, которыми одинаково наделены и умершие, и живущие, и имеющие явиться народные поколения. Своих фравашей имеют и божественные существа, обитающие на небе; их имеют и отдельные предметы природы. Такое воззрение, удаляющееся от общего всем арийским народностям почитания усопших душ, составляет позднейшую особенность религиозного учения «Авесты». Каков бы ни был источник этого позднейшего спиритуализма, но отсутствие его в осетинской мифологии приближает ее к той, из которой развилась со временем мифология «Авесты». Отсутствие строгого дуализма, того сосредоточения доброго и злого начал в лице двух непрестанно борющихся между собою божеств – Агурамазды и Анграманью, которое характеризует собой религиозные учения «Авесты», подкрепляет в нас уверенность в том, что переселение на Кавказ того иранского племени, потомками которого являются современные осетины, началось ранее той эпохи, в которую были составлены религиозные книги иранцев[149 - Этому заключению нимало не противоречат факты присутствия в среде осетинских богатырей, или нартов, и так называемого Амирана (то есть Аримана), так как сказание о нем, по словам Мурье, доселе распространено в Мингрелии, откуда ему легко было проникнуть и в Осетию (см.: Mourier J. L’etat religieux de la Mingrelie).]. Профессор Миллер приходит к тем же заключениям на основании данных осетинского языка. Он отмечает тот факт, что культурные слова, относящиеся к скотоводству, в осетинском языке все чисто иранского происхождения и что, наоборот, названия земледельческих орудий и некоторых злаков, не говоря уже об овощных растениях и фруктовых деревьях, – или неизвестного происхождения, или носят явные признаки заимствования; Миллер приходит на основании этого к заключению, что до поселения на Кавказе осетины были по-преимуществу народом кочевым. С другой стороны, тот факт, что осетинские названия серебра, меди и свинца урало-алтайского происхождения, приводит автора осетинских этюдов к тому убеждению, что «осетины должны были двигаться не с юга, откуда они не могли бы принести с собой урало-алтайских названий для трех металлов, а с севера, близ обильных металлами отрогов Урала, то есть пройти в Европу тем путем – между Уральским хребтом и Каспием, – по которому шли угрофинские и урало-алтайские племена, частью даже в исторические времена»[150 - См.: Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Ч. III. С. 11–15.].
«Архаичность осетинского языка, который в своей фонетике и формах представляет между всеми иранскими языками черты наибольшей старины»[151 - Там же. С. 72.], также приводит Миллера к убеждению, что переселение осетин в Европу началось задолго до появления древнейших памятников языка «Авесты». Колыбелью осетин он считает не Персию и Мидию, а лежащие к северу от них степи, представлявшие больше удобства для кочевья. Из этих-то степей, которые он признает прародиной иранцев, осетины и двинулись в юго-восточную Россию и на Северный Кавказ вместе с той массой одноплеменных с ними народностей, которых древние в разное время разумели под наименованием сарматов и алан.
Итак, происхождение следов иранской культуры на Кавказе объясняется двояко: во-первых, иммиграцией в лице осетин, доселе называющих себя иронами – иранской по происхождению народностью, иммиграцией, время которой должно быть отнесено более чем за 1000 лет до Рождества Христова и ранее составления «Авесты»; а во вторых, распространением авестийской культуры силой оружия персидскими монархами, по-преимуществу – Сассанидами, в нередко зависимой от них Грузии.
Глава II. Греческое и римско-византийское влияние
Не одни только хевсуры воздерживаются от погребения своих мертвецов; того же обычая придерживаются на Кавказе и соседние с ними племена. Я упомянул уже о кистинах, как о народе, следовавшем еще недавно тому же порядку выставления мертвых в особо устроенных для них каплицах. В настоящее время я приведу отрывок из очерка экономического быта ингушей, автор которого Грабовский, весьма далекий от мысли искать в обычаях горцев следы воздействия древних религиозных законодательств Востока, довольствуется теми объяснениями, какие дают им сами горцы. «Недостаток земли, – говорит Грабовский, – так ощутителен, что у ингушей не имеется даже обыкновенных кладбищ; трупы умерших кладутся ими в нарочно устроенные склепы. Подобный обычай погребения, как говорят сами жители, сложился единственно вследствие недостатка земли. Это показание подтверждается самым наглядным образом: склепы обыкновенно находятся на таких местах, где действительно сделать что-нибудь другое было нельзя»[116 - Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка Ингушовского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. 1870. Т. III. С. 13.].
Похоронные обряды далеко не представляют у хевсур и соседних с ними горцев единственного пережитка тех религиозных воззрений, выразителем которых является «Авеста». Ее учение о чистом и нечистом, связь, в которую она приводит осквернение путем прикосновения с нечистыми предметами и одержимость этих предметов злыми духами, признание ею нечистыми не только всего, что не имеет еще или лишилось жизни, поэтому одинаково ребенка в утробе матери и мертвого тела, но и всех отделений живого организма, как то: женских очищений, обрезанных волос и ногтей и т. п., – все это с наглядностью сказывается в тех мелочных предписаниях, какими хевсуры обставляют такие повседневные факты, как обрезывание волос и ногтей, наступление у женщин периода очищения или беременности. Предписание «Авесты» держать женщин в эпоху менструаций в специально отведенном для них помещении с целью сделать невозможным осквернение ими домашнего очага «даже взглядом» объясняет нам источник того обычая, в силу которого в хевсурских дворах поодаль от усадьбы встречается плетенка из хвороста, обмазанная навозом и называемая «босель»; в этой плетенке женщина обязательно проводит ежемесячно период очищения, вкушая пищу отдельно от прочей семьи. В той же «Авесте» надо искать ключ к объяснению и другого обычая, по которому хевсурские женщины проводят время родов в особой избушке, построенной вдали от селения и называемой «кохи». Следуя предписаниям «Авесты», родильница во все время своего принужденного заточения получает пищу через проделанное в избушке отверстие; когда ребенок родится на свет, он, согласно воззрениям той же «Авесты», признается нечистым, так как состоял в прикосновении с выделяемыми живым организмом мертвыми телами. На этом основании родильница и ребенок не сразу переходят в общую саклю, а проводят еще три дня в упомянутой выше босели; домик, в котором произошли самые роды, как оскверненный ими, подлежит сожжению. Мать и новорожденный выходят из босели не раньше, как по совершении над ними обряда омовения. Этот обряд, примененный к ребенку, принимается нередко у хевсур за обряд крещения.
После сказанного не может быть сомнения в том, что источник предполагаемого у хевсур обряда крещения совершенно иной; что же касается омовения самой роженицы, то оно, в полном соответствии с предписаниями «Авесты», производится не простой водой, а коровьей уриной[117 - Сведения эти собраны были мной на местах; некоторые из них отмечены были много лет назад Эристовым. См. его «Хевсурия и хевсуры» (пер. Вейденбаума) // Записки Кавказского отдела Императорского русского географического общества. 1881. С. 73.].
Не одни хевсуры придерживаются этих странных обыкновений, стеснительность которых, как я имел случай убедиться, они в настоящее время вполне сознают. Сто лет назад Рейнегс вносил в свои путевые заметки следующую подробность о тушинах, грузинском племени, живущем по ту сторону от Ацунского перевала: собирающаяся родить женщина должна удалиться у них из селения. В глухой, никем не посещаемой местности она производит на свет ребенка и остается с ним в течение следующих сорока дней. Никто не заботится о ней, никто не доставляет ей пищи, за исключением какой-нибудь старухи, потерявшей уже всякую надежду сделаться матерью.
По словам Хоранова, пшавы, южные соседи хевсур, также смотрят на женщину как на существо нечистое, по крайней мере во время менструации и родов. Женщина проводит эти периоды своей жизни в особо устроенной для этого хижине, куда никто не смеет проникнуть; пищу ей подают через отверстие, опасаясь оскверниться прикосновением к ней[118 - См.: Сборник материалов по этнографии, изд. при Дашковском этнографическом музее. 1888. Вып. III. С. 92.].
К числу оригинальнейших постановлений «Авесты» надо отнести те статьи «Вендидад», в которых говорится об осквернении себя прикосновением к обрезанным волосам и ногтям, каждый раз, когда такое соприкосновение не сопровождается совершением предписуемых религией обрядов. Падающие с головы волосы, обрезываемые ногти и сбриваемая борода, как мертвые отделения живого организма, считаются состоящими во власти злых духов; их предписывается поэтому держать вдалеке от огня и воды и зарывать в землю, сопровождая это действие произнесением изгоняющих беса заклинаний[119 - См.: Fargad. XVII–I, II.].
Любопытен тот факт, что хевсуры и пшавы не бросают остриженных ими волос и ногтей и обыкновенно прячут их в землю из опасения, чтобы ими не овладели черти[120 - См.: Сборник материалов по этнографии, изд. при Дашковском этнографическом музее. Вып. III. С. 89.].
Проникающее «Авесту» представление, что мир наполнен невидимыми для глаза злыми духами, с которыми человек должен вести постоянную вражду, наглядно выступает в повседневной жизни картвельских племен и других горцев Кавказа. Рейнегс передает нам следующие интересные подробности о суевериях грузин. Они думают, говорит он, что злые духи особенно охотно нападают после родов как на саму роженицу, так и на ребенка; чтобы предохранить обоих от их дурного влияния, грузины кладут под подушку роженицы кинжал или меч ее мужа. Над одеялом прикрепляют красного цвета сетку, на узлах которой повешены свинцовые шарики одинаковой величины; делается это с той целью, чтобы сеть, сохраняя всегда неизменное положение и прикрывая роженицу со всех сторон, не дала возможности злым духам проникнуть под ее одеяло. Сорок дней проводит роженица в этом положении, не смея выйти из постели или показаться на чистый воздух. Величайшим опасностям, по воззрению грузин, подвергнется она в том случае, если позволит себе обрезать ногти или волосы – очевидно, по той же причине немедленного овладения ими нечистой силой[121 - Cм.: Reineggs J. Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus. T. II.].
Не менее живо сознание необходимости ежечасной борьбы со злыми духами и в восточной половине Кавказа. Еще А. Олеарий отметил существование в Тарку, обыкновенном местопребывании шамхалов, следующего свадебного ритуала: каждый гость приносит с собой стрелу и пускает ее вверх стены или потолок брачного покоя. Стрелы эти остаются в стене, пока сами не выпадут или не сгниют там[122 - См.: Путешествия Адама Олеария в Московию и Персию в 1633 и 1639 годах. С. 993.].
У осетин тот же обычай принимает несколько иную форму: вводя невесту в дом, шафер несколько раз машет по воздуху кинжалом, как бы направляя его против невидимых злых духов. Ближайшее сообщение с огнем, этим чистым, по возрению «Авесты», элементом, доселе признается мингрельцами одним из средств освобождения себя от нечистой силы. Этим объясняется причина, по которой в Мингрелии накануне Вознесения устраивают в окрестностях церквей большие огни, через которые перепрыгивают одинаково взрослые и дети. Поступая таким образом, говорит Мурье, думают спугнуть дьяволов, из которых самый могущественный будто обитает на Табакеле – горной возвышенности, расположенной в окрестностях Мартвили. В Грузии те же обряды совершаются во вторник Страстной недели Великого поста. Предание гласит, что просветительница Грузии святая Нина, видя, что обращенные ею грузины продолжают по-прежнему зажигать большие огни, воспользовалась этим для того, чтобы чудом укрепить их в новой вере: она сама развела большой костер и перепрыгнула через него невредимой. С этого времени, гласит предание, языческий по своему происхождению обряд сделался христианским. Он известен в Грузии под названием «чариа-коконоба» и строго соблюдается в ней и в наши дни[123 - Cм.: Mourier J. L’еtat religieux de la Mingrelie.].
Этот обряд тем более интересен для нас, что мы встречаем его наряду со многими другими переживаниями иранской культуры и в нашей собственной среде. Хорошо известен обычай, по которому накануне Ивана Купалы разводятся на полях большие огни, через которые о босу ногу перепрыгивают в Малороссии парубки и дивчины. Что обращение к огню имеет своей задачей изгнание нечистой силы, которой, по воззрениям «Авесты», особенно подвержены женщины и девушки, видно из того странного свадебного обряда, который продолжал держаться в Слободской Украине в прошлом столетии. При въезде в женихов дом, пишет Григорий Калиновский в 1776 году, посреди ворот зажигается куль соломы, через который переезжают едущие с невестой в телеге и все следующие за ними[124 - См.: Калиновский Г. Описание свадебных украинских простонародных обрядов, сочиненное Григорием Калиновским в 1776 году; см. также: Харьковский сборник (изд. B. Касперовым). 1889. Вып. III. С. 170.].
Борьба с нечистой силой, которая ставится «Авестой» в обязанность человеку, должна принимать, между прочим, форму истребления нечистых животных. Весь животный мир, следуя общему закону вселенной, учит «Авеста», распадается на две части: на твари, созданные Ариманом и состоящие в услужении этого представителя злого начала, и на те, творцом которых был Агура Мазда (верховный бог Ормузд), представитель доброго начала[125 - Cм.: Darmesteter J. Introduction to the Vendidad. P. LXXIII.]. Борьба добра со злом, составляющая задачу человеческой жизни, происходит не без содействия добрых животных, и в частности – собаки, быка и коровы; последние доставляют человеку урину, омовение которой освобождает его от нечистой силы; собака же считается самым опасным врагом того трупного беса, который овладевает телом усопшего немедленно после кончины и покидает это тело не раньше, как после того, как собаки пожрут на нем все подлежащее тлению. Нет поэтому в глазах последователя «Авесты» искупления для того, кто убьет собаку: он лишается всех благ будущей жизни, а за увечье собаки подвергается на земле самому страшному наказанию – разрезанию тела на части. Наоборот, истребление нечистых животных считается «Авестой» прямой обязанностью верующих; такими животными считаются: черепахи, змеи, ящерицы, жабы, лягушки и вообще земноводные. Гебры относят к ним также муравьев, крыс и мышей, в особенности же кота; отвращение, какое внушает им это животное, говорит Шинон, причина тому, что они никогда не держат его при доме. Предпочитается переносить терпеливо те неудобства, какие им причиняют крысы и мыши.
Все это надо иметь ввиду при объяснении следующих странных обычаев осетин, чеченцев, пшавов и хевсуров. Потоцкий сообщает в своем дневнике, что у ингушей обычным способом взыскания долга бывает обращение к приятелю, или кунаку, с заявлением: такой-то из твоего рода должен мне столько-то, позаботься о том, чтобы платеж был мне сделан, так как я привел с собой собаку и убью ее над мертвыми твоего рода. Эта угроза приводит ингуша в трепет, и он немедленно соглашается исполнить поставленное ему требование[126 - См.: Potocki J. Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase par le Comte Jean Potockii. P. 126.].
В этом рассказе идет речь об обычном у горцев способе удовлетворения гражданской претензии, который, как мы видели, состоял в том, что истец самоуправно принуждал к уплате долга любого из членов одного с ответчиком рода; но особенность приводимого случая состоит в том, что самоуправство принимает на этот раз не форму имущественного захвата, а форму нравственного принуждения, и что это нравственное принуждение сказывается в обещании убить собаку на могиле предков того лица, против которого истец направил свою претензию.
Какое, спрашивается, основание имеет ингуш к тому, чтобы противиться такому убийству? Примем во внимание прежде всего то, что собака, хотя и принадлежит к числу животных, посвященных Ормузду, а следовательно, чистых, но труп ее в той же мере, как и труп человека, считается обиталищем нечистого духа (drug nasu). Всякое соприкосновение с ним необходимо влечет за собой осквернение.
Смешивая древнеиранскую точку зрения с той, какой по отношению к собаке придерживается Коран, ингуш в наше время часто прибегает к следующему заклинанию. Если, говорит он, сопровождая свои слова ударами шашкой по собаке, такой-то виновен в том, в чем я его подозреваю, то пусть эта собака будет кормом его покойников[127 - См.: Сборник сведений по Терской области, изд. Н. А. Благовещенским. Т. I. C. 281.]. Во времена Потоцкого ответчик, отрицавший существование долга, в доказательство истины утверждаемого принуждался ингушами к совершению следующего обряда: перед одним из священных утесов, или так называемых «уерда», игравших в народной мифологии ингушей роль божеств, ставили смесь собачьего кала и костей; после этого должник в присутствии кредитора произносил буквально следующее заклинание: «Если я говорю неправду, то да понесут мои предки на своих плечах покойников истца по лежащему пред нами пути, после орошения его предварительно дождевой водой и при ярком солнечном свете». Какое, спрашивается, основание могут иметь предки уклоняться от следования тому пути, о котором говорится в заклинании? Только то, что путь этот осквернен присутствием на нем отбросков живых организмов. А таким он может представиться только воображению ревностного последователя «Авесты», верующего, что осквернение неизбежно падает на того, кто пройдет по тропе, на которой предварительно пронесен был труп – все равно, человека или собаки – или только отброски живых организмов вроде тех, о которых идет речь в заклинании. Отметим еще упоминание о дождевой воде, смешивающей с землей только что упомянутые нечистоты и оскверняющей ее ими, а также ярко светящее солнце, не оставляющее верующим сомнения в характере производимого ими действия. Заклинание, текст которого приведен мной выше, очевидно, имеет силу только в глазах последователя «Авесты», и значение, придаваемое ему ингушами, служит немалым доказательством распространенности между ними некогда тех самых религиозных воззрений, которых придерживались древние персы и которые доселе исповедаются гебрами.
Не менее характерен порядок принесения очистительной присяги у хевсур – порядок, которого также придерживаются и пшавы. С большей наглядностью, как мы сейчас увидим, сказывается в нем вера иранцев в неизбежность осквернения не только для живых, но и для покойников каждый раз, когда они приходят в соприкосновение с таким нечистым животным, как кошка. В 1881 году, рассказывает Худадов, я в качестве врача приехал в центр Пирикительской Хевсуретии, в аул Гули; здесь мне пришлось быть свидетелем изумительного зрелища: на пригорке возле молельни стоял обвиняемый в воровстве хевсур Джакола; бледный, дрожащий от волнения, с живым котенком в левой и с палкой в правой руке, он громким, но нетвердым голосом произносил проклятие тем, кто знает, что он невиновен и не свидетельствует об этом: «Пусть эта кошка, – выкрикивал он, прикасаясь палкой к голове котенка, – сопровождает покойника того, кто украл котел; пусть она также оскверняет своим присутствием и мяуканьем поминки того, кто знает вора и не называет его; пусть на том свете сядет она ему на плечо, на голову». Произнесши заклинание, он швырнул котенка и твердой ногой направился к толпе. Эффект был поразительный: «Нет, не он вор!», – раздалось со всех сторон[128 - Худадов Н. А. Заметки о Хевсуретии. С. 20.].
До 1859 года оба вида присяги – присяга над трупом собаки и присяга над трупом кошки – были известны и осетинам. В этом году народ принял решение не обращаться впредь к этим противоречащим христианству «остаткам древнего язычества»[129 - См.: О вредных обычаях осетин // Леонтонович Ф. И. Адаты каказских горцев. Т. II.].
Одно религиозное суеверие пшавов вызвано теми же мотивами, что и только что упомянутая очистительная присяга хевсуров. Пшавы полагают, что тот, кто, убив кошку, будет хранить ее ноги в своей шапке, тем самым заслужит себе прощение всех грехов. Как присяга хевсур, так и суеверие пшавов имеют своим основанием высказываемое «Авестой» положение, что прикосновение к нечистому животному, а таким, как мы видели, считается кошка, оскверняет человека, так как этим животным владеет бес. Кто убивает беса и одержимую им нечистую тварь, совершает тем самым подвиг благочестия. Если поэтому постоянное сопровождение предков котенком, о котором говорится в хевсурском заклинании, неизбежно должно повести за собой их непрекращающиеся мучения в аду, то ношение в шапке ножек кошки, как наглядное доказательство тому, что долг истинного ревнителя веры, состоящий в убиении нечистых животных, исполнен, очевидно, не может иметь для носящего ничего иного, кроме добрых последствий.
Открытие аналогии между древним персидским правом и современными обычаями осетин, чеченцев и грузинских горцев представляет, несомненно, больше трудностей, чем те, какие стоят на пути при определении влияния, оказанного на Кавказ всей вообще иранской культурой. Трудности эти двоякого рода: во-первых, всякое древнее право вообще и в особенности право арийских народностей запечатлено известным характером, который неизменно повторяется законодательствами и обычаями народов, стоящих на одинаковой ступени развития или принадлежащих к общему племенному стволу. При этих условиях трудно сказать с определенностью, что то или другое учреждение воспроизводит собой особенности правовых воззрений того, а не иного народа, что оно непременно иранское по источнику, а не общеарийское и даже общечеловеческое в том смысле, что равно свойственно всем народам, переживающим родовую фазу общежития. Обратный вывод был бы справедлив лишь в том случае, если бы можно было доказать, что аналогия не ограничивается одними общими и основными чертами изучаемого учреждения, но может быть отмечена и в самых мелочных подробностях. Вторая причина, еще более затрудняющая исследователя, это скудость и отрывочность свидетельств о древнейшем праве иранцев. Она объясняется тем фактом, что вместо двадцати одного тома, которые, согласно одному сохранившемуся в Индостане преданию, заключало в себе изложение религиозно-нравственных и юридических воззрений древних персов, до нас в полном виде дошла одна только «Авеста». Девятый и девятнадцатый тома, которые, согласно тому же преданию, заключали в себе нормы процессуального, гражданского и уголовного права персов, погибли для нас безвозвратно. Чтобы восстановить хотя бы некоторые черты древнеиранского права, Шпигель, Гайгер и другие исследователи утилизируют частью отрывочные свидетельства греческих писателей, частью уцелевшие до нас также далеко не в полном виде священные книги персов, религиозные верования которых имеют своим источником «Авесту». В недавнее время, наконец, французский ученый Родольф Дарест сделал попытку восполнить этот довольно скудный материал теми данными, какие о древнем праве персов содержит в себе еврейский Талмуд.
Пользуясь установленными новейшей литературой данными по отношению к особенностям древнеперсидского права, мы попытаемся отметить в юридических обычаях кавказских горцев наиболее согласные с ними черты.
Мы не будем останавливаться на отмеченных уже нами порядках эндогамического брака, одинакового в Древней Персии и в современном Дагестане, ни на необходимости искать в «Авесте» объяснения некоторым формам осетинской, ингушской или хевсурской присяги. Но мы считаем нужным указать как в семейном, так и в процессуальном праве горцев такие подробности, которые целиком воспроизводятся священными книгами иранцев и парсов.
Парсы Индии, говорит Дарест, различают пять видов брака: 1) «шог зан», или брак с молодой девушкой, становящейся законной супругой; 2) «иоган зан», при котором выговаривается, что произошедший от брака ребенок будет считаться сыном отца или старшего брата мужа, смотря по тому, какой из двух умер без наследников мужского пола; 3) «сатар зан», когда то же условие выговаривается в пользу третьего лица, не принадлежащего к числу родственников и принимающего на себя обязательство совершить денежный платеж в пользу мужа; 4) «сакир зан», или брак на вдове; 5) «ходаск рай зан», или брак на девушке, вступающей в супружество против воли ее родителей; такой брак, значится в текстах, должен быть признан худшим из всех[130 - См.: Spiegel. Avesta. T. III. P. 678. Bundehesch (West. Pahlav. V. I. P. 142). Gatger. Ost-irani R. P. 245.].
Что в только что приведенной классификации следует видеть черты древнеиранского права, доказывает существование однохарактерных с упоминаемой ею форм брака Персии XVII века, эпохи, к которой относится путешествие Шардена в эту страну. Вот что говорит нам французский путешественник об одном из трех видов супружеского сожития, допускаемых обычаями персов: наряду с законным супружеством, говорит он, повторяя в этом отношении свидетельство иезуита Шинона, персы заключают еще временные браки со взятыми ими на время женщинами; эти браки известны под наименованием «м?ta» (Шинон пишет «мoutta», Шарден – «мoutaa»). Число таких временных жен неопределенно. Взявший их к себе мужчина должен, по окончании срока, дать им выговоренное наперед вознаграждение. Платеж должен быть произведен полностью даже в том случае, когда одна из таких жен будет отпущена раньше срока. Временные браки заключаются обыкновенно с женщинами, общественное положение которых ниже того, какое принадлежит их жениху. Если, говорит Шарден, кто-нибудь пожелает приобрести такую женщину навсегда, он достигает этого, нанявши ее сроком на девяносто лет. И не обращаясь к этому средству, персы, по словам Шардена, имеют возможность продолжить существование подобных союзов, возобновляя их по истечении срока. Шинон, а за ним Шарден настаивают на необходимости отличать эти временные браки от того, дозволенного обычаем, сожития, в какое персы вступают со своими рабынями. Такие связи известны у них под особым наименованием «сanise»; они не сопровождаются никакими платежами и могут быть заключаемы и расторгаемы неопределенное число раз и во всякое время. Хотя временные жены и не поставлены у персов на одну доску с конкубинами, они могут, тем не менее, быть ссужаемы во временное пользование посторонним лицам. Магометанское законодательство не устанавливает на этот счет других ограничений, кроме следующих. В течение сорока дней по окончании срока сожития с прежним супругом временная жена должна воздерживаться от сожития с новым супругом. Это сорокодневие признается нужным для «очищения».
Только что упомянутые временные браки персов представляют аналогию с теми, которые священные книги парсов обозначают термином «сатар зан», то есть браков, основу которых составляет временная ссуда жены постороннему лицу под условием вознаграждения.
«Сакир зан», или брак на вдове, вполне отвечает общему персам с индусами и греками, не говоря уже о евреях, левирату, или деверству.
Если сопоставить с только что упомянутыми формами брака те, с какими знакомит нас обычное право осетин, то нам необходимо будет признать между ними решительное сходство: наряду с законной женой осетинам известны жены по имени, или «номулус», которых они приобретают во временное пользование, платя им меньшую плату, чем та, какая полагается при вступлении в законный брак. Свою именную жену осетин может ссудить кому угодно, причем дети, рожденные ею от сожития с посторонним человеком, считаются детьми ее мужа. Юридическое положение номулус выше положения, занимаемого конкубинами: ее нельзя продать, подобно тому, как продают любовницу-рабыню, муж может только отпустить ее раньше положенного срока, после чего она приобретает право свободно располагать собой; но, пока она остается под одним кровом со своим временным мужем, она имеет право требовать от него всего, нужного для своего содержания. Дети, рождаемые ею от ее владельца или от того лица, которому муж уступит ее в сожительство, не считаются незаконными детьми наподобие тех, какие прижиты от наложниц-рабынь, и при прекращении линии законных наследников мужского пола вступают во все права детей, рожденных от равных браков. Если прибавить к сказанному, что осетинам известен левират в форме обязательного сожития вдовы с ближайшим родственником мужа и что, подобно парсам, они допускают сожитие вдовы даже с посторонним человеком с целью рождения ею ребенка, который считался бы сыном ее бездетного супруга, то сходство осетинских брачных порядков с парсийскими покажется нам доходящим до полного тождества. Правда, ссуда жен с целью восстановления племени умершего известна также и древним сводам Индии, но в этом можно видеть только подтверждение давно установленному положению о более тесной связи между индусской и иранской ветвью арийцев, наглядным проявлением чего является и большее сходство их юридических обычаев. Оно нимало не подрывает силы того общего положения, что брачные порядки осетин являются выражением тех же нравственных и юридических воззрений, которые некогда были господствующими на протяжении всего Ирана и, в частности, в Древней Персии.
В сфере процессуального права общность кавказских юридических порядков с теми, родиной которых был Древний Иран, сказывается в существовании одинаково в древней Персии и в Древней Грузии одних и тех же видов судебных испытаний, или ордалий. При общераспространенности в древнем праве этого вида судебных доказательств невозможно было бы утверждать, что его присутствие в Древней Грузии не имеет другого источника, кроме влияния, оказанного на нее религиозным законодательством Ирана. Но, если принять во внимание, что распространенные на Кавказе виды ордалий те самые, которые упоминаются «Авестой», и что порядок производства испытания представляет поразительное сходство с тем, о котором говорят иранские источники, то трудно будет отрешиться от того впечатления, что в них следует видеть нечто не самобытно развившееся, а привнесенное извне, и притом ниоткуда более, как из Ирана, культура которого так могущественно влияла на культуру Кавказа. То обстоятельство, что, как замечает Бакрадзе, об ордалиях нет упоминаний ни в древнегрузинской и армянской письменности, ни в доселе обнародованных грузинских актах и что о них говорится исключительно в «уложении царя Вахтанга», до некоторой степени подкрепляет наш взгляд на самый источник их происхождения. В самом деле, трудно допустить, чтобы самостоятельно развившееся учреждение оставило так мало следов своего существования, – и легче помирить этот факт с предположением о заимствовании и перенесении извне. Источником, из которого сделано было это заимствование, были не «Русская правда» и новгородская «Судная грамота», как ошибочно думает Бакрадзе[131 - См.: Сборник законов грузинского царя Вахтанга VI, Тифлис (Тбилиси. – Ред.), 1887. С. 6 (прим.).], а древнее законодательство иранцев. Судебные испытания иранцев, как показывают и Гейгер[132 - См.: Geiger W. Ost-Iranische Kultur im Alterum. P. 461.], а за ним Дарест[133 - См.: Etudes d’histoire du droit. P. 105.], были троякого рода: испытания с помощью кипятка с опущенным в него золотым кольцом, которое испытуемый должен был вынуть; испытание с помощью погружения в текущую воду, под поверхностью которой надо было пробыть положенное судьями время; и испытание с помощью огня, по всей вероятности, принимавшее форму зажженного костра. Не обо всех этих видах испытаний идет речь в уложении царя Вахтанга. Статьи 6, 8 и 9 знают только об испытании раскаленным железом и кипятком, и те же виды ордалий упоминаются в тех протоколах судебных решений гурийских мдиван – бегов, которые Бакрадзе удалось открыть во время его путешествия по Гурии и Аджару[134 - См. Бакрадзе Д. З. Археологическое путешествие по Гурии и Аджара. СПб., 1878. С. 341, 351.]. В Осетии, адаты которой ни словом не упоминают об ордалиях, еще сохранились поговорки, невольно наводящие на мысль об общераспространенности некогда в народном быту того вида судебных испытаний, который состоял в погружении подвергавшегося ему лица в холодную воду. «Праведного даже вода не несет», – говорит одна из этих пословиц, выражая этим ту мысль, что говорящий истину останется под водой положенное судьями время, а не всплывет на ее поверхность. В основании такого убеждения, послужившего источником для упоминаемой «Авестой» водной ордалии, лежит религиозное верование иранцев, что вода, эта «чистая» стихия, согласна принять в свое лоно только невинного; виновного же она выбрасывает на свою поверхность. В той же Осетии, по словам Г. Шанаева, доселе сохранился один обряд, происхождение которого невольно наводит на мысль о существовании некогда в ней того же испытания «кострищем», на которое можно найти, по словам Гейгера, намеки в древнеиранских источниках. «При кражах движимого имущества, по преимуществу же мелких женских вещей, – говорит он, – подозреваемому назначалась потерпевшим лицом присяга: перепрыгнуть через зажженную волчью жилу».
Зажигали высушенную волчью жилу, опускали ее в небольшую яму и слегка прикрывали землей, чтобы дать ей возможность дымиться. Подозреваемого приглашали затем перепрыгнуть через нее. Если подозреваемый действительно был виновен и тем не менее решался сделать этот прыжок, то последствием его поступка, согласно верованию осетин, неизбежно должно было сделаться искривление: он на всю жизнь становился калекой. Очевидно, что в том виде, в каком только что описанное испытание применяется в настоящее время, оно не может ни в каком случае произвести того последствия, на которое рассчитано, то есть калечества, происходящего от обжога. А это дает повод думать, что в былое время испытание это практиковалось в несколько иной форме: земли не присыпали, и искривление могло произойти самым естественным образом, каждый раз, когда вмешательство божества не спасало испытуемого от природного действия огня. Таким образом, в осетинской форме огневой ордалии следует видеть не иное что, как извращение первоначального ее характера, предполагавшего у осетин такое же прохождение через «кострище», как и у древних иранцев. Если прибавить к сказанному, что в доказательство правоты утверждаемого осетины до сих пор употребляют выражение «Пройду через огонь» и что употребляемый ими термин для обозначения присяги «артхарын» в буквальном переводе значит «пожирать огонь», то предположение о существовании у них некогда иранского испытания костром приобретает еще большее вероятие. В народной фантазии человек, проходящий невредимо через огонь, рисуется пожирающим эту стихию[135 - Ср.: Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Т. II. С. 255.].
Что касается грузинского порядка испытания путем кипятка, то он представляет большое сходство с тем, о котором говорит «Авеста». Статья 8 уложения Вахтанга заключает в себе на этот счет следующее: перед испытанием невинности через каленое железо и кипяток, кои обыкновенно назначаются по одинаковым делам, обвиняемому дается время на молитву. В это время на лобном месте кипятят в котле воду; на котел кладут палочку, а к ней привешивают нитку, на которой и опускают в воду железный, медный или серебряный крестик без мощей и без всякого на нем изображения. Когда вода закипит, то котел снимается с огня и обвиняемый опускает руку в кипяток во имя Божие и вынимает ею крестик. Тотчас по совершении этого обряда обвиняемому надевают на руку мешочек, завязывают его и прилагают к узлу печать. Рука остается в этом положении до третьего дня, после чего снимают мешочек. Если рука окажется не обожженной, то обвиняемый прав; если же она обожжена, то неправ и должен быть наказан, по мере преступления.
В описанном ритуале можно отметить все черты предписываемого «Авестой» испытания кипящей водой; единственной чертой отличия является замена золотого кольца крестиком. Источник этой перемены лежит, очевидно, в видоизменении старинного обряда позднейшей по времени проповедью христианского учения. «Раскаленное железо и кипяток одно и то же» – таков буквальный перевод грузинского текста Вахтангова уложения. Этим объясняется, почему в Грузии от выбора судьи зависело назначить подсудимому то или другое испытание. Самый порядок производства испытания с помощью железа передается уложением Вахтанга в следующих словах: железо раскаляется докрасна; затем, положивши обвиняемому на руку лист бумаги, кладут на него орудие испытания; обвиняемый делает с ним три шага и бросает его на землю; если железо не обожгло ему руки, он считается правым, и наоборот. Передавая со слов грузинского свода подробности только что описанного ритуала, итальянец Гамба в своем путешествии в южную Россию замечает: так как обычай дозволял покрывать руку испытуемого более или менее толстой бумагой, то в руках судей всегда была возможность повлиять на самый исход испытания: стоило только положить на руку более толстую бумагу, и испытуемый избегал обжога[136 - Voyage dans la Russie merid?onale depius 1820 jusqu’en 1824, par le chevalier Hamba, Consul du roi ? Tiphlis. Paris, 1826. V. I. P. 313.]. В «Современном обычае и древнем законе» я указал на те приемы, к каким в разное время и в разных местностях прибегали и доселе прибегают с целью направить испытание к наперед намеченному результату; к числу этих приемов необходимо отнести и тот, к которому прибегали грузинские судьи.
Только возможностью такого обхода закона и объясняется факт удержания в Грузии почти до наших дней этого вида судебных доказательств, нелепость которого невольно бросается в глаза всякому.
Считать ордалии нововведением Вахтангова кодекса, как, по-видимому, склонен думать Бакрадзе, я не вижу основания, хотя бы по той причине, что в описании Колхиды или Мингрелии, составленном миссионером Ламберти[137 - Кодекс Вахтанга VI появился не позже 1707 года, года смерти этого короля. Отчет Ламберти о состоянии Мингрелии обнародован Тевено в 1696 году, но написан десятками лет раньше.] до появления Вахтангова кодекса, уже идет речь о погружении руки в котел с кипятком и о вынутии из него обвиняемым опущенного в него предварительно крестика.
В отчете Ламберти внимания заслуживает следующая черта: вода в котле должна быть согрета с помощью топлива из особо предназначенного для этого леса, который он называет «bois de serment»[138 - Клятвенным лесом, или лесом присяги (фр.). – Ред.][139 - См.: Thivenot M. Relation de Voyages curioux. V. I. P. 37.].
Эта подробность интересна потому, что, как видно из данных, сообщаемых Гейгером, не всякий лес считался в Древней Персии одинаково годным для поддержания огня на очаге, а только тот, который специально предназначаем был для этой цели; таким образом, сходство древнеиранских и грузинских обрядов восполняется еще новой чертой.
Труднее доказать непосредственную филиацию правовых идей между последователями «Авесты» и современными горцами Кавказа в сфере уголовного права. Все, что мы можем сказать на этот счет, это то, что немногие постановления, какие иранские источники содержат в себе по вопросу о кровной мести и выкупах, или композициях, нимало не противоречат ни общераспространенности кровомщения на Кавказе, ни возможности откупиться от мести, уплатив цену крови («цор» – как называют ее одинаково сванеты, пшавы и хевсуры). Фраза, влагаемая персидским анналистом Табари в уста одного из последних представителей династий Сассанидов, «кто не убьет убийцу своего отца, должен считаться незаконорожденным», могла бы как нельзя лучше передать общераспространенное на Кавказе убеждение, что отмщение составляет священную обязанность детей. Солидарность родственников в платеже и соответственно в получении выкупов за «кровь», о которой, в применении к древним персам, говорят нам Геродот, Аммиан и Марцелин, доселе составляет общее явление на Кавказе, и в частности – среди осетин и картвельских горцев. То же может быть сказано и о другой, не менее характерной черте, одинаково присущей и древнеперсидскому праву, и современным обычаям кавказских горцев; я разумею отсутствие кровомщения в родственной среде и проистекающую отсюда безответственность убийств, совершенных мужем над женой, братом над братом и отцом над сыном[140 - Cм.: Dareste R. L’ancien droit des Perses // Etudes d’histoire du droit. Р. 114 и 115.].
Если я не настаиваю на этих аналогиях, как на доказательстве тесного соотношения между древним правом иранцев и современными обычаями осетин, пшавов и хевсур, то потому только, что указанные черты составляют, как я имел уже случай заметить, общую характеристику всякого права, развившегося на почве родового быта.
Больше оснований доказывать влияние древнеиранских правовых идей на те обычаи, которые доселе продолжают держаться в Пшавии и Хевсуретии по вопросу о средствах добиться исполнения обязательства. Талмуд отмечает ту особенность древнеперсидского права, что кредитор имеет обыкновение обращаться с требованием об удовлетворении долга не к самому должнику, а к постороннему лицу, принявшему на себя обязанность поручителя. Это лицо, как общее правило, гарантировало себя от денежной неисправности должника требованием от него особого залога. Описываемые Талмудом порядки немудрено узнать в тех, какие доселе продолжают держаться среди хевсур. В случае неисправности кредитор требует у них уплаты не от должника, а от постороннего лица, которое носит название «музевали», что в буквальном переводе значит «на мне лежит долг». Музевали обязан удовлетворить кредитора и приобретает тем самым право требовать от должника уплаты ему не простой, а двойной суммы его долга. Не видеть ли в этом добавочном платеже, производимом должником в пользу музевали, тот равный сумме долга залог, каким в Древней Персии поручители обеспечивали себя по отношению к должникам?[141 - Ibid. P. 113; см. также: Худадов Н. А. Заметки о Хевсуретии. С. 20 и 21.] Обычай музевальства одинаково распространен в Хевсуретии, Пшавии и Тушетии и составляет, таким образом, общую черту в быте грузинских горцев. Отрывочность уцелевших до нас данных о договорном праве древних иранцев мешает нам продолжить наши аналогии, и мы ограничимся поэтому заявлением, что рукобитие, без которого не совершается сколько-нибудь серьезных сделок в современной Осетии, есть тот самый символический акт, которым «Вендидат» предписывает закреплять договоры и соглашения[142 - См.: Fargad. IV, II. When they strike hand in hand and make then agreement by word (Darmesteter J. The Avesta. Part I. P. 35. Note 1); Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Т. I. С. 174.].
Ни в одной сфере, однако, влияние, оказанное иранской культурой на юридические порядки кавказских горцев, не может быть прослежено с такой наглядностью, как в сфере их сословного устройства. Говоря это, я имею в виду тот факт, что в быте хевсуров, пшавов и тушин, равно как и в быте сванетов, может быть отмечено существование пополняемого не путем наследственного преемства, а путем вербовки особого класса народных жрецов, известного в Пшавии под названием хевисберов, в Хевсуретии – под наименованием деканозов и дастуров, а в Сванетии – под прозвищем папи. Из этих имен одно заслуживает особенного внимания, так как оно буквально то же, что и название жрецов в «Авесте» – я разумею термин «дастур».
Этот термин, говорит Говелак, обозначает собой верховных представителей класса жрецов в «Авесте», обязанность которых не только знать на память текст священных книг, но и толковать их при случае[143 - Cм.: Hovelacque A. L’Avesta. P. 442.]. Хевсурский дастур, наоборот, далеко не первое лицо в церковной иерархии; это не более как непосредственный служитель святыни, обязанный неотлучно находиться при капище; одна из его обязанностей состоит в приготовлении выпиваемого на празднествах в честь святого пива, или бузы, которое он сливает в хранящиеся при капище железные чаны. Во время варки пива он обязан придерживаться известного ритуала: ходить разутым без шапки и пояса, во всем соблюдать чистоту и воздерживаться от всякого разговора с кем бы то ни было[144 - См.: Худадов Н. А. Указ. соч. С. 35.]. Высшими членами церковной иерархии являются те лица, которые у пшавов носят название хевисберов, то есть монахов ущелья. Вот какими чертами характеризует нам порядок назначения этих хевисберов, иначе деканозов, князь Эристов в своем описании тушинско-пшаво-хевсурского округа. Желающий носить это звание притворяется больным и затем объявляет, что видел во сне святого, который обещал ему выздоровление под условием, что он посвятит себя его служению; нередко также волю божества объявляют будущему деканозу гадалки – мужчины и женщины, известные под названием «кадаги». Ищущий звания деканоза или хевисбера отправляется в капище в сообществе имеющихся уже деканозов, закалывает перед капищем корову – это посвященное Ормузду животное, угощает мясом ее своих товарищей и дает клятву строго соблюдать обряды религии и употреблять в пищу только мясо рогатого скота. В отличие от пшавов и хевсуров, тушины знают наследственность жреческих функций. На деканозе лежит обязанность соблюдать чистоту и целомудрие, не прикасаться к трупам умерших или к телу новорожденного в продолжение известного времени, следующего после рождения, не ступать на след менструирующих женщин, не употреблять в пищу ни свинины, ни кур, ни яиц и довольствоваться мясом посвященного Ормузду рогатого скота. Когда к деканозу народ обратится за разузнанием воли божества или того, или другого святого, он начинает с того, что совершает в его честь жертвоприношение, после чего начинает бесноваться: вертится на месте, бьет себя камнем в грудь и в изнеможении падает на землю; пролежав на ней некоторое время в притворном бесчувствии, он вскакивает на ноги и с пеной на губах вещает волю святого.
У пшавов компетенция хевисбери, по словам Хаханова, была некогда весьма обширной: он соединял права и обязанности языческого жреца, библейского судьи и христианского священника; в его руках сосредоточивалась духовная и светская власть; в военное время он предводительствовал ополчением, в мирное – призываем был как посредник к судебному разбирательству. Его религиозные обязанности и доселе весьма разнообразны: он закалывает принесенных в жертву животных, произносит заклинания над больными и благословляет брачующихся; он же назначает служителей церкви, или «дастуров»[145 - Литература о народных жрецах Хевсуретии, Пшавии и Тушетии довольно обширна. Укажу на Записки о тушино-ишаво-хевсурском округе кн. Р. Д. Эристова. 1854; Записки о Тушетии И. Цискарова. Кавказ, журн., 1849. № 8; Путешествие в Хевсуретию Д. З. Бакрадзе; записки о ней Худадова и статью о пшавах, составленную А. Хахановым на основании статей в грузинской газете «Дроэба» (Сб. материалов по этнографии, изданный Дашковским музеем. Вып. III. С. 86 и 87). Н. Дубровин, д-р Радде и кн. Мачабели не прибавляют ничего нового к собранным ранее их данным.].
Сопоставляя эти данные с теми, которые древние писатели передают нам о магах, мы без труда можем отметить поразительное сходство тех и других. Подобно магам, хевисбери, деканозы или дастуры обходятся без храмов и идолов[146 - См. на этот счет свидетельства Геродота о древних персах. Кн. VI, 9; V, 102; VIII, 109; VII, 8.], собственноручно закалывают приводимых верующими жертвенных животных, истолковывают народу волю божества, соблюдают все предписания «Авесты» насчет физической чистоты, употребляют в пищу только мясо жертвенных животных, посвященных Ормузду коров и волов[147 - Cм.: Hovelacque A. LAvesta. P. 444–449.]. Они еще так близки к своему языческому первообразу, что в совершаемых ими христианских таинствах, и в том числе в крещении и причащении, не всегда легко отличить христианские черты от языческих. Совершаемый в Пшавии хевисбери обряд крещения скорее напоминает собой предписанное «Авестой» омовение новорожденного с целью избавить его от приобретенной им в утробе матери нечистоты; а раздача дастуром собравшейся на празднество толпе пива для причащения больных представляет лишь отдаленное подобие с христианским причащением.
В народных преданиях пшавов хевисбери и их родоначальник Копала изображаются нам ведущими ожесточенную борьбу с девами, или злыми духами, нередко принимающими приписываемую им древней иранской мифологией форму драконов. В этих сказаниях сходство между народными жрецами грузинских горцев и магами Мидии и Персии так велико, что всякое дальнейшее настаивание на нем является излишним[148 - См.: Этнографическое обозрение. 1889. Вып. I. С. 138.].
Нам остается еще задаться вопросом, к какому времени следует отнести происхождение тех культурных влияний, изучение которых составило задачу настоящей главы. Я полагаю, что иранская культура наложила свою печать на кавказскую в две далеко отстоящие друг от друга эпохи и что ее влияние на северном склоне Кавказского хребра сказалось гораздо ранее, нежели на южном. Если принять во внимание, что описанные нами усыпальницы, весьма похожие на упоминаемые «Авестой» dakhme, расположены в Пирикительской Хевсуретии, то есть в той, которая тянется по южному склону Главного хребта; если иметь в виду, что своеобразная организация народного жречества, близкая по характеру к древнеперсидскому, или мидийскому, магизму, составляет особенность одних картвельских горцев и не повторяется в Осетии; что термин «дастур», которым обозначаются служители капищ у хевсур, – тот самый, какой употребляется «Авестой»; что предписания о соблюдении физической чистоты, однохарактерные с теми, о каких идет речь в «Вендидад», неизвестны осетинам; что, в отличие от осетин, хевсуры наделяют и солнце, и горы теми же гениями, или фравашами, какими наделяет их и «Авеста», – то нетрудно будет прийти к тому заключению, что в отличие от Северного Кавказа южный получил открываемые в нем следы иранской культуры из того источника и из той эпохи, в которой религиозное, нравственное и юридическое учение «Авесты» являлось вполне сложившимся.
На эту мысль наводят нас также свидетельства грузинских хроник, не раз упоминающих, как мы видели выше, о призвании из Персии «магов и огнепоклонников» в эпоху правления в ней династии Сассанидов – этих известных ревнителей авестийского вероучения.
С другой стороны, сопоставляя осетинский культ предков с тем, которым иранцы окружают своих фравашей, нельзя не отметить его большой близости к общеарийскому образцу, выражением которого может считаться культ ведийских пифисс. Гарлез справедливо отмечает тот факт, что в «Авесте» фраваши не являются исключительно душами усопших, но гениями, которыми одинаково наделены и умершие, и живущие, и имеющие явиться народные поколения. Своих фравашей имеют и божественные существа, обитающие на небе; их имеют и отдельные предметы природы. Такое воззрение, удаляющееся от общего всем арийским народностям почитания усопших душ, составляет позднейшую особенность религиозного учения «Авесты». Каков бы ни был источник этого позднейшего спиритуализма, но отсутствие его в осетинской мифологии приближает ее к той, из которой развилась со временем мифология «Авесты». Отсутствие строгого дуализма, того сосредоточения доброго и злого начал в лице двух непрестанно борющихся между собою божеств – Агурамазды и Анграманью, которое характеризует собой религиозные учения «Авесты», подкрепляет в нас уверенность в том, что переселение на Кавказ того иранского племени, потомками которого являются современные осетины, началось ранее той эпохи, в которую были составлены религиозные книги иранцев[149 - Этому заключению нимало не противоречат факты присутствия в среде осетинских богатырей, или нартов, и так называемого Амирана (то есть Аримана), так как сказание о нем, по словам Мурье, доселе распространено в Мингрелии, откуда ему легко было проникнуть и в Осетию (см.: Mourier J. L’etat religieux de la Mingrelie).]. Профессор Миллер приходит к тем же заключениям на основании данных осетинского языка. Он отмечает тот факт, что культурные слова, относящиеся к скотоводству, в осетинском языке все чисто иранского происхождения и что, наоборот, названия земледельческих орудий и некоторых злаков, не говоря уже об овощных растениях и фруктовых деревьях, – или неизвестного происхождения, или носят явные признаки заимствования; Миллер приходит на основании этого к заключению, что до поселения на Кавказе осетины были по-преимуществу народом кочевым. С другой стороны, тот факт, что осетинские названия серебра, меди и свинца урало-алтайского происхождения, приводит автора осетинских этюдов к тому убеждению, что «осетины должны были двигаться не с юга, откуда они не могли бы принести с собой урало-алтайских названий для трех металлов, а с севера, близ обильных металлами отрогов Урала, то есть пройти в Европу тем путем – между Уральским хребтом и Каспием, – по которому шли угрофинские и урало-алтайские племена, частью даже в исторические времена»[150 - См.: Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Ч. III. С. 11–15.].
«Архаичность осетинского языка, который в своей фонетике и формах представляет между всеми иранскими языками черты наибольшей старины»[151 - Там же. С. 72.], также приводит Миллера к убеждению, что переселение осетин в Европу началось задолго до появления древнейших памятников языка «Авесты». Колыбелью осетин он считает не Персию и Мидию, а лежащие к северу от них степи, представлявшие больше удобства для кочевья. Из этих-то степей, которые он признает прародиной иранцев, осетины и двинулись в юго-восточную Россию и на Северный Кавказ вместе с той массой одноплеменных с ними народностей, которых древние в разное время разумели под наименованием сарматов и алан.
Итак, происхождение следов иранской культуры на Кавказе объясняется двояко: во-первых, иммиграцией в лице осетин, доселе называющих себя иронами – иранской по происхождению народностью, иммиграцией, время которой должно быть отнесено более чем за 1000 лет до Рождества Христова и ранее составления «Авесты»; а во вторых, распространением авестийской культуры силой оружия персидскими монархами, по-преимуществу – Сассанидами, в нередко зависимой от них Грузии.
Глава II. Греческое и римско-византийское влияние