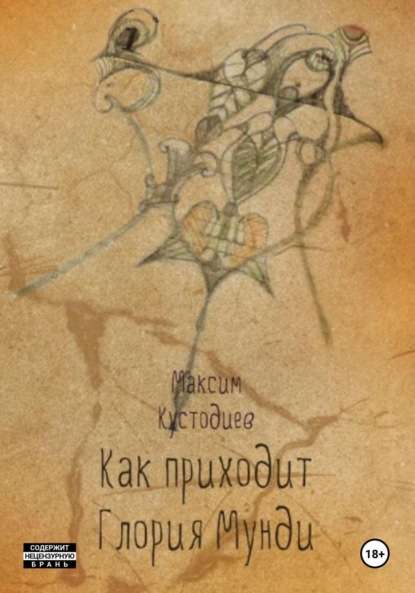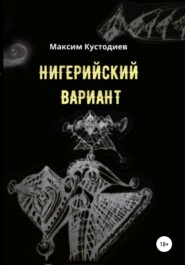По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как приходит глория мунди
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, вот еще что, – вспомнил Филипп, уже на пороге. – Никола теперь будет работать со мной.
– Увы, ничего не получится. У нас с ним договор, нотариально оформлен.
– Договор?
– Ну, да. Договор должен исполняться.
– Pacta sunt servanda.
Чебыкин насторожился:
– Что ты сказал?
– То же самое, – усмехнулся Филипп, – только на латыни.
– У меня договор, – упрямо повторил Чебыкин, понимая, что иллюзии тают. Плохо, ему не хотелось расставаться с иллюзиями. Он поискал на лице Филиппа признаки сочувствия. Но не нашел.
– Я понял, у тебя договор, – Филипп задумался о подходящем случаю тактичном эвфемизме, ничего не приходило на ум. – Засунь договор себе в жопу. Все. В цирке погасли огни.
* * *
В документе, который Филипп накануне подписал с Николой Рейшем, имелся пункт о том, что все прежние договоры, подписанные художником, считаются недействительными, а претензии со стороны третьих лиц, если таковые возникнут, будут адресовываться к Филиппу. Это был типовой контракт, вполне солидный, грамотный текст, рассчитанный на то, что Никола поставит свою подпись, в присутствии адвоката (авокадо, как упорно произносил Никола), будучи в ясном сознании, восстановив свой фармакологический баланс после процедуры в ангаре. Именно так все и было сделано. Единственное, что удивило видавшего виды адвоката, да, признаться, и самого Филиппа, это то, что Никола во что бы то ни стало захотел подписать контракт своей кровью.
6
Группа художников, объединившихся вокруг Савелия Моисеевича Зарайского в кружок «Немолодые живописцы», была довольно разнородной. Собирались, как правило, в огромной запущенной квартире Альберта Давыдова, еженедельно, а то и чаще; иногда – у кого-нибудь в мастерской. Впрочем, не всякая мастерская могла бы вместить всех. А ведь помимо собственно живописцев приглашали поэтов, артистов, музыкантов. Бывало шумно; горячо обсуждали, спорили, выпивали, расходились обычно далеко за полночь.
– Зарайский со своим кружком выставляется в манеже в октябре. Возьмут четыре твои картины, Филипп обо всем договорился. Но ты должен понравиться Савелию, – Амалия дотронулась до своих губ черной помадой. – Думаю, с этим проблем не будет.
– Савелий видел мои работы? – удивился Никола.
– Все, кроме «Петуха». Специально посетил галерею «М2». Сам отобрал три картины. Четвертой, естественно, будет «Петух».
«Смерть черного петуха» – последняя работа Николы Рейша. Он сделал ее сразу же после подписания контракта с Филиппом. Получилось неплохо.
– Галерея может не согласиться, это ведь ее собственность.
– Доверься Филиппу, он с этим разберется. Я готова, – Амалии трудно было оторваться от зеркала, и ее можно было понять. – Нам надо выходить, к Зарайскому не следует опаздывать.
Дверь им открыл юноша в бескозырке, в тельняшке, на носу пенсне. Он близоруко сощурился, уставился, как завороженный, на грудь Амалии и зачмокал тонкими губами. Положение спас полный человек с обаятельной, жизнелюбивой улыбкой.
– Ах, Лешенька, спасибо, но дальше я сам, это моя обязанность встречать гостей.
Лешенька заковылял прочь старательной походкой пьяницы, стремящегося казаться трезвым.
– Позвольте представиться: Альберт Давыдов – хозяин здешних апартаментов.
Он церемонно приложился к руке Амалии. Татуировка его восхитила.
– Какая дивная, тонкая работа! Как искусительны эти змеи!
– Вы, должно быть, поэт?
– О, нет, нисколько, но я внутри круга. Варюсь в этом с детства, отец был большим поэтом. Ананасы в шампанском, весь я в чем-то испанском и так далее. Угощайтесь шампанским, горячее еще не скоро. На закуску у нас сегодня фуа-гра. Божественная рука. Кожа матовая, гладкая, как будто подвергалась специальной обработке. Кстати, известно ли вам, друзья мои, кожа – самый большой человеческий орган, восьмая часть массы всего тела, площадь кожи около двух квадратных метров. Походите, осмотритесь, чувствуйте себя как дома.
Произнеся все это, Альберт вихрем унес за собой Амалию, Николай остался предоставлен самому себе.
В обширной прихожей все стены были увешаны картинами. Живопись членов кружка Зарайского. Естественно, значительная часть экспозиции отводилась творениям самого Савелия Моисеевича. Он вдруг возник прямо за спиной Николая, лениво разглядывающего картины, деликатно покашлял. Николай обернулся и оказался в лучах доброжелательной улыбки мастера.
– Интересуетесь творчеством коллег?
– Конечно. Есть, чему поучиться, – не растерялся Никола.
– Ах, не скромничайте, не скромничайте, – звонко рассмеялся Зарайский, как будто услышав презабавный анекдот. Он ласково смотрел на Николая, и казалось, едва сдерживается, хочет немедленно заключить его в объятия. – Что ж, я с удовольствием представлю вам работы моих товарищей, со многими из них вы прямо сегодня сможете перезнакомиться. Это вот Рубинштейн Юра, большой художник, его крымский период. Мощно, экспрессивно, как вы находите? Это Миндадзе. Здесь Стукалин Фома, по-моему, не лучшая из его работ… А здесь ваш покорный слуга. Автопортрет, узнаете? А это Ирка, супруга…
– Супруга с упругой грудью, – выпалил Николай.
– Очаровательно! – и, мгновенно сделавшись грустным, без всякого перехода, Зарайский продолжил. – Вы ведь еще совсем молоды, а посмотрите на меня.
Николай послушно посмотрел. Голова глубокого старика с серой кожей и провалившимися щеками, длинные седые волосы, довольно густые, сзади завязаны кокетливым хвостиком.
– Лысины, однако, не намечается, – Зарайский повернулся к Николаю спиной и тощим задом, демонстрируя прическу. – Автопортрет этот тридцатилетней давности. Узнать можно?
Какое-то минимальное сходство с объектом имелось, возможно, благодаря длинному сизому носу человека пьющего, но узнать в портрете Зарайского – нет, никогда! С уверенностью можно было бы сказать, что изображен некий человеческий облик, не уточняя, мужчина это либо женщина, и возраст живописца тут роли не играл. Дело заключалось в самой манере живописи. Лицо было вылеплено грубыми разноцветными мазками, и кто бы осмелился назвать эту работу законченной – эскиз, подмалевок, не более. Николай и сам писал портреты, в которых никто бы не сумел себя узнать. Но ведь он сознательно уходил от изобразительности. Для него, как для художника, лицо натурщицы или чайник с чашкой – просто повод высказаться. Хотя он умел работать как грамотный реалист и часто этим пользовался.
– Несомненно, – дипломатично ответил Николай. – Как не узнать!
– Ах, не верю! – вздохнул Зарайский. – Время безжалостно. Что оно с нами делает! Ирка моя была замечательной красавицей. А сейчас растолстела, беда. Я писал ее бесконечно. Здесь только малая часть.
Савелий Моисеевич перстом указал на группу из трех разного размера полотен, выполненных в той же хаотично-экспрессивной манере, что и автопортрет. Это были изображения обнаженной женщины в раскоряку, в более скромной позе – в ванной, наполненной зеленой водой, и, наконец, сидящей на унитазе… Последнее полотно называлось «Верхом».
– Ни один ее портрет я не продал, представьте! А уж как меня соблазняли, это что-то! Коллекционеры на части рвали, Русский музей умолял, но я ни в какую, нет.
Амалия говорила, что близкий друг Зарайского курирует отдел современного искусства в Русском музее, и там представлены все художники, входящие в кружок «Немолодые живописцы». Потому-то и надо понравиться влиятельному мастеру. Николай подумал, что ему это вполне удалось, похоже, с первого взгляда.
Из глубины необъятной квартиры донеслись звуки рояля.
– Это Альберт, наш хозяин, славный человечек. Пойдемте, послушаем?
Зарайский протянул свои огромные, сильные руки кузнеца, взял ладонь Николая в свою лапу, другую положил сверху, ласково заглянул в глаза:
– Пойдемте, будем знакомиться.
В большой комнате у окна хозяин играл на рояле что-то легкое, возможно, мазурку. Гости группками и поодиночке бродили вдоль стен, рассматривая картины. На черной крышке рояля были выставлены фужеры с шампанским, котором все активно угощались. Похоже, все здесь друг друга знали. Амалия оживленно о чем-то говорила с высокой седовласой дамой с определенно лошадиным лицом. Звяканье бокалов, обрывки разговоров, на пианиста никто не обращал внимания.
– Альберт пока занят, – сказал Зарайский, – стало быть, я возьму на себя эту приятную роль, представлю вас присутствующим. Вот, полюбуйтесь, это наш новый друг, талантливейший живописец Никола Рейш. А это…
Савелий по очереди представлял ему собравшихся, называя имена художников и поэтов, возможно, известные, но ничего не говорившие Николаю, он их тут же забыл. Да и как иначе, когда на тебя разом обрушивается лавина незнакомых лиц и имен, способных заполнить страницы толстого романа! Только один из новых знакомых, пожимая Николаю руку, вручил ему свою визитку. Савелий, между тем, в короткой пафосной речи сообщил, что сегодняшний вечер поэзии и живописи открывает уникальную возможность общения мастеров кисти с незаурядными молодыми мастерами слова. Стихи, которые вы сегодня услышите, предупредил он, могут показаться странными, непонятными. Но, если мы признаем право современного концептуального искусства полностью отойти от изобразительности, то, разумеется, мы должны быть готовы признать поэзией и творчество наших сегодняшних гостей.