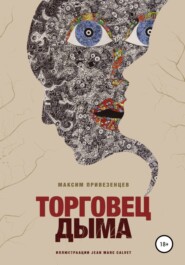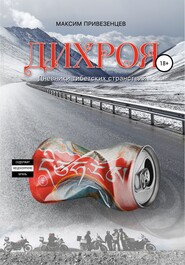По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Знаю, – хмыкнул Монго. – Ну что ж, тогда можно раскурить по сигаре и подумать, чем себя занять до того, как Мишель не устанет и не вернется к нам.
– Думаешь, он нас видел?
– Да, безусловно. Даже украдкой мне подмигнул. Он явится, и очень скоро, увидишь: танец, может быть, два, и мы уже будем втроем…
За разговором они прошли к одному из пятнистых диванов, на которых теперь, после окончания игры в шарады, более никто не сидел.
– А что же Сушкова? – разжигая сигару, поинтересовался Уваров.
– А что она?
– Она тоже будет с ним?
– Как знать… надеюсь, что нет, – щуря глаз от плотного дыма, сизым облаком поднимающегося к потолку, отозвался Столыпин.
– Она вам неприятна? – осторожно уточнил Петр Алексеевич.
– А разве может быть приятна гулящая невеста? – усмехнулся Монго.
Тут Уваров окончательно запутался. Если Столыпин понимает, что Катенька ведет себя дурно, то почему не одернет Лермонтова? Или Монго не осуждает Мишеля просто потому, что тот – его друг?
«Как у них тут все сложно…» – подумал Петр Алексеевич.
Маясь, он оглянулся через плечо, на распахнутые двери бальной залы. Там гремел вальс, и пары, черные с белым, кружились в танце. Громко стучали по паркетному полу каблуки; казалось, весь дом подпрыгивает на месте в такт музыке.
Раз-два-три, раз-два-три…
Тут в гостиную вошел растрепанный юноша в помятом сюртуке. Окинув комнату взглядом, он приметил Столыпина и с некоторым облегчением устремился к нему, на ходу воскликнув:
– Монго! Так странно видеть тебя здесь, когда остальные танцуют!
– А вот и наш жених, – шепнул Уварову Столыпин. – Легок на помине…
Поднявшись с дивана, Монго повернулся к Лопухину и с улыбкой воскликнул:
– Мой друг! Какая внезапная встреча!
Они обнялись, но тут же разошлись – Столыпин по-прежнему курил и боялся испортить наряд приятеля.
– А моя Катенька? – спросил Лопухин, отстранившись. – Танцует?
– Все там, – кивнул Монго.
Уваров тоже поднялся с дивана, решив, что сидеть неприлично.
– С Мишелем? – уточнил Лопухин.
Лицо его при этом заметно ожесточилось.
– Послушай, – сказал Монго, снова улыбаясь, но уже не искренне, а вымученно, натужно. – Ну он ведь твой друг. Как и мой. И мы оба знаем, что он просто оберегает ее от других. Только и всего.
Лопухин хотел сказать что-то еще, когда со стороны бальной залы послышались шаги. Все трое – и жених Сушковой, и Уваров с Монго – повернулись на звук и увидели Лермонтова, который вел Катеньку за руку прямиком к ее суженому.
– А вот и вы, – сказал Лопухин, скользнув по товарищу недобрым взором.
– Я тоже рад тебя видеть, – совершенно спокойно произнес Мишель.
Лопухин от злости побледнел. Казалось, быть беде, но тут Катенька отпустила руку Мишеля и, сжав запястье жениха, взмолилась:
– Поедем домой, милый мой, хороший! Мне нездоровится… надеюсь, просто усталость…
Лопухин вздрогнул, недовольно, но с каплей жалости посмотрел на Сушкову и нехотя сказал:
– Что ж, поедем… Господа.
Он кивнул Монго, обжег враждебным взглядом Лермонтова и, ненадолго задержав взор на Уварове, решительно устремился к выходу. Катя висела у него на руке, точно платок, наспех повязанный вокруг запястья – безвольная и податливая, она даже не обернулась к кавалеру, развлекавшему ее весь вечер.
Когда дверь за Лопухиным и Сушковой закрылась, Монго тихо спросил:
– И стоит оно того, Мишель?
– Увидишь, что будет, – с прежней невозмутимостью ответил Лермонтов.
Он покосился в сторону Уварова и невозмутимо предложил:
– Может, вместо этих пустых бесед, лучше представишь мне своего спутника? А то мне, право, неловко… как, надо думать, и ему.
Монго устало вздохнул, покачал головой и сказал:
– Это – Уваров, Петр Алексеевич, мой друг детства, а это – Лермонтов, Михаил Юрьевич…
– Тоже друг, тоже детства, – с усмешкой вставил Мишель. – Но отчего-то до сих пор мы не знакомы.
Он протянул Уварову свою руку, и тот ее охотно пожал. Кисть у Лермонтова была небольшая, с тонкими пальцами и кожей, имеющей странный желтоватый оттенок.
«И что в нем, интересно, нашла Сушкова? – мимоходом подумал Уваров. – Лопухин на его фоне – настоящий красавец… Неужто он завоевал ее одними сладкими речами?..»
– Так вышло, – пожал плечами Монго. – Нам было лет по пять, когда отец Петра Алексеевича, овдовев, вместе с ним переехал из Петербурга. Но все дороги, как видишь, ведут сюда…
– Судьба, она же фатум, – изрек Лермонтов, кивая. – Нити расходятся, когда нужно, и сходятся обратно, когда придет время.
Он достал из кармана мятую папиросу. Пока ее разжигал, Уваров спросил:
– Вы настолько верите в судьбу?
– А вы что же, нет? – хмыкнул Мишель, смерив собеседника взглядом.
– Я предпочитаю думать, что многое зависит от самого человека, что он – хозяин своей судьбы, а не наоборот, – осторожно произнес Петр Алексеевич.
– Думаешь, он нас видел?
– Да, безусловно. Даже украдкой мне подмигнул. Он явится, и очень скоро, увидишь: танец, может быть, два, и мы уже будем втроем…
За разговором они прошли к одному из пятнистых диванов, на которых теперь, после окончания игры в шарады, более никто не сидел.
– А что же Сушкова? – разжигая сигару, поинтересовался Уваров.
– А что она?
– Она тоже будет с ним?
– Как знать… надеюсь, что нет, – щуря глаз от плотного дыма, сизым облаком поднимающегося к потолку, отозвался Столыпин.
– Она вам неприятна? – осторожно уточнил Петр Алексеевич.
– А разве может быть приятна гулящая невеста? – усмехнулся Монго.
Тут Уваров окончательно запутался. Если Столыпин понимает, что Катенька ведет себя дурно, то почему не одернет Лермонтова? Или Монго не осуждает Мишеля просто потому, что тот – его друг?
«Как у них тут все сложно…» – подумал Петр Алексеевич.
Маясь, он оглянулся через плечо, на распахнутые двери бальной залы. Там гремел вальс, и пары, черные с белым, кружились в танце. Громко стучали по паркетному полу каблуки; казалось, весь дом подпрыгивает на месте в такт музыке.
Раз-два-три, раз-два-три…
Тут в гостиную вошел растрепанный юноша в помятом сюртуке. Окинув комнату взглядом, он приметил Столыпина и с некоторым облегчением устремился к нему, на ходу воскликнув:
– Монго! Так странно видеть тебя здесь, когда остальные танцуют!
– А вот и наш жених, – шепнул Уварову Столыпин. – Легок на помине…
Поднявшись с дивана, Монго повернулся к Лопухину и с улыбкой воскликнул:
– Мой друг! Какая внезапная встреча!
Они обнялись, но тут же разошлись – Столыпин по-прежнему курил и боялся испортить наряд приятеля.
– А моя Катенька? – спросил Лопухин, отстранившись. – Танцует?
– Все там, – кивнул Монго.
Уваров тоже поднялся с дивана, решив, что сидеть неприлично.
– С Мишелем? – уточнил Лопухин.
Лицо его при этом заметно ожесточилось.
– Послушай, – сказал Монго, снова улыбаясь, но уже не искренне, а вымученно, натужно. – Ну он ведь твой друг. Как и мой. И мы оба знаем, что он просто оберегает ее от других. Только и всего.
Лопухин хотел сказать что-то еще, когда со стороны бальной залы послышались шаги. Все трое – и жених Сушковой, и Уваров с Монго – повернулись на звук и увидели Лермонтова, который вел Катеньку за руку прямиком к ее суженому.
– А вот и вы, – сказал Лопухин, скользнув по товарищу недобрым взором.
– Я тоже рад тебя видеть, – совершенно спокойно произнес Мишель.
Лопухин от злости побледнел. Казалось, быть беде, но тут Катенька отпустила руку Мишеля и, сжав запястье жениха, взмолилась:
– Поедем домой, милый мой, хороший! Мне нездоровится… надеюсь, просто усталость…
Лопухин вздрогнул, недовольно, но с каплей жалости посмотрел на Сушкову и нехотя сказал:
– Что ж, поедем… Господа.
Он кивнул Монго, обжег враждебным взглядом Лермонтова и, ненадолго задержав взор на Уварове, решительно устремился к выходу. Катя висела у него на руке, точно платок, наспех повязанный вокруг запястья – безвольная и податливая, она даже не обернулась к кавалеру, развлекавшему ее весь вечер.
Когда дверь за Лопухиным и Сушковой закрылась, Монго тихо спросил:
– И стоит оно того, Мишель?
– Увидишь, что будет, – с прежней невозмутимостью ответил Лермонтов.
Он покосился в сторону Уварова и невозмутимо предложил:
– Может, вместо этих пустых бесед, лучше представишь мне своего спутника? А то мне, право, неловко… как, надо думать, и ему.
Монго устало вздохнул, покачал головой и сказал:
– Это – Уваров, Петр Алексеевич, мой друг детства, а это – Лермонтов, Михаил Юрьевич…
– Тоже друг, тоже детства, – с усмешкой вставил Мишель. – Но отчего-то до сих пор мы не знакомы.
Он протянул Уварову свою руку, и тот ее охотно пожал. Кисть у Лермонтова была небольшая, с тонкими пальцами и кожей, имеющей странный желтоватый оттенок.
«И что в нем, интересно, нашла Сушкова? – мимоходом подумал Уваров. – Лопухин на его фоне – настоящий красавец… Неужто он завоевал ее одними сладкими речами?..»
– Так вышло, – пожал плечами Монго. – Нам было лет по пять, когда отец Петра Алексеевича, овдовев, вместе с ним переехал из Петербурга. Но все дороги, как видишь, ведут сюда…
– Судьба, она же фатум, – изрек Лермонтов, кивая. – Нити расходятся, когда нужно, и сходятся обратно, когда придет время.
Он достал из кармана мятую папиросу. Пока ее разжигал, Уваров спросил:
– Вы настолько верите в судьбу?
– А вы что же, нет? – хмыкнул Мишель, смерив собеседника взглядом.
– Я предпочитаю думать, что многое зависит от самого человека, что он – хозяин своей судьбы, а не наоборот, – осторожно произнес Петр Алексеевич.